От «росписей из грота» до «гротескного реализма». Франкоязычная рецепция понятия «гротеск» и теории Михаила Бахтина
Понятие гротеск — подстать орнаменту, имя которого носит, — всегда давало простор смелому теоретизированию и вдохновляло ученых на оригинальные концепции. Во Франции и соседних франкоязычных странах за последние пятнадцать лет вышло более двадцати посвященных гротеску монографий, сборников статей, диссертаций и тематических номеров журналов. И все же среди этого изобилия сборнику «Гротеск: теория, генеалогия, фигуры», выпущенному в 2004 году Университетскими факультетами Сен-Луи в Брюсселе, трудно затеряться.
Во-первых, потому, что в его заглавии читается наиболее последовательная попытка синтеза этого сложного и плохо поддающегося упорядочению понятия. Во-вторых — потому, что авторы сборника не обходят вниманием ни один из возможных жанров и ни одну из областей применения гротеска: роман, драму, литературную теорию, эстетику, историю искусства и философию.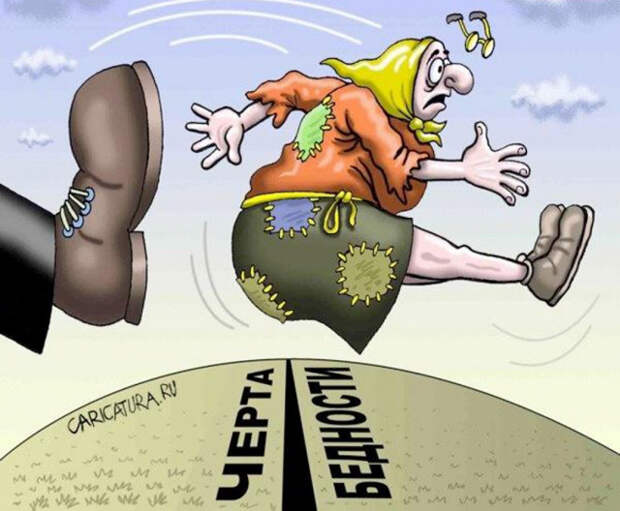 В то время как авторы других монографий и коллективных работ анализируют творчество одного писателя или драматурга, один род литературы или рассматривают какой-либо один аспект понятия
В то время как авторы других монографий и коллективных работ анализируют творчество одного писателя или драматурга, один род литературы или рассматривают какой-либо один аспект понятия
Наконец, ни в одной из ранее опубликованных работ задача определения этого понятия не связана столь тесно с теоретическим наследием Михаила Бахтина. Место русского мыслителя в теории литературного гротеска давно не вызывает вопросов. В предисловии Изабель Ост предупреждает, что ни один из авторов сборника не обошел вниманием концепцию русского ученого и его немецкого оппонента Вольфганга Кайзера.
Понятие гротеск примечательно тем, подчеркивает далее Изабель Ост, что с момента своего появления не перестает привлекать внимание специалистов из самых разных областей: будь то история искусства, эстетика или теория литературы, особенно в критические периоды западноевропейской культуры. При этом, начиная с эпохи Возрождения, гротеск сопротивляется всем попыткам концептуализации. И дело здесь не в капризах и отсутствии должной методичности у историков искусства и литературоведов, а в некоем основополагающем принципе самой категории. Все критики неизменно подчеркивают глубокую амбивалентность гротеска, который как бы пребывает в постоянном напряжении между двумя полюсами. Однако констатация того, что гротеск является эстетической категорией, сразу вызывает череду вопросов: следует ли характеризовать его как стиль, жанр или нечто иное? Авторы брюссельского сборника попытались вычленить концептуальное ядро, вокруг которого формируются различные значения и коннотации понятия, не перестающего порождать всё новые смыслы и интерпретации (с.
Генеалогия понятия
Автор статьи «Грот, grotta, углубление, grottesca, гротеск» Джонатан Руссо констатирует у эрудитов Возрождения «археологическое желание» открыть в обнаруженной под землей античной живописи гротеск в его первоначальном виде, in statu nascendi. Упрямство, с каким все пишущие о гротеске пытаются докопаться до его истоков, подразумевает, что эта «разновидность вольной и потешной живописи, изобретенная в античную эпоху»
рассматривается как жанр.Тем не менее за пять веков изучения гротеска так и не получен ответ на целый ряд вопросов. Кто автор термина? Кто первым обозначил прилагательным «найденный в пещере» диковинные росписи, обнаруженные в 1480 году в «Золотом доме»? Почему гротеск стал источником теоретического вдохновения для специалистов из самых разных областей и дал жизнь концепциям, далеко ушедшим от «пещерной живописи»?
Если судить по работам историков искусств Андре Шастеля и Филиппа Мореля, ставшим во Франции вехами в истории вопроса, термин гротеск искажает восприятие «живописи из грота». Названные авторы видят серьезную помеху в том, что росписи «Золотого дома» дали рождение термину. Упоминая интерпретацию Кайзера, у которого гротеск выступает «квинтэссенцией абсурда», всего кошмарного и дьявольского, выражением страха перед жизнью, и Бахтина, развивающего «понятие гротескного реализма как принципа снижения и нивелирования (sic!)»
Названные авторы видят серьезную помеху в том, что росписи «Золотого дома» дали рождение термину. Упоминая интерпретацию Кайзера, у которого гротеск выступает «квинтэссенцией абсурда», всего кошмарного и дьявольского, выражением страха перед жизнью, и Бахтина, развивающего «понятие гротескного реализма как принципа снижения и нивелирования (sic!)»
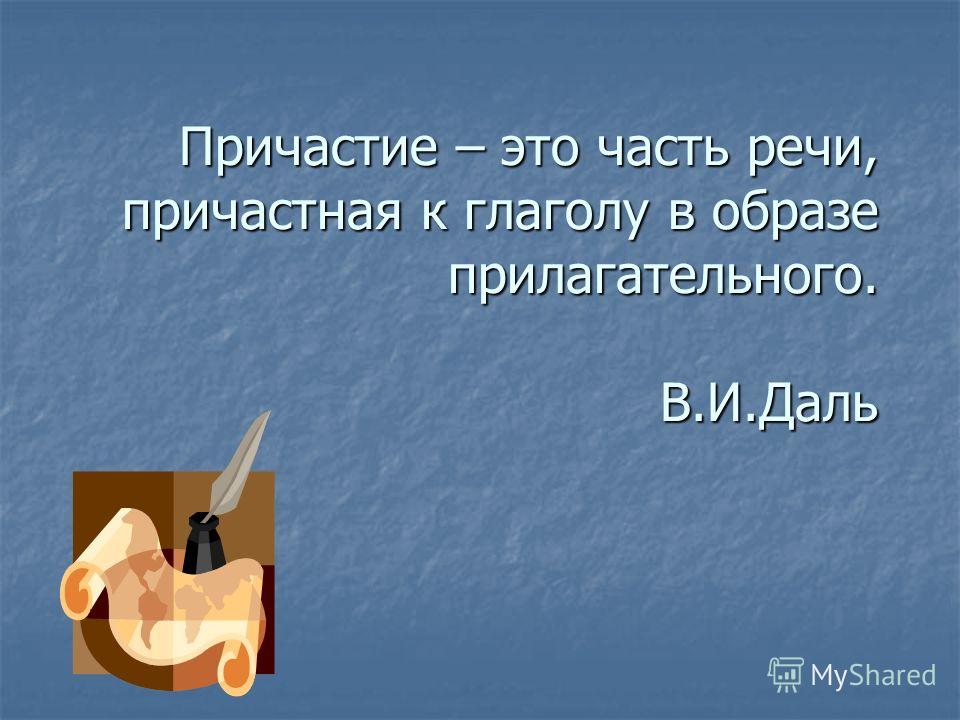
Джонатан Руссо отмечает странную ситуацию, когда историки искусства считают этот термин «неуместным» для их области исследования (уже Бенвенуто Челлини отзывался о нем как об «абсолютно неадекватном») и в целом не дотягивающим до уровня теоретической лексики. Создается впечатление, что Шастель и Морель прикладывают немало сил, чтобы доказать: гротеск Бахтина и Кайзера и «живопись из грота» — две абсолютно разные реальности. Но и это не все: они пытаются убедить читателя, что grottesca вовсе не гротескна (с. 48). Для этого Шастель, например, вводит в оборот через Челлини (именно он был научным редактором перевода на французский мемуаров художника) термин grottesque, альтернативный grotesque с одним «t». С его помощью искусствовед надеется обойти неадекватность этой двусмысленной и туманной категории, чтобы остаться один на один с «живописью из грота»: как те археологи, что обнаружили причудливые фрески в 1480 году.
Морель отвергает неологизм коллеги, но и сам, очищая гротеск от лишних наслоений, в конечном итоге отказывается от понятия под предлогом, что оно не объясняет сущности гротескной живописи.
Аллегория и гротеск
В статье «Аллегория и гротеск. Элементы для генеалогии гротеска на основании работ Вальтера Беньямина» Пьер Пире соглашается с Джонатаном Руссо в том, что гротеск — понятие, сопротивляющееся обобщению. В нем заложены две противоположные тенденции: центробежная и центростремительная. Центробежная предполагает некую общность характеристик, свойственных как изобразительным, так и литературным произведениям; центростремительная подразумевает, что в основе понятия лежат определения эстетического (орнамент, центр и маргиналии, искажение законов перспективы и равновесия) и антропологического (гибрид, создание чудовищного, «карнавал» по Бахтину и «редукция» по Кайзеру) порядка (с. 64).
Эта «изначальная стратификация» понятия, считает Пире, исключает возможность выделить одну характерную черту и превращает гротеск в материал для самых неожиданных интерпретаций. Воскресая в различные исторические эпохи, гротеск тем не менее сохраняет общие «принципы преемственности». Одним из таких принципов, по мнению автора, является аллегория — как ее понимал Вальтер Беньямин в работе «Происхождение немецкой барочной драмы».
Воскресая в различные исторические эпохи, гротеск тем не менее сохраняет общие «принципы преемственности». Одним из таких принципов, по мнению автора, является аллегория — как ее понимал Вальтер Беньямин в работе «Происхождение немецкой барочной драмы».
Связей между гротеском и аллегорией Беньямин касается лишь попутно, однако его замечания позволяют осветить новый аспект генезиса гротеска и объяснить разные вехи его истории: например, расцвет понятия в эпоху барокко и его использование Бодлером. Рассматривая различия между аллегориями Средневековья и Нового времени, Беньямин упоминает гротеск как стиль живописи, в котором воплотилась современная аллегория. Гротеск, по его мнению, произошел «от grotta не в буквальном смысле, а от «спрятанного», потаенного, выражением чего и служат пещера и грот»

Интерес эрудитов Возрождения к Античности и иероглифам дает рождение новой теории знака. Иероглифы предстают, по словам Беньямина, как «естественная теология письма». Филипп Морель подтверждает эту мысль в главе «Гротески и иероглифы. Библиотека пармского монастыря Сан Джованни Евангелисты», где приводит многочисленные свидетельства того, что гротескная живопись воспринималась современниками «подобно египетским изображениям, называемым иероглифами»
.По мнению Пьера Пире, выявленная Беньямином «аллегорическая логика» гротеска дает возможность лучше различить некоторые черты понятия. Например, его эволюцию от изобретательной гибридизации, в которой проявляется непрерывность творения, к «умножению и нагромождению». У поэтов барокко, пишет Беньямин, также важно не единство целого, а «нарочитость конструкции».
Другая черта: антиэстетическая и антиидеализаторская направленность гротеска, рассматриваемого через призму «аллегорической логики». В истории ренессансного гротеска эти две тенденции, «ужасающая и прихотливая», будут соседствовать: первая — в творчестве Лукаса Ван Лейдена, Джованни Удине, Альдегревера, вторая — в работах Рафаэля и его школы
 Аллегория — это строго определенная эстетическая категория, значение которой, как и значение символа, берет свое начало в теологии. Гротеск же, отмечает Пьер Пире, не является ни жанром, ни даже стилем, и может определяться лишь в расширительном смысле как совокупность произведений, относящихся к разным областям творчества, но при этом к одному обособленному, вне норм, миру.
Аллегория — это строго определенная эстетическая категория, значение которой, как и значение символа, берет свое начало в теологии. Гротеск же, отмечает Пьер Пире, не является ни жанром, ни даже стилем, и может определяться лишь в расширительном смысле как совокупность произведений, относящихся к разным областям творчества, но при этом к одному обособленному, вне норм, миру.В прочтении Беньямина два понятия оказываются связаны, так как относятся к одному типу знаковой логики. Обозначенная философом перспектива указывает, в чем именно барочная аллегория стала «принципом преемственности» для античного гротеска и открыла путь его романтической интерпретации, одним из видных представителей которой был Бодлер — главный «аллегорик современности», по выражению Беньямина.
Гротеск: «концепт», «жанр», «категория» или «понятие»?
Каждый из этих терминов в строгом смысле к гротеску неприменим, считает Джонатан Руссо, но при этом все они одновременно характеризуют какой-то определенный его аспект. Гротеск гетерогенен, он представляет собой «теоретическое, эстетическое и историческое образование, продуманное в большей или меньшей степени». И употребляя его сегодня, нельзя забывать об утраченном им прошлом и о том, что «никакая этимология и никакая археология не смогут извлечь сущность и содержание гротеска, его еtymon — истину, сохранившуюся вопреки порче и бесцеремонности истории» (с. 50-51). Непродуктивно, по мнению Руссо, разграничивать «художественное происхождение» понятия и его последующие литературные, эстетические и — шире — семантические авантюры.
Гротеск гетерогенен, он представляет собой «теоретическое, эстетическое и историческое образование, продуманное в большей или меньшей степени». И употребляя его сегодня, нельзя забывать об утраченном им прошлом и о том, что «никакая этимология и никакая археология не смогут извлечь сущность и содержание гротеска, его еtymon — истину, сохранившуюся вопреки порче и бесцеремонности истории» (с. 50-51). Непродуктивно, по мнению Руссо, разграничивать «художественное происхождение» понятия и его последующие литературные, эстетические и — шире — семантические авантюры.
Гротеск — одно из тех слов, которые наполнены смыслом, придаваемым им другими. Да и как могло быть иначе в эпоху, когда Челлини объяснял этимологию гротесков? Найденные в «Золотом доме» орнаменты не могли получить в XVI веке ни имени, ни законченного объяснения, так как история искусства тогда просто не существовала (она появится в XVIII веке с Винкельманом). Историки, в свою очередь, смогут понять, что гротескная живопись представляет собой «третий помпейский период» лишь три века спустя с началом масштабных раскопок в Помпеях. Найденный во дворце Нерона орнамент не мог носить в эпоху Возрождения другого названия, кроме как по месту его открытия. Восприятие гротеска могло быть лишь «неясным и сбивчивым», так как не опиралось на исторический фундамент, подчеркивает Руссо. Отсюда всевозможные толкования понятия просто неизбежны.
Найденный во дворце Нерона орнамент не мог носить в эпоху Возрождения другого названия, кроме как по месту его открытия. Восприятие гротеска могло быть лишь «неясным и сбивчивым», так как не опиралось на исторический фундамент, подчеркивает Руссо. Отсюда всевозможные толкования понятия просто неизбежны.
Ответить на вопрос, является ли литературный гротеск стилем или отдельным жанром, пытается и Филипп Вельниц. Автор примечательной монографии о театре Дюрренматта и роли в нем сатиры и гротеска, Вельниц опирается на последние французские работы в этой области. Он отмечает, что очередной всплеск интереса к понятию в литературе во многом связан с именем Бахтина. Благодаря ему критики и теоретики литературы считают гротеск «своим», хотя его этимология и генезис связаны с историей живописи, а никак не с литературой. С самого начала, подчеркивает Вельниц, понятие гротеск и характеризуемый им стиль заключали двойной смысл: ужасного и пугающего, с одной стороны, и комичного — с другой. В 1580 году гротеск переходит в литературную эстетику: опираясь на него, Монтень обосновывает свободную форму своих Опытов. Это объясняет еще одну черту гротескного стиля: его внеположенность норме и сближение с сатирой, которая осмеивает существующий порядок вещей (с. 16).
В 1580 году гротеск переходит в литературную эстетику: опираясь на него, Монтень обосновывает свободную форму своих Опытов. Это объясняет еще одну черту гротескного стиля: его внеположенность норме и сближение с сатирой, которая осмеивает существующий порядок вещей (с. 16).
Исключительная гибкость понятия вызывает необходимость определить его природу, продолжает Филипп Вельниц. Ведь от решения данной задачи зависит область, или, точнее, области применения гротеска.
В литературе — со второй половины прошлого века — особых изменений не наблюдается. На одном полюсе мы видим классическое исследование Вольфганга Кайзера с его тезисами «гротескное — это мир, ставший чужим» и «гротескное есть форма для выражения ОНО», на другом — монографию Бахтина. Последняя, отмечает Вельниц, была разработана раньше теории немецкого коллеги, хотя и стала известна на Западе гораздо позже. Содержащие критику Кайзера страницы весьма органично вписались в первую версию книги о Рабле, так как теоретические построения Бахтина изначально противостояли модернистской интерпретации гротеска. Однако неверно было бы думать, что во французской критике рецепция Бахтина и Кайзера совпадают по времени. Как отмечает Элишева Розен, автор работы о рецепции гротеска во Франции, именно книга Бахтина о Рабле познакомила французских специалистов с исследованием Кайзера; до публикации перевода бахтинской монографии мы не найдем в литературной критике Франции упоминаний немецкого теоретика.
Однако неверно было бы думать, что во французской критике рецепция Бахтина и Кайзера совпадают по времени. Как отмечает Элишева Розен, автор работы о рецепции гротеска во Франции, именно книга Бахтина о Рабле познакомила французских специалистов с исследованием Кайзера; до публикации перевода бахтинской монографии мы не найдем в литературной критике Франции упоминаний немецкого теоретика.
Следует заметить, что во французском языке разделение гротескного стиля и жанра «гротеск» затруднено. В отличие от русского, существительное и прилагательное здесь омонимы. Жанр «гротеска» и «гротескный стиль» невозможно разделить по модели «жанр трагедии — трагический стиль» или «ирония — иронический стиль». И если «гротескный стиль» поддается анализу через языковые формы выражения и фигуры, то гротеск как жанр, помимо известных сложностей с самим понятием «жанра», требует следующих разъяснений. К гротеску, напоминает Филипп Вельниц, прибегают в основном художники переходных эпох, когда пересматриваются основополагающие ценности мироустройства. Достаточно вспомнить картины Иеронима Босха на исходе Средневековья или произведения писателей периода «Бури и натиска» в Германии. Однако ХХ век составляет в этой картине исключение, так как гротеск в искусстве прошлого столетия утверждается прочно и надолго. К тому же, считает автор, именно драматургия становится «прибежищем» гротеска и применительно к ней можно говорить о гротеске как жанре.
Достаточно вспомнить картины Иеронима Босха на исходе Средневековья или произведения писателей периода «Бури и натиска» в Германии. Однако ХХ век составляет в этой картине исключение, так как гротеск в искусстве прошлого столетия утверждается прочно и надолго. К тому же, считает автор, именно драматургия становится «прибежищем» гротеска и применительно к ней можно говорить о гротеске как жанре.
С Вельницем согласны большинство авторов сборника, посвятивших статьи театру. Эту точку зрения разделяют и ведущие драматурги ХХ века, уверенные в том, что гротеск заменил собой трагедию. Фридрих Дюрренматт замечает в теоретических эссе, что трагедия подразумевает ошибку, страдание, меру, ответственность, а в путанице нашего века больше нет ни виновных, ни ответственных, и только комедия может еще воздействовать на нас. Ян Котт в известнейшей книге «Шекспир — наш современник» не менее категоричен, утверждая, что гротеск — это античная трагедия, написанная заново и в другом тоне. Наконец, Эжен Ионеско в «Записках за и против» считает, что трагическое в наши дни может родиться только из комедии: «Комедия, — пишет он, — кажется мне более безысходной, чем трагедия. Комичность не имеет выхода».
Наконец, Эжен Ионеско в «Записках за и против» считает, что трагическое в наши дни может родиться только из комедии: «Комедия, — пишет он, — кажется мне более безысходной, чем трагедия. Комичность не имеет выхода».
Создается впечатление, резюмирует Вельниц, что театр ХХ века пытается гротеском заполнить пустоту, образовавшуюся после того, как трагедия окончательно устарела.
Гротеск и пространство
Особым отношениям гротеска с пространством посвящена статья теоретического раздела «Гротескная игра или разбитое зеркало». Автор Изабель Ост подчеркивает, что ее анализ опирается преимущественно на драматические произведения, так как именно в драме ХХ века «гротеск и присущая ему пространственность играют основополагающую роль» (с. 29). Она цитирует один из двух выделенных Андре Шастелем законов гротеска: отрицание пространства, основанного на линейной перспективе, и создание пространства особого типа, где царит невесомость, а не законы тяготения, где предпочтение отдается вертикали, а не горизонтали, и где единого центра нет вовсе. Изабель Ост сопоставляет эту черту художественного гротеска с одним из положений «экзистенциального анализа» Людвига Бинсвангера, согласно которому человеческое существование также имеет пространственную конфигурацию с горизонтальной и вертикальной осями.
Изабель Ост сопоставляет эту черту художественного гротеска с одним из положений «экзистенциального анализа» Людвига Бинсвангера, согласно которому человеческое существование также имеет пространственную конфигурацию с горизонтальной и вертикальной осями.
Нарушение равновесия между ними влечет за собой «антропологическую диспропорцию». Если доминирует вертикальная ось, ослепленный идеалом человек забывает обо всем: о себе самом, о разнообразии жизни. Не таков ли, задается вопросом автор, трагический герой, чье падение неминуемо, ибо зов трансцендентности заглушает в нем голос разума? Комическое же, продолжает Изабель Ост, опираясь на этот раз на швейцарского филолога Эмиля Стайгера и его «Основополагающие концепции поэтики», противопоставляет неминуемому падению трагического героя другой исход. Герой, которого мы считали потерянным в высотах абсолюта, возвращается в обычную систему координат, на горизонтальную ось, вызывая смех подобным кульбитом.
Гротеск оказывается в самом центре этой проблематики — и как эстетическая категория, и как антропологическая характеристика. Две известные теории литературного гротеска каждая по-своему подтверждают изначально присущую этому явлению амбивалентность. Гротеск существует на стыке комического и трагического, и любое гротескное произведение, не разделяя их полностью, усиливает напряжение между полюсами комизма и трагизма (с. 31-32). Таким образом, гротеск нарушает еще один принцип расположения в пространстве — симметрию.
Две известные теории литературного гротеска каждая по-своему подтверждают изначально присущую этому явлению амбивалентность. Гротеск существует на стыке комического и трагического, и любое гротескное произведение, не разделяя их полностью, усиливает напряжение между полюсами комизма и трагизма (с. 31-32). Таким образом, гротеск нарушает еще один принцип расположения в пространстве — симметрию.
Снова ссылаясь на Бинсвангера, Изабель Ост подчеркивает важность симметрии в пространственной системе человека, для которого искажение этого «высшего организующего мир принципа» — случись это в физической, психической или духовной сферах, означает угрозу для жизни и «близость смерти». Но именно этим и занимается гротеск: он разбивает отражающее симметричный миропорядок зеркало, затрагивая один из основополагающих жизненных принципов — источник равновесия и пропорциональности внутри и вовне человека, а также — основу рациональности и меры (с. 32).
Гротеск, в отличие от трагической и комической развязки, не предусматривает восстановления попранного равновесия между вертикальной и горизонтальной осями.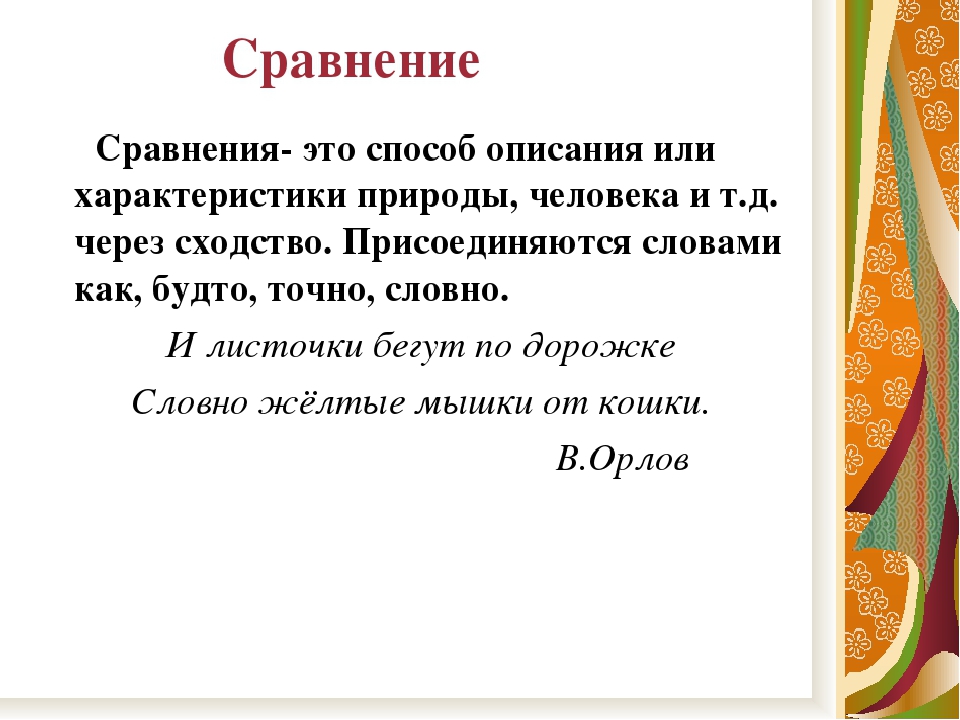 Напротив, отмечает Изабель Ост, он усугубляет «антропологическую диспропорцию». Подрывной потенциал гротеска заключается в отказе от всякой меры и нормы: он изобличает избыток рационализма в трагическом, доводит до абсурда присущее этому роду искусства стремление к абсолюту.
Напротив, отмечает Изабель Ост, он усугубляет «антропологическую диспропорцию». Подрывной потенциал гротеска заключается в отказе от всякой меры и нормы: он изобличает избыток рационализма в трагическом, доводит до абсурда присущее этому роду искусства стремление к абсолюту.
Справедливо отмечая такую особенность гротеска как постоянный выход за установленные рамки, непрерывное сомнение во всем, что готово отлиться в непреложный закон, Изабель Ост приводит вторую характерную черту гротеска по Андре Шастелю: «слияние биологических видов», «освобождение от миропорядка, которым правит разделение». Она цитирует Филиппа Мореля, который отмечает, что гротеск подражает природе лишь в одном: в «неисчерпаемости творческих возможностей, которую знанию не под силу объять целиком» (с. 36). Гротеск, продолжает Ост, предстает антитезой эстетике изображения наличной действительности с присущими ей нормами пространственной перспективы и разграничения видов. Свойственная гротеску пространственность подрывает это классическое видение вещей, что особенно проявляется в театре.
«Парадоксальное ядро» гротеска, по мнению Изабель Ост, заключается в неисчерпаемой способности порождать новые формы, которую не может истощить никакое готовое изображение. Гротеск превосходит то, что можно представить, и касается таким образом «непредставимого». Не ту же цель — сделать невидимое видимым — преследует и драматическое искусство?
Интерпретируя Бахтина
Раздел «Основные фигуры», призванный конкретными примерами подкрепить или опровергнуть выкладки теоретической части сборника, включает в себя семь статей. Четыре посвящены гротеску в драматическом искусстве: произведениях Клоделя и Одиберти, Кольтеса, Жене, а также образу Гитлера в театре Брехта, Мюллера, Табори и Калиски. Три других анализируют различные аспекты понятия на материале прозы: новеллы Клейста «Михаэль Кольхаас», романов «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Печаль Бельгии» Клауса и «Широкое поле» Грасса.
Если теоретические статьи сборника без исключения представляют собой интересные образцы анализа, то ряд статей-интерперетаций — и, прежде всего, «Клодель, Одиберти и театральный гротеск» Танги Ложе, ограничиваются тем, что натягивают надерганные без видимой системы цитаты из Бахтина и Кайзера на свой корпус текстов.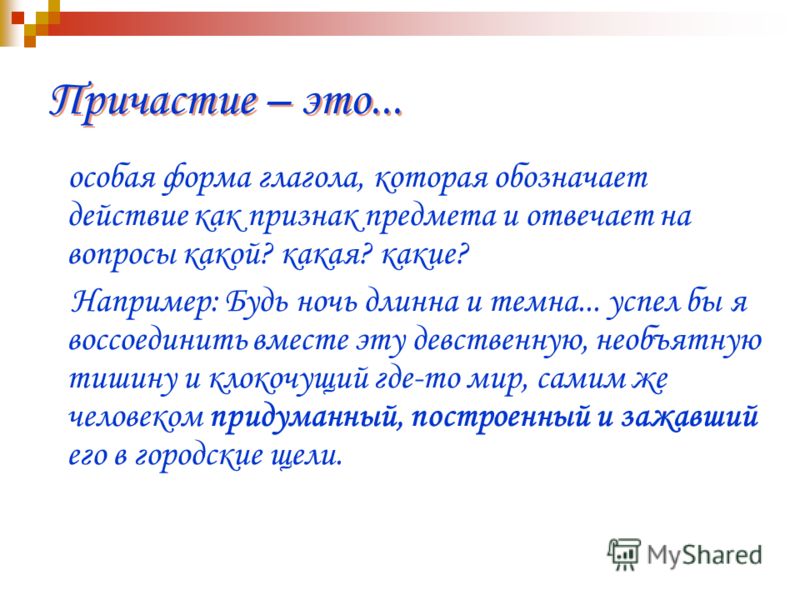 Ложе обозревает в хронологическом порядке пьесы Клоделя и Одиберти, произвольно выявляя в них то «скатологический регистр», то «дионисийскую жестокость», то слова фамильярного площадного языка. Теория Бахтина оказывается растащенной на несколько мотивов и фигур, которые механически примеряются к произведению без малейших биографических, исторических или теоретических на то оснований.
Ложе обозревает в хронологическом порядке пьесы Клоделя и Одиберти, произвольно выявляя в них то «скатологический регистр», то «дионисийскую жестокость», то слова фамильярного площадного языка. Теория Бахтина оказывается растащенной на несколько мотивов и фигур, которые механически примеряются к произведению без малейших биографических, исторических или теоретических на то оснований.
Многие французские интерпретаторы, говоря о «гротескном реализме» Бахтина, не ощущают, по всей видимости, его специфики и постоянно заменяют гротеск на «бурлеск» и другие близкие термины. Так, Ложе характеризует первую версию «Протея» одновременно как «неумеренное шутовство», «настоящее цирковое представление» (слова самого Клоделя) и «дионисийский восторг». Говоря об «Атласном башмачке», он признается: «Критика охотно говорит о шутовстве, фарсе, гротеске или бурлеске, предпочитая, пожалуй, последний термин и особо не заботясь об определении специфики каждого из названных терминов по отношению к остальным» (с. 101-102). Похоже, однако, что констатация этого методологического недостатка не сильно расстраивает автора.
101-102). Похоже, однако, что констатация этого методологического недостатка не сильно расстраивает автора.
В целом статья Ложе — хрестоматийный пример французской рецепции наследия Бахтина, начало которой положила Юлия Кристева. Именно она первой создала оригинальную амальгаму из основных терминов русского мыслителя, в которой теория полифонического романа произвольно сочеталась с теорией карнавализации в литературе. Следуя ее примеру, Ложе вдруг вспоминает о «мениппейной традиции», говоря о пьесе Одиберти «Всадник-одиночка». Однако автор не поясняет, как с мениппейной традицией связан «театральный гротеск», которому он посвятил статью. И хотя в драматургии Одиберти действительно есть карнавальные сцены, например, битва Карнавала и Поста в пьесе «Немота в теле» (La Fourmi dans le corps), анализ Танги Ложе практически не поднимается с уровня описания до полноценного синтеза.
Трудно избавиться от ощущения, что теории Бахтина и Кайзера — лишь кубики в паззле, который составляет по своей прихоти критик: они взаимозаменяемы и в целом необязательны. Подобных анализов, к счастью, становится все меньше во французской литературной критике. Период моды на Бахтина уступил-таки место вдумчивому разбору сильных и слабых сторон его «карнавальной» и других концепций.
Подобных анализов, к счастью, становится все меньше во французской литературной критике. Период моды на Бахтина уступил-таки место вдумчивому разбору сильных и слабых сторон его «карнавальной» и других концепций.
«Эсперпенто» — еще один взгляд на гротеск
Прояснению отношений гротеска и трагического в современной драматургии посвящена статья Мюриэль Лазарини-Доссан на материале одной из самых скандальных пьес в истории послевоенного французского театра — «Ширмы» Жана Жене. Автор анализирует ее через призму теории «эсперпенто» испанского романиста и драматурга Рамона дель Валье-Инклана. Лазарини-Доссан не ссылается при анализе гротеска ни на Бахтина, ни на Кайзера, что и понятно: Валье-Инклан сформулировал свою концепцию гораздо раньше, в самом начале двадцатых годов. При этом некоторые тезисы испанского драматурга напоминают те или иные положения немецкого и русского теоретиков, да и сама Лазарини-Доссан явно знакома с карнавальной теорией Бахтина.
Esperpento означает на испанском «урод, посмешище» и определяется как драматическое произведение, которое выражает трагическое мировоззрение, выводя при этом на сцену гротескных персонажей и искажая классические нормы, а также как новая эстетика, предполагающая преодоление страдания и смеха, сходное с «разговорами мертвых, рассказывающих друг другу истории живых». В античности, объясняет Валье-Инклан, шли от трагического к трагическому. В изобретенном им жанре также ищут трагическое, но чтобы его достичь, прибегают к комическому. В целом существуют три эстетические перспективы, три художественных взгляда на мир: с коленей, лицом к лицу и свысока. Первая характеризует эпос, вторая — шекспировкую трагедию, а третья — «эсперпенто», когда автор и зритель находятся над воображаемыми персонажами, смотрят на них сверху вниз. Эпической перспективе свойственно восхищение героями, шекспировской — отождествление себя с ними, «эсперпенто» отличает ирония.
В античности, объясняет Валье-Инклан, шли от трагического к трагическому. В изобретенном им жанре также ищут трагическое, но чтобы его достичь, прибегают к комическому. В целом существуют три эстетические перспективы, три художественных взгляда на мир: с коленей, лицом к лицу и свысока. Первая характеризует эпос, вторая — шекспировкую трагедию, а третья — «эсперпенто», когда автор и зритель находятся над воображаемыми персонажами, смотрят на них сверху вниз. Эпической перспективе свойственно восхищение героями, шекспировской — отождествление себя с ними, «эсперпенто» отличает ирония.
Многие элементы пьесы Жене действительно поддаются прочтению в рамках теории Валье-Инклана: от декораций (в финальной картине действие происходит на семи сценических площадках, разделенных на три этажа, где мертвые сверху следят за поступками живых), до соотношения комического и трагического. Касаясь места гротеска в этой теории, испанский драматург пишет: «В жизни есть люди, которые несут в себе трагедию, но неспособны на возвышенный образ действия, что парадоксально делает их гротескными».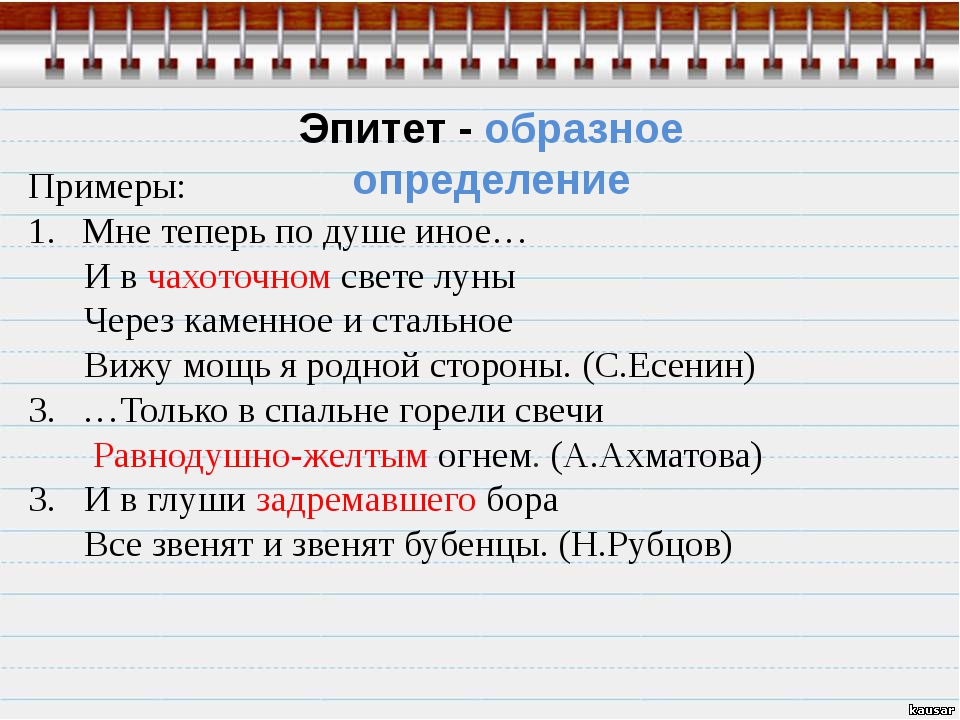
Ключевым моментом, подчеркивает Лазарини-Доссан, выступает не «возвышенное отношение к действительности протагонистов классической драмы», а «физическая высота» (с. 139). У Жене мать Саида каждый раз надевает высокие каблуки в трудной ситуации, занимая тем самым положение, с высоты которого она может противостоять властям (выставив за дверь судебного исполнителя, явившегося забрать за долги ее лачугу) и человеческим горестям (на похоронах мужа она видит себя на вершине башни, откуда боль потери кажется меньше, — с. 140-141). Мертвые у Валье-Инклана свысока смотрят на живых и их «истории», как кукловод на марионеток. Настойчивый образ марионеток не может не напомнить положение Кайзера, для которого этот мотив является одним из проявлений «ОНО» — чуждой, нечеловеческой силы, управляющей людьми и их поступками.
В той или иной форме тема высоты присутствует не только в теории художественного гротеска, но и в основных литературных концепциях этого явления. У Шастеля гротеск в живописи побеждает земное тяготение и, устремляясь ввысь, противопоставляет ему невесомость. У Бахтина «гротеск освобождает от всех тех форм нечеловеческой необходимости, которые пронизывают господствующие представления о мире», то есть от всего того, что придавливает человека к земле, мешая ему освободиться и воспарить в «особой веселой вольности мысли и воображения».
Второй важный момент, в котором Валье-Инклан сходится больше с Бахтиным, нежели с Кайзером, — это роль смеха. Смех в авторских ремарках «Ширм», отмечает Лазарини-Доссан, неотступно преследует некоторых персонажей, прежде всего мать Саида. Он вместе с физическим возвышением выступает силой, способной преобразовать реальность. Если смеяться до слез, слезы изменяют вид окружающей горестной действительности. Саиду хочется плакать, так как он собирается жениться на самой некрасивой девушке на свете и несет ей пустой чемодан приданого, но его мать, потешаясь над ситуацией с высоты неизменных каблуков, меняет его отношение к происходящему. В финале, когда почти все персонажи переберутся «за ширмы», в царство мертвых, оно окажется сборищем весельчаков. Параллель с веселым адом Рабле и проанализированным Бахтиным средневековым «образом веселой смерти» напрашивается сама собой. Да и смерть оказывается в конце концов лишь легким жестом, которым Хадиджа, мать Саида и многие другие прорывают бумажную ширму, переходя в царство мертвых. Не подчеркивал ли Бахтин, полемизируя с Кайзером, что «противопоставление жизни и смерти <…> совершенно чуждо образной системе гротеска»?
Единственным персонажем, для которого не находится места в веселом царстве мертвых, — это Саид, так как ему одному не удается подняться и посмеяться над событиями и своими чувствами. Образ Саида, по мнению Лазарини-Доссан, «выносит окончательный приговор эстетике «чистого» трагизма» (с. 164). Но и чистого комизма в пьесе нет: комическое неизбежно ведет к трагическому и лишь оно делает возможным созерцание трагического. Подобная присущая «эсперпенто» перспектива и объясняет шокировавшее многих вольное отношение к войне. Смеющимся с верхнего этажа мертвым, считает Лазарини-Доссан, удается «стать свидетелями разгула насилия, не входя в его замкнутый круг, не разделяя его логику, а напротив, заменив подобное соотношение сил другим: смехом, который ставит всех на равную ногу» (с. 165). И здесь снова идеи Валье-Инклана, Жене и Лазарини-Доссан сходятся с теорией Бахтина: «Гротеск, — пишет тот, — раскрывает возможность совсем другого мира, другого миропорядка, другого строя жизни». Наверное, поэтому и смеются мертвые в «Ширмах»: сверху им виден тот, другой мир, где «человек возвращается к себе самому». При этом «Ширмы», в полном согласии с теорией Валье-Инклана, остаются в регистре трагикомического, ведь, по мнению Жене, магия трагедии заключается во «взрыве хохота, обрываемом рыданием, возвращающим нас к источнику всякого смеха — к мысли о смерти».
Гротеск как средство против цензуры
Русская литература также дает основание для размышлений о гротеске в сборнике Брюссельского университета. Жинетт Мишо исследует, как гротеск в романе «Мастер и Маргарита» позволяет обойти цензуру. Как известно, цензура изъяла из романа несколько десятков страниц: в некотором роде фразы-«громоотводы», включенные Булгаковым, чтобы ценой этой жертвы сохранить остальной текст. Но главной защитой от цензуры, считает Жинетт Мишо, был сам выбор гротескной фантастики, недаром роман «Мастер и Маргарита», пусть и с купюрами, но был опубликован в СССР в шестидесятые годы. В основе жанровой и стилевой «стратегии» Булгакова — протест против диктата сталинской эпохи в области культуры и политики, воспевание немеркнущей силы искусства, свободы мысли и творческого воображения.
В московских главах подрывной потенциал гротеска создает иную реальность, которая одновременно подражает повседневному ужасу сталинского режима и развенчивает его. Воланд имитирует и примеривает различные личины, которыми прикрывается режим, обнажая его сущность: неудержимую волю к власти. Вмешательство демонических сил лишает режим окружающего его ореола страха и молчания, а поборников социалистического реализма — привычных ориентиров. Благодаря фантастическому гротеску, пишет Жинетт Мишо, становится возможным выразить страшную правду о физических и психических страданиях людей, о которых по-другому сказать было нельзя.
Булгаковская фантастика мановением руки заставляет исчезнуть наводящую ужас действительность, не без аллюзий на реальные исчезновения людей в годы «большой чистки». А сам Булгаков, считает Жинетт Мишо, находит эстетические средства, дающие ответ на вопрос: как говорить о неизмеримых страданиях людей, как вообразить невообразимое? Его роман оказывается предтечей тех проблем, что встанут перед искусством после Освенцима. Именно в этом проблематика «Мастера и Маргариты» оказывается близка, по мнению автора, жизнеутверждающему пафосу бахтинской теории «гротескного реализма». Гротескная фантастика дает возможность другого финала, она заполняет пустое пространство, образовавшееся после трагической гибели Мастера и Маргариты. Она приносит возвышенное утешение героям перед лицом беспощадной судьбы и отвечает на мольбу, адресовать которую некому, потому что признания жертв в их страданиях лишь укрепят бесчеловечную власть, от которой бессмысленно ждать пощады (с. 172-173).
Теория романа Бахтина, считает Жинетт Мишо, а также его концепция «карнавализации» дает теоретический аппарат для анализа булгаковского гротеска, который буквально ловит режим и его господствующую риторику на слове, при этом переворачивая все с ног на голову. Например, название первой главы «Никогда не разговаривайте с неизвестными» отсылает к плакату 30-х годов, эпохи борьбы со шпионами. Заглавие оказывается разом ироническим и полным серьезности, так как не прислушавшиеся в предупреждение Берлиоз и Иван Бездомный вступают в разговор с самим дьяволом, в результате чего один теряет голову в переносном смысле, а другой — в буквальном. Персонажи, погибающие от рук нечистой силы, получают ту смерть, в которую верили: ждущие вместо загробной жизни Ничто получают это Ничто, и Сатана выпивает их кровь из чаши, сделанной из их же черепов. Так на всех уровнях повествования гротескная фантастика и жестокая реальность переплетаются, порождая и освещая друг друга изнутри, как в ленте Мебиуса, центр которой — Воланд собственной персоной, заключает Жинетт Мишо (с. 177).
Политический гротеск
По мнению Сержа Горьели из Центра изучения современного театра при Католическом университете Лёвена наиболее перспективным подходом к гротеску и, особенно, к объяснению его успеха на современной сцене является «реалистический» подход. Он состоит в том, что гротеск рассматривается в качестве «миметического изображения нашего мира», а гротескный способ выражения — как отражение этой гротескной вселенной (с. 179). Так смотрел на проблему еще Дюрренматт, писавший в 1955 году, что гротеск — это «ощутимый парадокс, а именно: форма бесформенного, лицо безликого мира».
Всегда ли гротескная реальность может быть выражена в гротескной художественной форме? Фигура Адольфа Гитлера, по мнению критика, дает возможность ответить на вопрос, опираясь на материал четырех пьес: «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» Бертольда Брехта, «Майн Кампф. Фарс» Джорджа Табори, «Германия. Смерть в Берлине» и «Германия 3» Хайнера Мюллера и, наконец, «Безрассудный Джим» современного бельгийского автора Рене Калиски.
В отличие от других диктаторов ХХ века (Сталина, Мао или Франко) гитлеровский образ сумасшедшего, виновного в разжигании Второй мировой войны, обуреваемого жаждой власти и животной ненавистью к евреям, жестикулирующего как марионетка во время выступлений и изрыгающего слова с пеной на губах, вызывает не только отвращение, но и смех. Достаточно вспомнить многочисленные карикатуры на Гитлера, начиная с «Великого диктатора» Чаплина. Для историков Гитлер также представляет уникальный случай, когда один и тот же человек сперва предстает безнадежным неудачником, потом чуть ли не гением и, наконец, убийцей, отправившим на смерть миллионы. Нетрудно заметить, отмечает Горьели, что восприятие исторического персонажа Гитлера и его чудовищных поступков соответствует определению «трагического» гротеска, данного Кайзером. У последнего речь идет о различных «формах распада: упразднении категории вещи, разрушении концепции личности, раздирании на клочки исторического порядка». Что же касается другого «полюса» гротеска — бахтинской интерпретации, — то, на первый взгляд, трудно приложить ее к гитлеризму, считает Серж Горьели. Однако некоторые из рассматриваемых драматургов выбрали именно такой подход.
Возьмем, к примеру, «Карьеру Артуро Уи». С самого начала критики отмечали, что комизм пьесы нередко вызывает ужас. Это согласуется с кайзеровским видением явления, хотя Брехт использует ряд гротескных приемов, чтобы разрушить почтение к так называемым великим историческим деятелям. Далее, это является составной частью «эффекта отчуждения» и борьбы Брехта со сценическими иллюзиями. Однако желание «разрушить почтение к убийцам» в случае с «Артуро Уи» продиктовано скорее политическими, нежели художественными мотивами: выставить «на посмешище великих политических преступников», демистифицировать Гитлера и вызвавшую его к жизни капиталистическую систему. Наличие ряда гротескных приемов само по себе не делает «драматическую притчу» Брехта гротескной. К тому же немецкий драматург никогда не употреблял этот термин применительно к своему произведению, предпочитая ему «притчу», «сатиру» и «пародию». «Карьера Артуро Уи», по мнению Сержа Горьели, относится к сатирическому жанру, но содержит элементы гротескного стиля, направленного на демонстрацию изначально заданного постулата: нацизм — высшая стадия эволюции капитализма. Этим объясняются обвинения пьесы в «упрощении» и «наивности» (с. 185-186).
Принадлежность произведения Джорджа Табори «Майн Кампф. Фарс» к гротескному жанру, причем в его бахтинском прочтении, более явна для критиков. Они неоднократно отмечали его «карнавальный, неисчерпаемой силы смех» и «скандальное ниспровержение Истории в телесный низ». Но несмотря на избыток комических эффектов, в том числе еврейских шуток, трудно с уверенностью утверждать, что пьеса выходит за рамки простого фарса и поднимается до гротеска.
Зато диптих Хайнера Мюллера «Германия» и «Германия 3» представляет, по мнению Горьели, образец яркого гротеска, доходящего до клоунады и ярмарочного балагана. В первой пьесе Гитлер появляется в картине под названием «Святое семейство». Геббельс на сносях при помощи повитухи Германии рожает ФРГ. Младенец явно неполноценен, и пока Геббельс отдается пляске Святого Витта, Гитлер привязывает повитуху к пушечному дулу и стреляет. Пьеса — единственная из четырех, считает Горьели, гротескна от начала до конца: будь то художественные приемы или композиционная структура. Гротеск ее явно комический, бахтинский. Чего нельзя сказать о «Безрассудном Джиме» Калиски. Это история сорокалетнего еврея Джима, травмированного холокостом и пытающегося в своих фантазиях заново прожить историю нацизма: его идеологов, самых гнусных палачей и людей, близких Гитлеру. Мы не найдем здесь гротескных преувеличений и буффонады, а скорее — кайзеровские «нечеловеческие силы», мучающие героя-жертву. Гитлер в его воображении предстает Ричардом III XX века: он демиург, а сам Джим — пыль у его ног. Именно в этом, по мнению Горьели, проявляется гротеск пьесы. В этом же, кстати, состоит и главная трудность при ее постановке, объясняющая неловкость режиссеров, которые отказывались ставить «Безрассудного Джима» при жизни Рене Калиски.
Будет ли фигура Гитлера и дальше вдохновлять современных драматургов и на что именно, задается вопросом Серж Горьели. Гитлер как исторический персонаж необязательно трактуется в гротескном ключе, даже если некоторые из использованных драматургами художественных приемов относятся к данному типу образности. Гротеск не всегда способен дать ответ на, казалось бы, требующую гротескного освещения историческую реальность. Брехт и Табори потешаются над условностями драматургии и человеческого общества и ставят под сомнение смысл истории, тогда как Мюллер и Калиски задаются вопросом о самой идеологии нацизма и причинах ее живучести, не исключая ее возможного возрождения. Но всегда ли то, над чем смеются авторы, действительно вызывает смех? И наоборот: декларированная серьезность (копание в психологии жертвы и использование подлинных реплик Гитлера в случае Калиски) не является ли той же игрой? Может быть, именно в способности не оставлять нас равнодушными, заставлять сомневаться в уместности самих затрагиваемых тем и заключается интерес, очарование и тайна типа художественной образности, называемого гротеском, заключает Серж Горьели (с. 194-195).
Бахтин против Кайзера
С момента выхода «Гротескного в живописи и в литературе» и «Творчества Франсуа Рабле и народной культуры Средневековья и Ренессанса» каждый, кто изучает теорию гротеска, вынужден определяться между двумя основополагающими, но противоположными по смыслу концепциями. Не стали исключением и авторы брюссельского сборника.
Так, заявляя о беспристрастном отношении к работам Бахтина и Кайзера, Филипп Вельниц все же тяготеет к кайзеровской теории. Его интерес к отличающей театр абсурда «редукции языка» неизбежно приводит автора к выводу о том, что «гротеск не несет утешения», что в гротескной картине мира человек сводится к средству для других, а карнавализация представляет собой лишь «карнавализацию ценностей через игру». Вельниц, отмечая, что в наши дни трудно рассматривать понятие гротеска через призму единого и цельного мировоззрения, как то делали в свое время Кайзер и Бахтин, считает необходимым поставить акцент на его «подвижной сущности», его «неопределенности и постоянной изменчивости, слагающихся из разрывов и незавершенностей» (с. 23). Последний тезис оказывается неожиданно близок бахтинскому взгляду на природу искусства в целом и высвечивает, по нашему мнению, органичность понятия гротеск для философской системы русского мыслителя.
Доводы в защиту теорий как Бахтина, так и Кайзера приводит Джонатан Руссо. Росписи заросшего землей «Золотого дома» в Риме (которые можно было рассмотреть лишь при свете лампады, лежа на спине) закономерно показались обнаружившим их непонятными, фантасмагорическими и даже бредовыми. Именно такова трактовка гротеска у Кайзера, да и Бахтин называет его «ночным». Имя русского теоретика в статье не называется, однако, опираясь на тексты латинских критиков гротеска Витрувия и Горация, а также на их ренессансных последователей (Вазари, Альберти, Барбаро, Джилио), Джонатан Руссо утверждает, что во всех критических определениях гротеск отчетливо противостоит классическому стилю. Именно это позволяет прояснить саму идею гротеска: «логика антитезы» неизменно присутствует, пусть и неявно, в каждом из известных определений понятия. Например, у Вазари в трактате О живописи гротеск характеризуется как «категория вольной и потешной живописи», создатели которой «изобретают формы вне всяких правил» (с. 46). Таким образом, пишет Руссо, «необузданность вымысла и хаос» гротеска противостоят «правилам, установленному порядку и сообразности» классики. Не это ли противопоставление «классического и гротескного канона», в основе которого — образ тела, является тезисом бахтинской монографии о Рабле?
Изабель Ост, стараясь сблизить концепции Бахтина и Кайзера, достигает поставленной цели лишь путем приведения гротеска к общему «кайзеровскому» знаменателю. Например, нарушение биологической дифференциации видов, по ее мнению, либо создает «вселенную, заполненную химерами и дивными мечтами, либо порождает боязнь потерять мыслительные ориентиры» (с. 36). В поисках теоретических опор она цитирует Лакана с его «зеркальным образом», Делёза с его «шизофреническим телесным языком» — и доходит до утверждения, заимствованного у последователя названных авторов Элтона Робертсона, что присущее гротеску нарушение телесного равновесия ставит под вопрос его способность порождать смысл. Перед лицом очевидного несоответствия этого прочтения бахтинской теории гротеска, Ост в конечном итоге вынуждена вернуться к отправному постулату своей статьи и развести «комический или карнавальный гротеск» и «трагический, кайзеровский». Первый отличает «необузданное буйство форм» и «триумф гиперболизма», тогда как основу второго составляет, по ее мнению, «разрушение и распад форм, когда под вторжением чужого собственное тело переходит в небытие или застывает в мертвой неподвижности» (с. 37-38).
Гротеск разрушает еще одну присущую трагическому симметрию: между аполлонийским и дионисийским началами, основополагающую для этого вида искусства. Причем разрушает в пользу бога глубин и экстаза Диониса, а не бога поверхности и гармонии Аполлона. Однако, отмечает Изабель Ост, будучи средством выражения чрезмерного, гротеск не выходит за рамки разумного, как дионисийское начало не является синонимом абсолютной иррациональности. Его можно назвать «средством осознанного, разоблачающего разрушения» (с. 34). Эта интерпретация явно отвечает кайзеровскому прочтению гротеска, недаром автор подчеркивает, что в деформации, которой гротеск подвергает привычное, чувствуется «нечто чуждое, враждебное жизни и разрушительное для нее». Однако трудно согласиться с утверждением, что «для гротеска характерно, как в бахтинском, так и в кайзеровском его прочтении, размывание «я», потеря индивидуального сознания» и что он схож с жестокостью, воспеваемой «двумя последователями Диониса: Ницше и Арто» (с. 34-35).
Бахтин, насколько можно судить по опубликованным текстам, не связывал непосредственно тематику гротеска с дионисийским началом. В «Творчестве Франсуа Рабле» бог плодородия и вина упоминается лишь в связи с эпизодом о расправе над Пошеям, но в самом десятистраничном анализе эпизода термин гротеск не встречается вовсе. Другие упоминания Диониса можно найти в ранних работах («Автор и герой в эстетической деятельности», «Записи лекций М. М. Бахтина по истории русской литературы»), однако в связи с совершенно иной проблематикой. Касаясь другой характерной черты анализируемого явления, Изабель Ост интерпретирует его в кайзеровском духе: нарушение установленных границ между растительным, животным мирами и человеческим телом, по ее мнению, представляет собой «трансгрессию». Это одно из ключевых понятий постструктурализма, естественно, не употребляется Бахтиным, хотя он и говорит о том, что «гротескное тело не отграничено от остального мира, не замкнуто, не завершено, не готово, перерастает себя самого, выходит за свои пределы», оно «смешано с миром, смешано с животными, смешано с вещами». Мыслитель неоднократно подчеркивает, что материально-телесное начало в гротескном реализме «глубоко положительное», «универсальное и всенародное», «веселое и благостное».
В ряде замечаний Ост явно чувствуется, так и хочется сказать «подспудное», влияние Бахтина и его тезисов. Ее слова о том, что за притворной фривольностью и легкостью гротеск скрывает нечто существенно важное для понимания природы искусства в целом, а именно: реальность, где изображение не означает повторение, а становление доминирует над бытием, — напоминают положение ученого о том, что «подлинный гротеск менее всего статичен: он именно стремится захватить в своих образах само становление, рост, вечную незавершенность, неготовность бытия» (с. 61).
Не менее примечателен и тот факт, что оба авторитетных французских исследователя художественного гротеска вообще не упоминают Бахтина. Так, в главе «Демон смеха» у Андре Шастеля, где он размышляет над отношениями «безымянного орнамента» и комического в литературе и у Рабле в частности, нет ни слова о русском мыслителе. В результате, попытка дать объяснение сути гротеска через сравнение его графического и словесного воплощений сводится к нанизыванию синонимов: бурлеск, несуразность, буффонада, фатрази, макароническая поэзия, акрофоническая перестановка, — благо французский язык дает неограниченный простор для подобного упражнения. То, что в библиографической рубрике «Интерпретации» историк указывает лишь работу Кайзера, неминуемо приводит к преобладанию романтического и модернистского его прочтений: автор вспоминает только о пугающей стороне явления, забывая о его жизнеутверждающем аспекте.
Филипп Морель в своем объемном и прекрасно документированном исследовании художественного гротеска не упоминает ни Бахтина, ни Кайзера, сосредотачиваясь исключительно на живописи и отказываясь от каких-либо обобщений.
Искать общее
Некоторые из авторов брюссельского сборника призывают не фокусировать внимание на различиях теорий Кайзера и Бахтина, а искать между ними общее.
По мнению Филиппа Вельница, общим является то, что оба ученых интерпретируют гротеск как «форму выражения», некую эстетическую структуру. В то же время они не детализируют как именно осуществляется это » выражение»: в первом случае «демонического ОНО», во втором «народного смеха».
Но наиболее последовательно проводит сравнение двух теорий Лоран Ван Эйнде в статье «Эстетика гротеска и воображаемая организация общества». Автор предлагает рассматривать гротеск с опорой на негативную эстетику, которая признает в художественном произведении самостоятельную силу, сопротивляющуюся любой редукции познания и истины, а потому проявляющейся в категориях отличного, нерешенного и незавершенного в противовес диалектической (в том числе гегельянской и марксистской) модели (с. 81). Его интерпретация, уточняет Ван Эйнде, не имеет ничего общего с постмодернистской эстетикой Дерриды или Лиотара, но близка Франкфуртской школе и работам Адорно. Именно теория последнего раскрывает амбивалентность гротеска с его двумя измерениями: «радикальным отрицанием единого подхода к познанию действительности» и «утопическим динамизмом». Далее, опираясь на Стайгера и Бинсвангера, Ван Эйнде предлагает рассматривать гротеск как «динамичный жанр», в котором эстетическая и антропологическая составляющие неразрывно связаны, что превращает его в особо выразительное средство литературы.
В качестве примера Ван Эйнде берет новеллу Клейста «Михаэль Кольхаас». Главный ее герой — типичный пример нарушения «антропологического равновесия». Вертикаль у него явно доминирует над горизонталью, высокомерие и гипертрофированное чувство справедливости приводят его к попранию законов и основ человеческого общежития, к совершению ужасающих преступлений. Возомнив себя судьей мира сего и представителем на земле Архангела Михаила, Кольхаас уже не видит себе равных. Только призыв Лютера способен вернуть героя с небес на землю, на «горизонтальную ось», убедить его предстать перед людским судом, отказавшись от вершения собственного правосудия. Однако курфюст Саксонский, как известно, не сдержит обещаний: Кольхаас будет схвачен, ему откажут в справедливом разбирательстве. Глубина трагического падения окажется под стать высокомерию героя, главной причине его злоключений.
Гротеск, продолжает Лоран Ван Эйнде, как никакая иная категория дает ключ к интерпретации новеллы Клейста. Но при одном условии: не редуцировать присущую этому понятию амбивалентность. Для этого необходимо отвлечься от различий, которые критики находят в теориях Бахтина и Кайзера.
По мнению Ван Эйнде, следует признать, что возрождающий аспект гротеска (то, что Бахтин называет «гротескным реализмом») и присущее ему искажение форм («трагический гротеск», по Кайзеру) обладают равной силой. Амбивалентность следует искать не внутри карнавальной модели Бахтина, а в напряжении между двумя типами гротеска, при всех отличиях перекликающимися друг с другом, как лицо и изнанка (с. 89-90). Разрушительный потенциал гротеска открывает путь к возрождению: затеянный Кольхаасом кровавый праздник в конечном итоге возвращает общество, погрязшее в войне всех против всех, в рамки закона и долга.
Главное различие между теориями двух ученых сводится к корпусу, продолжает Лоран Ван Эйнде. Для Бахтина именно средневековый и ренессансный карнавал является историческим, антропологическим и культурным первоисточником гротескного стиля в литературе. Благодаря возрождающей силе гротеска отрицание существующих форм неокончательно; через категорию снижения материально-телесный низ оказывается связанным со временем и становлением. Гротеск по-своему воплощает это становление, провозглашая свободу по отношению к существующим общепризнанным формам, разрушая и искажая их. Романтики и с ними Кайзер недооценивают возрождающее начало гротеска, в этом состоит главное возражение им Бахтина.
О пределах бахтинской герменевтики
Завершает сборник статья молодого бельгийского филолога Стефани Ванастен «О пределах бахтинской герменевтики на примере «Печали Бельгии» Хюго Клауса и «Широкого поля» Гюнтера Грасса. Гротескная граница разделов микро- и макроструктуры». Не исключено, что составители сборника поставили ее в конец, расценив именно как общетеоретическое заключение. Темы нашего обзора статья касается непосредственно, так как единственная посвящена исключительно бахтинской теории гротеска. С первой же строки автор заявляет, что в ее задачу не входит кропотливое обобщение всего написанного по теме за последние десятилетия, этим занимается Бахтинский центр в Шеффилде. Ее цель: опираясь на англо- немецко- и фламандскоязычные работы о формальных аспектах гротеска, «подвергнуть критическому анализу бахтинскую концепцию» (с. 217) и предложить к ней ряд поправок.
Многие сцены в романах Клауса и Грасса не раз удостаивались у критиков эпитета «гротескный», причем речь шла о комическом гротеске, что неизбежно приводило этих критиков к цитированию книги Бахтина о Рабле. Но можно ли говорить именно о «концепции гротеска», то есть о построении, применимом к литературе любой эпохи? Применять бахтинскую теорию гротеска к современному роману, убеждена Стефани Ванастен, означает абстрагироваться от наиболее кричащей ее апории: исторической привязки к периоду Средневековья и Возрождения. Построения Бахтина крайне тесно связаны с раблезианским корпусом, что доказывают его неоднократные утверждения о вырождении гротеска и прежде всего его материально-телесного начала уже с Сервантеса. Ученый настолько увлечен вызываемым карнавальным ритуалом «эффектом ниспровержения и разрыва», что ищет модель, которая бы отражала именно этот аспект. Стефани Ванастен соглашается с широко распространенным мнением, согласно которому Бахтин, исходя из личного опыта, заложил в свою интерпретацию гротеска изначальный антагонизм по отошению к любой официальности. Дихотомическое видение гротеска опять-таки диктует выбор эпохи Рабле как наиболее богатой антагонизмами и подталкивает мыслителя к тому, чтобы представить свою теорию как «непреодолимую пропасть» между феодальным классовым обществом и формами народной неофициальной культуры.
Убежденный, что заново открыл суть гротеска, Бахтин намерен при этом сделать из него общетеоретическое понятие, так как существующая литература лишена «теоретического духа». По мнению Стефани Ванастен, ключ к противоречию в аргументации ученого, к его «методологическому парахронизму» заключается в том, что, защищая точную временную укорененность гротеска, он при этом занят обобщающим и всеподчиняющим осмыслением образов и форм народной культуры. Сила и слабость концепции Бахтина, считает исследовательница, в том, что он захотел «собрать разрозненные до того элементы определения понятия», но при этом «догматически объединил их в единое и последовательное «видение мира»» (с. 221).
Попытка приложить «бахтинскую герменевтику» к романам Клауса и Грасса воскрешает бушевавшую не раз полемику о спорности концепции народной смеховой культуры, на основе которой выстраивается понятие гротеска. Оно как через фильтр проходит через изобретенное мыслителем понятие «карнавальности» (вспомним: «Эту эстетическую концепцию мы будем называть — пока условно — гротескным реализмом»). Как и карнавализация, народная культура оказывается идиосинкразической конструкцией, опровергнутой со временем целым рядом исследователей Средневековья.
Подобные злоупотребления в толковании, продолжает Стефани Ванастен, вызваны в немалой степени терминологическим экивоком, который поддерживает сам Бахтин. Он не прочерчивает до конца границы между понятиями «гротескный реализм», «народная культура», «карнавал» и «смех», нередко подменяя в своей аргументации одни термины другими.
Тем не менее установление прочной связи между гротескной образностью и многовековой смеховой традицией является важным вкладом русского ученого в теорию гротеска, считает Стефани Ванастен. Романы Клауса и Грасса, безусловно, примыкают к этой традиции, хотя звучащий в них смех уже не раблезианский, а редуцированный. Но произведения этих писателей не имеют ничего общего с явно марксистским тезисом о всеобщности карнавала, об установлении им равенства и царства фамильярной вольности, отмечает бельгийский критик. Свойственные народной культуре коллективность и универсальность — единственный бахтинский критерий гротеска, который трудно отыскать как в «Печали Бельгии», так и в «Широком поле».
* * *
В российских теоретических работах о гротеске последних лет практически не предпринимаются попытки пересмотреть или дополнить существующие определения понятия. Так, в сборнике «Феноменология смеха: карикатура, пародия, гротеск в современной культуре» из более чем пятнадцати статей лишь одна ставит целью нащупать специфику театрального гротеска современной России. Большинство же авторов оперируют термином «по умолчанию», исходя, видимо, из убеждения о существовании общепринятого, всеми давно разделяемого определения. С этим трудно согласиться.
Один из первых теоретических сборников на французском языке, напечатанный по материалам состоявшегося в 1993 году коллоквиума, назывался «В поисках гротеска». Шестнадцать лет спустя, несмотря на значительные успехи в «гротесковедении», автор новейшей российской диссертации по теме по-прежнему считает, что «теория гротеска еще не вполне завершена». Именно поэтому попытка бельгийских и французских филологов перекинуть мостик между двумя значениями термина и стоящими за ними разнородными реалиями кажется нам особенно ценной. Не менее ценно их желание подвергнуть остранению привычные определения гротеска, чтобы извлечь из них новый смысл и — как знать — сделать шаг к созданию «окончательного, четко структурированного определения» (с. 7) этого вечно ускользающего понятия.
Юлия ПУХЛИЙ
г. Лион, Франция
Гротеск — что это такое? Определение, значение, перевод
Гротеск (ударение на «е») это, в изначальном смысле, художественный приём, в основе которого лежит странное и причудливое сочетание реальности и сказочности, красоты и кошмара, мудрости и безумия. Французское слово «гротеск» происходит от Grot — «пещера». Оно появилось после того, как в XV веке в Риме были найдены странные пещерные изображения, в которых в причудливой форме сочеталось прекрасное и ужасное.Гротеск в литературе это употребление противоречивых, реально-мистических, ужасно-комических и сюрреалистических приёмов, описание искажённой, извращённой и вывернутой наизнанку реальности. Классическим примером гротеска в русской литературе обычно считается сатирическая повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос». В мировой литературе мастером гротеска был Франц Кафка, всё творчество которого пронизано и наполнено мрачным гротеском.
Гротеск в современной музыке это, прежде всего, великий и ужасный Мэрилин Мэнсон. Некоторые элементы гротескного звучания можно встретить в творчестве таких групп как Black Sabbath, Kiss и даже Radiohead.
Вы узнали, откуда произошло слово Гротеск, его объяснение простыми словами, перевод, происхождение и смысл.
Пожалуйста, поделитесь ссылкой «Что такое Гротеск?» с друзьями:
И не забудьте подписаться на самый интересный паблик ВКонтакте!
Гротеск (ударение на «е») это, в изначальном смысле, художественный приём, в основе которого лежит странное и причудливое сочетание реальности и сказочности, красоты и кошмара, мудрости и безумия. Французское слово «гротеск» происходит от Grot — «пещера». Оно появилось после того, как в XV веке в Риме были найдены странные пещерные изображения, в которых в причудливой форме сочеталось прекрасное и ужасное.
Гротеск в литературе это употребление противоречивых, реально-мистических, ужасно-комических и сюрреалистических приёмов, описание искажённой, извращённой и вывернутой наизнанку реальности. Классическим примером гротеска в русской литературе обычно считается сатирическая повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос». В мировой литературе мастером гротеска был Франц Кафка, всё творчество которого пронизано и наполнено мрачным гротеском.
Гротеск в современной музыке это, прежде всего, великий и ужасный Мэрилин Мэнсон. Некоторые элементы гротескного звучания можно встретить в творчестве таких групп как Black Sabbath, Kiss и даже Radiohead.
Гротеск — Grotesque — qaz.wiki
Гротескные мотивы эпохи Возрождения в разных форматах. Декоративная панель, показывающая два отдельных элемента гротеска : сложный узор в виде листа аканта и канделябра, а также отвратительную маску или лицо.По крайней мере, с XVIII века в Италии (на французском и немецком, а также на английском языке) гротеск стал использоваться как общее прилагательное для странного, таинственного, великолепного, фантастического, отвратительного, уродливого, несочетаемого, неприятного или отвратительного и поэтому часто используется для описания странных форм и искаженных форм, таких как маски Хэллоуина . Однако в искусстве, перформансе и литературе гротеск может также относиться к чему-то, что одновременно вызывает в аудитории чувство неудобной причудливости и сочувственную жалость . В частности, гротескные формы на готических зданиях , если они не используются в качестве водостоков, не следует называть горгульями , а, скорее, просто гротесками или химерами .
Английское слово впервые появляется в 1560-х годах как существительное, заимствованное из французского, и происходит от итальянского grottesca (буквально «пещера» от итальянского грота , «пещера»; см. Грот ), экстравагантного стиля древнеримского декоративного искусства. заново открыт в Риме в конце пятнадцатого века и впоследствии скопирован. Впервые это слово использовалось в отношении картин, найденных на стенах подвалов руин в Риме, которые в то время назывались le Grotte («пещеры»). Эти « пещеры » на самом деле были комнатами и коридорами Domus Aurea , недостроенного дворцового комплекса, начатого Нероном после Великого Римского пожара в 64 году н.э., который зарос и зарос, пока не был снова взломан, в основном сверху. Распространенный из итальянского на другие европейские языки, этот термин долгое время использовался в значительной степени взаимозаменяемо с арабесками и мавританами для типов декоративных узоров с использованием изогнутых элементов листвы.
Реми Астрюк утверждает, что, несмотря на огромное разнообразие мотивов и фигур, тремя основными тропами гротеска являются двойственность, гибридность и метаморфоза. Помимо нынешнего понимания гротеска как эстетической категории, он продемонстрировал, как гротеск функционирует как фундаментальный экзистенциальный опыт. Более того, Астрюк определяет гротеск как решающий и потенциально универсальный антропологический прием, который общества использовали для концептуализации инаковости и изменений.
История
Римские фрески в Domus Aurea НеронаРанние образцы римского орнамента
В искусстве гротески представляют собой орнаментальные композиции из арабесок с переплетенными гирляндами и маленькими фантастическими фигурами людей и животных, обычно расположенные симметрично вокруг некоторой формы архитектурного каркаса, хотя это может быть очень хлипким. Такие конструкции были модны в Древнем Риме , особенно в виде настенной росписи фресками и напольной мозаики. Стилизованные версии, распространенные в имперском римском оформлении, были осуждены Витрувием (около 30 г. до н.э.), который, отклонив их как бессмысленные и нелогичные, предложил следующее описание:
Например, камыши заменяют колонны, рифленые отростки с фигурными листьями и завитками заменяют фронтоны, канделябры поддерживают изображения святынь, а на их крышах растут тонкие стебли и завитки с бессмысленно восседающими на них человеческими фигурами.
Дворец императора Нерона в Риме, Domus Aurea , был случайно обнаружен заново в конце 15 века, погребенный за полторы тысячи лет после захоронения. Доступ в останки дворца был сверху, и посетителей нужно было спускать в него с помощью веревок, как в пещере или гроте по-итальянски. Стены дворца, украшенные фресками и изящной лепниной, стали настоящим откровением.
Этимология в эпоху Возрождения
Первое появление слова grottesche появляется в договоре 1502 для библиотеки Пикколомини , прикрепленной к Дуомо из Сиены . Они были представлены Рафаэлем Санцио и его командой художников-декораторов, которые разработали гроттеш в полную систему орнамента на лоджиях, которые являются частью серии комнат Рафаэля в Ватиканском дворце в Риме. «Декорации поразили и очаровали поколение художников, которые были знакомы с грамматикой классических орденов, но не догадывались до того, что в своих частных домах римляне часто игнорировали эти правила и вместо этого приняли более причудливый и неформальный стиль, который был вся легкость, элегантность и изящество «. В этих гротескных украшениях планшет или канделябр могут стать центром внимания; Как заметил Питер Уорд-Джексон, рамки были расширены в свитки, которые составляли часть окружающего дизайна как своего рода эшафот. Легкие прокручиваемые гротески можно было заказать, заключив их в обрамление пилястры, чтобы придать им больше структуры. Джованни да Удине обратился к теме гротесков при украшении Виллы Мадама , самой влиятельной из вилл нового Рима.
Бутылка паломника из майолики с декором в стиле гроттеш , мастерская Фонтана, Урбино , c 1560-70В XVI веке такая художественная распущенность и иррациональность вызывали споры. Франсиско де Холанда ставит защиту в уста Микеланджело в своем третьем диалоге Da Pintura Antiga , 1548:
«это ненасытное желание человека иногда предпочитает обычное здание с его колоннами и дверями, ложно построенное в гротескном стиле, с колоннами, образованными из детей, растущих из цветочных стеблей, с наличниками и карнизами из ветвей мирта и дверными проемами из тростника и другие вещи, которые кажутся невозможными и противоречащими разуму, но это может быть действительно великая работа, если ее выполнит искусный художник ».
Маньеризм
Восторг маньеризма художников и их покровителей в тайных иконографических программах , доступных только эрудированный может быть воплощен в схемах grottesche , Андреа Альчато «s Emblemata (1522) предложил готовые иконографические стенографии для виньеток. Более знакомый материал для гротесков можно почерпнуть из « Метаморфоз» Овидия .
В лоджии Ватикана , лоджия коридор пространство в Апостольском дворце открыто для элементов , с одной стороны, были украшены вокруг 1519 Raphaels «ы большой командой художников, с Джованни да Удином основной руки участием. Из-за относительной незначительности пространства и желания копировать стиль Domus Aurea не использовались большие картины, а поверхности были в основном покрыты гротескными узорами на белом фоне с картинами, имитирующими скульптуры в нишах, и небольшими фигуративными предметами. в возрождении древнеримского стиля. Этот большой массив предоставил репертуар элементов, которые стали основой для более поздних художников по всей Европе.
В капелле Медичи Микеланджело Джованни да Удине сочинил в 1532-33 гг. «Самые прекрасные брызги листвы, розеток и других украшений из лепнины и золота» в сундуках и «брызги листвы, птиц, масок и фигур», но в результате этого не произошло. пожалуйста, папа Климент VII Медичи , но ни Джорджо Вазари , который побелил декор гротов в 1556 году. Писатели , выступавшие против Реформации по искусству, особенно кардинал Габриэле Палеотти , епископ Болоньи, с праведной местью обратились к гроттеше .
Вазари, вторя Витрувию, описал стиль следующим образом:
«Гротески — это разновидность крайне распущенной и абсурдной живописи, написанной древними … без какой-либо логики, так что груз прикреплен к тонкой нити, которая не могла ее выдержать, лошади были сделаны ноги из листьев, а человеку — ноги журавля, с бесчисленным множеством других невозможных нелепостей; и чем причудливее воображение художника, тем выше его оценивали ».
Вазари записано , что Франческо Убертини, называемый «Bacchiacca» , благоволил изобретают grotteschi , и (около 1545) написал для герцога Козимо де Медичи Studiolo в мезонине в Палаццо Веккьо „полный животных и редких растений“. Среди других авторов 16-го века о гротеше были Даниэле Барбаро , Пирро Лигорио и Джан Паоло Ломаццо .
Гравюры, изделия из дерева, книжная иллюстрация, украшения
Между тем, гротескная форма орнамента поверхности через гравюры вошла в европейский художественный репертуар XVI века, от Испании до Польши. Классическая сюита, приписываемая Энеа Вико , опубликована в 1540–1541 годах под вызывающим воспоминания пояснительным названием Leviores et extemporaneae picturae quas grotteschas vulgo vant , «Легкие и импровизированные картины, которые вульгарно называют гротесками». Более поздние версии маньеризма , особенно в гравюре, как правило, теряли эту первоначальную легкость и были гораздо более плотными, чем воздушный стиль с четкими интервалами, используемый римлянами и Рафаэлем.
Вскоре гротеше появился в маркетри (изделия из дерева), майолике, произведенной, прежде всего, в Урбино с конца 1520-х годов, затем в книжной иллюстрации и в других декоративных целях. В Фонтенбло Россо Фьорентино и его команда обогатили словарный запас гротесков, объединив их с декоративной формой ремешков , изображением кожаных ремешков в гипсе или деревянной лепниной, которые образуют элемент гротесков.
От барокко до викторианской эпохи
Гротеск из золотой нити на накладке седла, датируемый 1600–1650 гг.В 17-18 веках гротеск охватывает широкую область тератологии (науки о чудовищах) и художественных экспериментов. Чудовищное, например, часто встречается как понятие игры . Спортивный характер категории гротеска можно увидеть в понятии сверхъестественной категории lusus naturae , в сочинениях по естествознанию и в кабинетах раритетов. Последние остатки романтики, такие как чудесное, также предоставляют возможности для представления гротеска, например, в оперном спектакле. Смешанная форма романа обычно описывалась как гротеск — см., Например, «комическую эпическую поэму в прозе» Филдинга. ( Джозеф Эндрюс и Том Джонс )
Гротескный орнамент получил дополнительный импульс благодаря новым открытиям оригинальных римских фресок и лепнины в Помпеях и других захоронениях вокруг Везувия середины века. Он продолжал использоваться, становясь все более тяжелым, в стиле ампир, а затем в викторианский период, когда дизайн часто становился столь же плотным, как на гравюрах 16-го века, а элегантность и фантазия стиля, как правило, терялись.
Продление срока в искусстве
Художники начали придавать крошечным лицам фигур в гротескных украшениях странные карикатурные выражения, что является прямым продолжением средневековых традиций шутливых украшений в бордюрах или инициалов в иллюминированных рукописях . С этого момента термин стал применяться к более крупным карикатурам, таким как карикатуры Леонардо да Винчи , и стал развиваться современный смысл. Впервые это записано на английском языке в 1646 году у сэра Томаса Брауна : «В природе нет гротесков». Если вернуться назад во времени, этот термин стал также использоваться для средневековых оригиналов, и в современной терминологии средневековые шутки, полу-человеческие виньетки с миниатюрами, нарисованные на полях, и резные фигуры на зданиях (которые также не являются водяными смерчами и горгульями ). также называемые «гротесками».
Бум производства произведений искусства в жанре гротеска характеризовал период 1920–1933 годов в немецком искусстве . В современном искусстве иллюстрации «гротескные» фигуры в обычном разговорном смысле обычно появляются в жанре гротескного искусства , также известного как фантастическое искусство .
В литературе
Одно из первых употреблений термина «гротеск» для обозначения литературного жанра — в « Очерках» Монтеня . Гротеск часто связывают с сатирой и трагикомедией . Это эффективное художественное средство передать зрителям горе и боль, и за это Томас Манн назвал это «подлинным антибуржуазным стилем».
Некоторые из самых ранних письменных текстов описывают гротескные события и чудовищных существ. Литература Мифа была богатым источником монстров; от одноглазого Циклопа (чтобы процитировать один пример) от Теогонии Гесиода до Полифема Гомера в Одиссее . «Метаморфозы» Овидия — еще один богатый источник гротескных трансформаций и гибридных мифических существ. « Искусство поэзии» Горация также дает формальное представление о классических ценностях и об опасностях гротескной или смешанной формы. В самом деле, отход от классических моделей порядка, разума, гармонии, равновесия и формы открывает риск попадания в гротескные миры. Соответственно, британская литература изобилует исконным гротеском, от странных миров аллегории Спенсера в «Королеве фей» до трагикомических форм драмы XVI века. (Гротескные комические элементы можно найти в таких крупных произведениях, как « Король Лир» .)
Литературные произведения смешанного жанра иногда называют гротескными, равно как и «низкие» или нелитературные жанры, такие как пантомима и фарс. Готические сочинения часто содержат гротескные компоненты с точки зрения характера, стиля и местоположения. В других случаях описываемая среда может быть гротескной — будь то городская ( Чарльз Диккенс ) или литература американского юга, которую иногда называют «южной готикой». Иногда гротеск в литературе исследуется с точки зрения социальных и культурных образований, таких как карнавал (-esque) у Франсуа Рабле и Михаила Бахтина . Терри Кастл писал о взаимосвязи между метаморфозами, литературными произведениями и маскарадом.
Другой важный источник гротеска — сатирические произведения 18 века. « Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта предлагает множество подходов к гротескному изображению. В поэзии произведения Александра Поупа дают множество примеров гротеска.
В художественной литературе персонажей обычно считают гротескными, если они вызывают одновременно сочувствие и отвращение. (Персонаж, который сам по себе вызывает отвращение, — просто злодей или монстр .) Очевидные примеры могут включать физически уродливых и умственно отсталых, но также включаются люди с достойными передергивания социальными чертами. Читателя задевает положительная сторона гротеска, и он продолжает читать, чтобы увидеть, сможет ли персонаж победить их темную сторону. В «Буре» Шекспира фигура Калибана вызвала более тонкую реакцию, чем простое презрение и отвращение. Кроме того , в Толкиен «s Властелине колец , характер Gollum может рассматриваться иметь как отвратительно и чуткое качество, которые соответствуют его в гротескный шаблон.
« Горбун из Нотр-Дама» Виктора Гюго — один из самых знаменитых гротесков в литературе. Чудовище доктора Франкенштейна также можно считать гротескным, как и главный герой, Эрик в «Призраке оперы» и чудовище в « Красавице и чудовище» . Другие примеры романтического гротеска также можно найти у Эдгара Аллана По , ЭТА Хоффмана , в литературе « Штурм и натиск» или в « Тристраме Шенди» Стерна . Романтический гротеск гораздо страшнее и мрачнее средневекового гротеска, воспевающего смех и плодородие. Именно в этот момент гротескное существо, такое как чудовище Франкенштейна (в романе Мэри Шелли, опубликованном в 1818 году), начинает более сочувственно изображаться как аутсайдер, ставший жертвой общества. Но роман также делает проблематичным вопрос сочувствия в недобром обществе. Это означает, что общество становится генератором гротеска в процессе отчуждения. Фактически, гротескного монстра во Франкенштейне часто называют «существом».
Гротеск получил новую форму с «Приключениями Алисы в стране чудес » Льюиса Кэрролла , когда девушка встречает фантастические гротескные фигуры в своем фантастическом мире. Кэрроллу удается сделать фигуры менее устрашающими и подходящими для детской литературы , но все же совершенно странными. Эдвард Лир — еще один автор комик-гротесков, игравший на взаимосвязи смысла и бессмыслицы . Юмористическая или праздничная чепуха такого рода уходит корнями в традиции суетливого, напыщенного и сатирического письма семнадцатого века.
В течение девятнадцатого века категория гротескного тела все больше вытеснялась понятием врожденной деформации или медицинской аномалии. Основываясь на этом контексте, гротеск начинает пониматься больше как уродство и инвалидность, особенно после Первой мировой войны 1914–1918 годов. Таким образом, историк искусства Лия Дикерман утверждала, что «вид ужасно расколотых тел ветеранов, вернувшихся в тыл, стал обычным явлением. Сопутствующий рост индустрии протезирования поразил современников как создание расы полумеханических людей и стал важной темой в работе дадаистов ». Поэзия Уилфреда Оуэна демонстрирует поэтическое и реалистичное ощущение гротескного ужаса войны и человеческих жертв жестокого конфликта. В таких стихотворениях, как «Весеннее наступление» и «Великая любовь» образы красоты сочетаются с шокирующей жестокостью и насилием, чтобы создать ощущение гротескного столкновения противоположностей. Подобным образом Эрнст Фридрих (1894–1967), основатель Берлинского музея мира, анархист и пацифист, был автором книги « Война против войны» (1924), в которой использовались гротескные фотографии изуродованных жертв Первой мировой войны, чтобы бороться за мир.
Южная готика — это жанр, который часто ассоциируется с гротесками, и Уильяма Фолкнера часто называют начальником манежа. Фланнери О’Коннор писала: «Когда меня спрашивают, почему южные писатели особенно склонны писать о фриках, я говорю, что это потому, что мы все еще можем распознать их» («Некоторые аспекты гротеска в южной фантастике», 1960 ). В рассказе О’Коннора « Хорошего человека трудно найти », который часто антологизируется , Мисфит, серийный убийца, явно является искалеченной душой, совершенно бессердечной к человеческой жизни, но стремящейся искать правду. Менее очевидный гротеск — это вежливая, заботливая бабушка, не осознающая своего удивительного эгоизма. Еще один часто цитируемый пример гротеска из творчества О’Коннор — ее рассказ под названием «Храм Святого Духа». Американский писатель Раймонд Кеннеди — еще один автор, связанный с литературными традициями гротеска.
Современные писатели
Среди современных авторов литературных гротескных произведений — Ян Макьюэн , Кэтрин Данн , Аласдер Грей , Анджела Картер , Жанетт Винтерсон , Умберто Эко , Патрик МакГрат , Нацуо Кирино , Пол Тремблей , Мэтт Белл , Чак Паланик , Брайан Эвенсон , Калеб Дж. Росс (который пишет отечественная гротескная фантастика), Ричард Томас и многие авторы, пишущие в жанре фантастики причудливого жанра . В 1929 году Г.Л. Ван Роосбрук написал книгу под названием «GROTESQUES» (иллюстрации Дж. Матулки), опубликованную издательством Williamsport Printing and Binding Co., Уильямспорт, Пенсильвания. Это сборник из 6 рассказов и 3 басен для детей завтрашнего дня.
Популярная культура
Другими современными писателями, исследовавшими гротеск в поп-культуре, являются Джон Докер в контексте постмодернизма; Синтра Уилсон , анализирующая знаменитостей; и Фрэнсис Санзаро , который обсуждает его связь с деторождением и непристойностью.
Театр Гротеска
Термин театр гротеска относится к анти — натуралистической школы итальянских драматургов, писавший в 1910 — х и 1920 — х годов, которые часто рассматриваются как предшественники театра абсурда . Характеризуется ироничными и мрачными темами повседневной жизни эпохи Первой мировой войны. Театр гротеска был назван в честь пьесы Луиджи Кьярелли «Маска и лицо», которую описали как «гротеск в трех действиях».
Фридрих Дюрренматт — крупный автор современных гротескных комедий.
В архитектуре
В архитектуре термин «гротеск» означает резную каменную фигуру.
Гротески часто путают с горгульями , но различие в том, что горгульи — это фигуры, у которых через рот течет вода, а у гротесков нет. Этот тип скульптуры без водостока также известен как химера, когда он изображает фантастических существ. В средние века термин babewyn использовался для обозначения как горгулий, так и гротесков. Это слово происходит от итальянского слова babbuino , что означает « бабуин ».
В типографике
Слово «гротеск», или «Grotesk» на немецком языке, также часто используется в качестве синонима шрифта без засечек в типографике . В других случаях он используется (наряду с «неогротескным», «гуманистическим», « линейным » и «геометрическим») для описания определенного стиля или подмножества шрифтов без засечек. Происхождение этой ассоциации можно проследить до английского шрифта Уильяма Торовгуда , который ввел термин «гротеск» и в 1835 году создал 7-строчный гротескный шрифт — первый шрифт без засечек, содержащий настоящие строчные буквы. Альтернативная этимология, возможно, основана на первоначальной реакции других типографов на столь поразительно невыразительный шрифт.
Популярные шрифты гротескных включают Franklin Gothic , News Gothic , Haettenschweiler и Lucida Sans (хотя последний не хватает стимулировали «G»), в то время как популярные нео-гротеска шрифты включают Arial , Helvetica и Verdana .
Смотрите также
Примечания
Рекомендации
дальнейшее чтение
- Бэкстрём, пер . Enhet i mångfalden. Анри Мишо и детство гротеска (Единство во всей полноте. Анри Мишо и гротеск), Лунд: Эллершрем, 2005.
- Бэкстрём, пер . Le Grotesque dans l’œuvre d’Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix , Париж: L’Harmattan, 2007.
- Шейнберг, Эсти (2000-12-29). Ирония, сатира, пародия и гротеск в музыке Шостаковича . ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Ashgate. п. 378. ISBN 0-7546-0226-5 . Архивировано из оригинала на 2007-10-17.
- Кайзер, Вольфганг (1957) Гротеск в искусстве и литературе, Нью-Йорк, издательство Колумбийского университета
- Ли Байрон Дженнингс (1963) Смешной демон: аспекты гротеска в немецкой пост-романтической прозе, Беркли, Калифорнийский университет Press
- Бахтин, Михаил (1941). Рабле и его мир . Блумингтон: Издательство Индианского университета.
- Харфэм, Джеффри Галт (1982, 2006), О гротеске: стратегии противоречия в искусстве и литературе (Принстон: Princeton University Press)
- Избранная библиография Филипа Томсона, Гротеск , Methuen Critical Idiom Series, 1972.
- Дакос, Н. La découverte de la Domus Aurea et la education des grotesques à la Renaissance (Лондон), 1969.
- Корт, Памела (2004-10-30). Комический гротеск: остроумие и издевательство в немецком искусстве 1870-1940 гг . ПРЕСТЕЛ. п. 208. ISBN 978-3-7913-3195-9 . Архивировано из оригинала на 2008-03-04.
- Ф. С. Коннелли (2003). «Современное искусство и гротеск» (PDF) . Assets.cambridge.org.
- Замперини, Алессандра (2008). Орнамент и гротеск: фантастические украшения от античности до модерна . Темза и Гудзон. С. 320, 11 «x 13», 250 цветных иллюстраций. ISBN 978-0-500-23856-1 .
- Хансен, Мария Фабрициус (2018). Искусство трансформации. Гротески в Италии шестнадцатого века . Edizioni Quasar. С. 476, 9 «1/2 x 11», 400 цветных иллюстраций. ISBN 978-88-7140-864-4 .
внешняя ссылка
| Поищите гротеск в Викисловаре, бесплатном словаре. |
Значение, Синонимы, Определение, Предложения . Что такое гротескный
| Как, не слишком гротескный способ описания для вас? | |
| Он разрезал ей живот и перекинул её кишки ей через плечо как гротескный шарф. | |
| Майоликовая ваза с оловянной глазурью Минтон, гротескный ренессансный стиль, Минтон до горлышка, преимущественно плоские поверхности, непрозрачная белая глазурь, окрашенная кистью. | |
| Работа гротескный танцор была вдохновлена открытием Аггиссом Валески Герт, самой экстремальной и подрывной из немецких танцовщиц-экспрессионистов. | |
| В какой-то момент Фортунато делает сложный, гротескный жест поднятой вверх бутылкой вина. | |
| Другие результаты | |
| Статья слишком гротескна, чтобы быть на главной странице, пожалуйста, измените статью или хотя бы снимите фотографию, спасибо. | |
| Для этого задания я выбрал сжигание невесты, тему, которая одновременно гротескна и увлекательна и особенно заслуживает большего внимания во всем мире. | |
| Физическая внешность Джаббы Хатта столь же гротескна, как и его характер, и усиливает его личность как преступника-девианта. | |
| Физическая внешность Джаббы Хатта столь же гротескна, как и его характер, и усиливает его личность как преступника-девианта. | |
| Отвратительная, гротескная японская практика миниатюризации кустов и деревьев. | |
| Создавая этот обособленный мир — который, разумеется, есть гротескная аллегория самой Россию — режиссер в такой же степени погружает зрителя в среду, в какой одновременно выбивает его из колеи. | |
| Нет, как будто все в порядке: фигура, конечно, гротескная, вроде театрального нищего, но общий вид сносный, бывают и такие люди. | |
| Это была гротескная последовательность образов. | |
| Его художественная литература известна как сатирическая, гротескная и фантастическая, и в основном действие происходит в его родном городе Лондоне. | |
| В Дюне гротескно тучный барон Владимир Харконнен использует подвесные ремни и ремни безопасности, чтобы поддерживать свою плоть и позволять ему ходить. | |
| Настенная фреска, изображающая Приапа, древнего бога секса и плодородия, с его гротескно увеличенным пенисом, была покрыта штукатуркой. | |
| Охваченная любопытством, она проскальзывает за спину призрака, приподнимает его маску и видит его гротескно обезображенное лицо. | |
| Он женится на Эмме Форсайт, но трагически и гротескно умирает сразу же после поспешной свадебной церемонии. | |
| Рабство делает людей гротескно неравными. | |
| Нет, я против срубания невинных деревьев в рацвете их лет и гротескного украшения их трупов этими, типа, сияющими и сверкающими огнями. | |
| Испытывая отвращение от этого гротескного зрелища, Хэнк отодвигается от черепахи. | |
| Скатология имеет давнюю литературную связь с сатирой, так как это классический способ гротеска, гротескного тела и Сатирического гротеска. | |
| У него есть сверхъестественный глаз для обнаружения необычного и гротескного инцидента, грубого и причудливого события, которое разоблачает вопиющую иронию. | |
| Мумбо-Джамбо-это существительное и имя гротескного идола, которому, как говорят, поклонялись некоторые племена. | |
| То, что возвышает его до гротескного, пугающего произведения искусства, — это одновременно презентация и игра. | |
| Карл Валентин был мастером гротескного кабаре. | |
| Пропаганда изображала японцев больше, чем любую другую державу оси, как иностранного, гротескного и нецивилизованного врага. | |
| Газетчик побежал дальше, продавая газеты на ходу по шиллингу, — гротескное сочетание корысти и паники. | |
| И как это должно быть раздражающе для этих элегантных, утончённых созданий, что гротескное человечество упрямо продолжает существовать. | |
| Мое гротескное самоуничижение завело ее. | |
Гротеск — что это такое (примеры в литературе)
Главная / ЧАстые ВОпросы19 января 2021
- Что такое гротеск и история этого термина
- Примеры в русской литературе
- Гротеск в зарубежной литературе
Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Художественная литература успешно пользуется приёмами и средствами, зародившимися в недрах других видов искусства: музыки, живописи, архитектуры.
Одним из таких приёмов можно считать гротеск, широко используемый как литераторами прошлого, так и писателями-современниками.
Что такое гротеск и история этого термина
Гротеск – это средство художественной выразительности, объединяющее в причудливых, поражающих воображение образах простое и сложное, высокое и низкое, комическое и трагическое. Основа гротеска – контраст.
Конфликт (что это?) нескольких противоположных начал порождает любопытные формы и представления, как, например, образы говорящих кукол или маленьких уродцев, вроде Крошки Цахеса в сказках Э. Т. Гофмана.
В этих персонажах нет ничего традиционно кукольного. Они не умиляют, не вызывают желания позаботиться о себе, а наоборот, вселяют ужас, отвращение или недоумение, лишь через некоторое время сменяющееся более тёплыми чувствами.
Слово «гротеск» происходит от французского «grotesque» («причудливый, смешной»). Как сообщает этимологический словарь М. Фасмера, в основе лежит итальянское «grotta» («пещера»).
В XV столетии существовало определение «гротовый», относившееся к живописи и архитектуре с причудливыми элементами животного и растительного орнамента. Подобные декоративные фрагменты были обнаружены в римских катакомбах. Предполагают, что по времени создания они относятся к эпохе правления императора Нерона.
Поразительная живопись подземных пещер породила моду на сочетание странных персонажей и фигур в убранстве жилищ, отделке мебели, посуды, украшений. Дракон, держащий в зубах виноградную лозу, грифон с яблоком в лапе, двухголовый лев, перевитый плющом, – это типичные образы гротескного искусства.
Гротеск в литературе – это комический приём, необходимый, чтобы подчеркнуть абсурдность происходящего, обратить внимание читателя на нечто важное, скрывающееся за смешным, на первый взгляд, явлением.
В отличие от гиперболы (что это?), которая тоже склонна к преувеличениям, гротеск доводит ситуацию до крайности, делая сюжет абсурдным. В этой-то абсурдности и кроется ключ к пониманию образа.
Литература отличается от других видов искусства тем, что её содержание нельзя увидеть или потрогать, но можно представить. Поэтому гротескные сцены литературных произведений всегда «работают» на то, чтобы разбудить воображение читателя.
Примеры гротеска в литературе
Анализируя сатирические опыты со времён Аристофана до наших дней, можно сделать вывод, что гротеск – это отражённое в литературе социальное зло, заключённое в оболочку смеха.
В комедии «Лягушки», принадлежащей великому греческому драматургу, высмеиваются вещи серьёзные: судьба души после смерти, политика, стихосложение, общественные нравы. Персонажи попадают в царство мёртвых, где наблюдают спор между великими афинскими трагиками: Софоклом и недавно умершим Еврипидом.
Поэты ругают друг друга, критикуя старый и новый способ сложения стихов, а заодно и пороки современников. Вместо классического античного хора, который обычно сопровождал реплики героев, у Аристофана появляется хор лягушек, чьё кваканье звучит как смех.
Яркий пример гротеска – повесть Н. В. Гоголя «Нос». Орган обоняния отделяется от своего хозяина и начинает самостоятельную жизнь: отправляется на службу, в собор, гуляет по Невскому проспекту.
Самое интересное, что Нос воспринимается окружающими как вполне серьёзный господин, а вот покинутый им майор Ковалёв не может выйти из дому. Получается, что обществу важен не человек, а его атрибуты: чин, статус, облик. Гротескный образ разгулявшегося носа
На гротеске построены сатирические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина. Например, герой одноимённого произведения Карась-идеалист олицетворяет философствующего интеллигента, оторванного от реальной жизни. Карась проповедует всеобщую любовь и равенство, тогда как хищные рыбы продолжают глотать мелкую рыбёшку.
Думая отговорить щуку от поедания себе подобных, идеалист гибнет. Его попытка пойти против законов природы комична, но за ней скрывается глубокая печаль от осознания этой истины.
Однако не все исследователи считают гротеск исключительно комическим приёмом. В произведениях М. А. Булгакова сталкиваются столь мощные и фантастические образы, что смеяться над ними вряд ли придёт кому-то в голову.
Повести (что это?) «Роковые яйца» и «Собачье сердце» посвящены экспериментам человека над природой. Во всё ли нам дозволено вмешиваться? Какими могут быть последствия научных опытов? Эти вопросы всё более актуальны в эпоху клонирования и креоники. Гротески Булгакова пугают, предостерегают, своей зловещей достоверностью напоминая гравюры Гойи.
Гротеск в зарубежной литературе
Кроме уже упомянутых Аристофана и Гофмана, среди зарубежных писателей приёмом столкновения высокого и низкого пользовались Ф. Рабле, С. Брандт, Дж. Свифт. В ХХ веке непревзойдённым мастером гротеска стал немецкоязычный писатель Ф. Кафка.
Герой новеллы «Превращение» Грегор Замза просыпается и обнаруживает, что стал огромным насекомым. Попробовав перевернуться на другой бок, он понимает, что больше этого не может.
Любящий сын и брат, Грегор зарабатывал деньги для всей семьи, а теперь он оказывается ненужным. Близкие относятся к гигантской сороконожке с отвращением. Они не заходят в комнату Грегора, только сестра изредка приносит ему еду.
Постепенно отвращение к странному существу возрастает. Никто не догадывается, как «оно» страдает, слыша, как мать и отец обсуждают по вечерам возникшие проблемы. Однажды вечером сестра предлагает сыграть на пианино новым жильцам. Привлечённый звуками музыки из гостиной, герой выползает из своего убежища. Весёлая компания шокирована, выходит скандал.
Мучимый голодом, ранами и одиночеством, Грегор медленно умирает. Семья облегчённо выбрасывает из комнаты высохшее тельце насекомого. Родители замечают, что, несмотря на все невзгоды, сестра хорошеет.
Фантасмагорическая выдумка Кафки продолжает идею Гоголя о том, насколько мало значит человек, лишаясь своих социальных функций, как мало любви остаётся даже в самых близких людях.
Разговор о гротеске уводит в заветные глубины художественной образности. Этот приём удаётся лишь тем художникам, создания которых порождены долгими годами обдумывания. Вот почему гротеск в литературном произведении неизменно поражает и на всю жизнь остаётся в памяти.
Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru
Использую для заработка
Мишель Фуко о бессовестном правлении и смехотворном авторитете — Моноклер
Рубрики : Культура, Общество, Последние статьи
Мишель Фуко о пружинах механики власти, административном гротеске и той роли, которую гротескные тексты играют в структурах наших обществ.
В 1974-1975 гг. Мишель Фуко прочитал в Коллеж де Франс цикл лекций, которые, как отмечают исследователи, отразили процесс переключения его исследовательских интересов на новый предмет — власть и её механику. В частности, лекция, прочтённая философом 8 января 1975 года, касалась проблем психиатрической экспертизы в уголовной практике и связи между истиной и правосудием. Ничего удивительного, что именно здесь, в процессе анализа судебной экспертизы и практики правосудия, рассматривая «дискурсы, способные убивать, дискурсы истины и дискурсы <…>, продуцирующие смех», Фуко обращает внимание на одну особенность функционирования власти — а именно, на её гротескность. Как отмечает Фуко, «гротеск» — это «свойство некоего текста или индивида обладать в силу своего статуса властными эффектами, которых по своей внутренней природе они должны быть лишены», и именно этим свойством, по мнению Фуко, пропитана вся механика власти. Публикуем небольшой фрагмент его лекции, в котором Фуко объясняет, что такое гротескные тексты, как власть реализует свой гротескный апломб и почему он неизбежен, хотя и мерзок.
Гротескные тексты
(фрагмент лекции Мишеля Фуко от 8 января 1975 года, прочтенной им в Коллеж де Франс)
Я убежден, что существует, или, во всяком случае, подлежит введению строгая категория историко-политического анализа — категория гротескного или «убюэскного» ⓘПрилагательное «убюэскный» было введено в 1922 г. на основе пьесы А. Жарри «Король Убю», вышедшей в Париже в 1896 г. См. «Большой Ларусс» (Grand Larousse, VII, 1978, p. 6319): «Употребляется по отношению к чему-либо, напоминающему своим гротескным, абсурдным или карикатурным характером персонаж Убю»; «Большой Робер» (Le Grand Robert, IX, 1985, p. 573): «Что-либо, напоминающее персонаж короля Убю (комически жестоким, циничным и трусливым, со всевозможными перегибами характером)».. «Убюэскный» апломб, гротескное самоуправство или, в более сухой терминологии, максимизация властных эффектов в сочетании с дисквалификацией того, кто их вызывает, — это не случайность в истории власти, не механический сбой. По-моему, это одна из пружин, одна из неотъемлемых составных частей механизмов власти. Политическая власть, по крайней мере в некоторых обществах и уж точно в нашем обществе, может пользоваться и действительно пользовалась возможностью осуществлять свои эффекты и, более того, находить источник своих эффектов в области, статус которой явно, демонстративно, сознательно принижается как неприличный, постыдный или смешной. Собственно говоря, эта гротескная механика власти — или гротескная пружина в механике власти — давным-давно прижилась в структурах наших обществ, в их политическом функционировании. Ярчайшие свидетельства этому вы найдете в римской истории, в частности, в истории Империи, где метод если не правления, то, как минимум, господства был именно таким: вспомните о почти театральном принижении личности императора как узла, средоточия всех властных эффектов; о принижении, вследствие которого тот, кто является носителем majestas (величия) этой властной надбавки ко всякой власти, сколь бы велика она ни была, является в то же время — как личность, как персонаж, в своей физической реальности, одежде, манере поведения, телесности и сексуальности, образе жизни — персонажем бессовестным, гротескным, смешным. Эта функция, этот механизм гротескной власти, бессовестного правления составляли непременный элемент функционирования Римской Империи от Нерона до Гелиогабала ⓘСм.: Hélie F. Traité de l’instruction criminelle… IV. P. 340 (принцип, сформулированный 29 сентября 1791 г. и утвержденный 3 брюмера IV [1795] г.)..
Гротеск — это один из важнейших методов самодержавного господства. Но тот же гротеск, как вы знаете, сплошь и рядом используется прикладной бюрократией. Административная машина с ее безграничными властными эффектами подразумевает посредственного, бестолкового, тупого, бесцветного, смешного, затравленного, бедного, беспомощного чиновника: все это было одной из самых характерных черт великих западных бюрократий начиная с XIX века. Административный гротеск — это не просто модус визионерского восприятия чиновничества, свойственный Бальзаку или Достоевскому, Куртелину или Кафке. Административный гротеск — это на самом деле возможность, средство, действительно выработанное для себя бюрократией. «Убю бумажная душа» — неотъемлемый элемент функционирования современной администрации, так же как неотъемлемым элементом функционирования императорской власти в Риме была сумасбродная воля безумца-гистриона. И то, что я говорю о Римской империи, то, что я говорю о современной бюрократии, можно сказать и о многих других формах механики власти, например о нацизме или фашизме. Гротескный характер людей наподобие Муссолини был прочно вправлен в механику власти. Власть сама рядилась в театральный костюм, сама выступала в образе клоуна, паяца.
Мне кажется, что в этой истории — от бессовестного правления до смехотворного авторитета — можно различить поступательное развитие того, что можно было бы назвать мерзостью власти. Вы знаете, что этнологи — я имею в виду, в частности, превосходные исследования, совсем недавно опубликованные Кластром ⓘПьер Гольдман предстал перед парижским судом 11 декабря 1974 г. и был осужден по обвинению в убийстве и краже на пожизненное заключение. Поддержка группы интеллектуалов, разоблачивших ряд неправомерных действий в рамках следствия, а также процедурные нарушения, привела к пересмотру дела. Апелляционный суд приговорил Гольдмана к двенадцати годам тюрьмы за три доказанных нападения. См. выдержку из обвинительного акта в книгe: Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France. Paris, 1975. 20 сентября 1979 г. Пьер Гольдман был убит., — ясно уловили этот феномен, благодаря которому тот, кому дана власть, в то же самое время, путем ряда ритуалов и церемоний, оказывается осмеян, опорочен или представлен в невыгодном свете. В архаических или первобытных обществах такого рода ритуал призван ограничивать властные эффекты? Возможно. Но я бы сказал, что, когда мы обнаруживаем такие же ритуалы в наших обществах, они выполняют совершенно другую функцию. Когда власть предстает как грязная, откровенно бессовестная, «убюэскная» или попросту смешная, речь, на мой взгляд, не идет об ограничении ее эффектов и о магическом развенчании того, кому дана корона. Совсем наоборот, речь, по-моему, идет о яркой манифестации необходимости, неизбежности власти, которая как раз и может функционировать со всей своей строгостью и в высшей степени жестокой рациональностью, даже находясь в руках человека, полностью развенчанного. Проблема позора власти, проблема развенчанного правителя — это, собственно говоря, проблема Шекспира: весь цикл трагедий о королях поднимает именно эту проблему, хотя, насколько мне известно, никогда бесчестие правителя не становилось объектом теории ⓘ4. См.: Foucault M. La véri té et les formes juridiques (1974) // Dits et écrits,II,p.538—623.. Но я хочу повторить: в нашем обществе — от Нерона (возможно, первой крупной фигуры в истории позорного правления) до маленького человечка с дрожащими руками, который, сидя на дне своего бункера и унеся сорок миллионов жизней, интересовался в конечном итоге только двумя вещами: не разрушено ли еще все, что находится над ним, и когда ему принесут пока еще не надоевшие шоколадные пирожные, — разворачивается впечатляющая картина функционирования бессовестного властителя.
Источник: Фуко М. Лекция от 8 января 1975 г.. ( Перевод Шестаков А.В. ). // Ненормальные. / Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974—1975 учебном году Санкт-Петербург :Издательство «Наука», 2004.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Похожие статьи
как Роберт Раушенберг водил за нос зрителей
Фото: afisha.nyc
Продолжаем беседы с искусствоведом Валерией Ждановой. На этот раз героем рубрики стал Роберт Раушенберг, которого современники называли «потрясением западного искусства». Разбираемся, чем он заслужил такую славу, что нового миру открыл дадаизм (неодадаизм) и как во всю эту историю затесался козел.
Современное искусство для неподготовленного зрителя всегда бессмысленно и хаотично. Иногда может казаться, что художники создают свои творения с единственной целью: поиздеваться над остальными. А что, если мы скажем: такое бывает и есть авторы, которые устраивают настоящие диверсии и провокации, причем в отношении своих же коллег по цеху!
Стертый де Кунинг
Слышали про «Стертый рисунок де Кунинга»? Это забавный и известный в истории искусства факт: в начале 1950-х годов художник Роберт Раушенберг взял и стер карандашный набросок великого абстрактного экспрессиониста Виллема де Кунинга, которого, к слову, обожал. Получившееся полотно он вставил в рамку и показал как новую картину. Разумеется, это было сделано не только с целью похулиганить.
Из нашего прошлого материала мы выяснили, что в современном искусстве жест важнее формы, а значит, и за актом Раушенберга тоже что-то кроется. Во-первых, художник то и дело испытывал на прочность сами границы искусства и делал живопись из всего, что попадалось под руку: из грязи, туалетной бумаги, сусального золота. Постепенно он довел идею творчества до логического предела и решил создавать новые полотна, стирая старые.
Фото: artmajeur.com
Отсутствие рисунка – тоже рисунок
И если в то, что под «Черным квадратом» Малевича скрывается несколько слоев картин, можно не верить, то здесь отчетливо видны следы бывшего рисунка. Так что же важнее – старания де Кунинга нарисовать его или старания Раушенберга стереть нарисованное? Получается, что оба авангардиста приложили усилия к этой работе. А Раушенберг «обскакал» авангардистов-современников, решив не подражать им, а смело экспериментировать с их опытом.
Главный тезис Раушенберга в следующем: если искусство – это все, к чему была приложена творческая воля художника (в данном случае аж двух), является ли картина без изображения полноценным творческим актом и самостоятельным произведением? Оказалось – да: за эту работу в 1963 году Роберта Раушенберга наградили главным призом Венецианской биеннале. И пожалуй, это самая скандальная награда того времени: Ватикан оценил ее как свидетельство упадка мировой культуры, а французский поэт-сюрреалист Ален Боске восклицал, что нельзя «недооценить размеров оскорбления», нанесенного этой наградой всему серьезному миру искусства.
Что же это за безумец?
Так что из себя представляет человек, которому под силу такие выходки? Роберт Раушенберг увлекался искусством с детства. Он срисовывал рисунки из комиксов, учился живописи в художественных школах. Сегодня он считается основателем «комбинированной живописи», хотя отнести его к представителям лишь одного этого направления невозможно. Раушенберг пробовал себя в разных техниках: абстрактного экспрессионизма, концептуализма, поп-арта, коллажа и реди-мейда, смешивал в своих работах живопись и скульптуру, став таким образом одним из прародителей перформанса.
Фото: lisicontemporaryart.com
После Второй мировой войны появились три его работы – «Красная живопись», «Белая живопись» и «Черная живопись». Каждая из них представляла собой нагромождение на плакате бумажек, наклеек, гвоздей, веревочек и других мелких предметов, щедро залитых краской соответствующего цвета.
Традиции намеков и нелогичностей
Как он до этого додумался? В Америке 1960-х царил абстракционизм – повелитель размытостей, намеков, нагромождения пятен, линий и фигур. Можно все, лишь бы не было похоже на реальную жизнь: жизни-то и в жизни много, давайте хоть искусство оставим за ее пределами. Так что в этом царстве не приветствовались конкретные предметы и изображения. Но, продолжая традицию намеков и нелогичностей, Раушенберг добавлял в творчество реальные объекты, да еще и бытовые, те, что окружают нас каждый день, – прямо как Дюшан! Этим художник нарушает правила абстракционизма, и искусство, которое только-только выбрало новый курс, стало уплывать от реальной жизни, снова становится неожиданным и необъяснимым. Границы отодвигаются еще дальше, история совриска продолжает развиваться.
Фото: pinterest.ru
Дальше Раушенберг начинает сочетать разные текстуры и материалы. Что-то вроде трилогии «Живописей», но более содержательное. В ход шли вырезки из газет и журналов. Так начались его первые эксперименты с коллажами: в них можно встретить лица знаменитостей или отсылки к масштабными событиям и к известным элементам массовой культуры. Типичная работа художника – коллаж из мазков краски, печатных изображений, мелких предметов. Так автор выражает свое видение мира – как бессмысленное нагромождение образов.
Больше эпатажа
Но этого Раушенбергу мало, и он продолжает свои эксперименты, задействуя новые материалы и техники. Не обошел он стороной и реди-мейды. «Живые полотна» с настоящими растениями, пропитанный красками пружинный матрас, чучело козла с надетой на него автопокрышкой – посетители выставок с такими экспонатами прозвали автора «ужасным экспериментатором». Работы получались настолько необычными, что поражали даже авангардистов – тех, кто и сам привык поражать простой люд.
Фото: neumannmonson.com
«Я не хочу, чтобы картина выглядела как-то неестественно. Я хочу, чтобы изображение предмета соответствовало его содержанию. И на мой взгляд, картина больше похожа на реальный мир, когда она сделана из объектов реального мира», – говорил художник.
Путь в неодадаизм
Рисование, живопись, фотография, скульптура – все смешалось в творчестве Раушенберга. Он развил, а местами и переосмыслил все техники, в которых работал, стремясь сделать разницу между искусством и жизнью едва различимой. Из-за такой установки художника причисляют к неодадаистам. Если дадаисты считали рациональность причиной войн и поэтому окунулись в область нелогичного и последовательно разрушали какую бы то ни было эстетику, то неодадаисты унаследовали их принципы, добавив к этому отрицание искусства вообще. «Нет плохих сюжетов. Пара носков не менее годна для живописи, чем дерево, гвозди, скипидар для масляной живописи на холсте», – утверждал Роберт Раушенберг, который умел видеть красоту даже в мусоре под ногами.
***
Узнать больше о художнике поможет:
— Лекция Ирины Кулик «Курт Швиттерс – Роберт Раушенберг».
— Статья Александры Шатских «Роберт Раушенберг: ретроспектива».
— Официальный сайт Роберта Раушенберга.
Определение гротеска по Merriam-Webster
Gro · Tesque | \ grō-ˈtesk \1а : стиль декоративного искусства, характеризующийся причудливыми или фантастическими формами людей и животных, часто переплетающимися с листвой или подобными фигурами, которые могут искажать естественность до абсурда, уродства или карикатуры.
б : произведение в этом стиле богато украшенная структура, украшенная гротесками
: , относящиеся к гротеску или имеющие характеристики гротеска: например,
c : заметно отклоняясь от естественного, ожидаемого или типичного животные с гротескными уродствами
Блог о граммарфобии: Гротти или гротеск?
Q: Возможно, это снимок в темноте, но мне интересно, есть ли у вас какая-либо информация об использовании слова «гротеск» в середине 19 века в отношении костюма или «маскарадного платья».«Я изучаю серию маскарадов в Бруклине во время гражданской войны, и современные газеты часто используют термин« гротеск ». Означает ли это просто сложный, странный и оперный? Или может быть более конкретный оттенок? Любые мысли были бы очень кстати.
A: Слово «гротеск» (как существительное, так и прилагательное) возникло в 16 веке. Это буквально означало «стиль грота» (как в «грот-эск») и происходит от стиля росписи стен гротов (когда-то популярный термин для обозначения руин древнеримских построек, которые были раскопаны).
Это значение слова определяется следующим образом в Оксфордском словаре английского языка : «Вид декоративной живописи или скульптуры, состоящей из изображений частей человеческих и животных форм, фантастически скомбинированных и переплетенных с листвой и цветами».
Произведения искусства, выполненные в этом стиле, назывались «гротесками» и иногда упоминались в итальянской форме: grottesco (единственное число) или grotteschi (множественное число).
Поэт Реставрации сэр Уильям Давенант написал множество придворных масок.В его произведениях (около 1668 года) есть произведение, называемое просто «Маска», в котором есть строчка: «А в середине было помещено большое произведение, составленное из произведений Гротеске».
Чуть позже это значение было расширено, и теперь в него включены изображения, которые были настолько сложными, что были искажены или неестественны. И со временем это слово стало использоваться не только для обозначения произведений искусства, но и для всего фантастического или сильно декоративного.
Одно из более поздних значений, распространенных в XVIII и XIX веках, согласно OED , было «смехотворным из-за несоответствия; фантастически абсурдно.”
Я не могу найти никаких цитат 19-го века в OED для «гротеска», в которых конкретно упоминаются костюмированные или маскарадные балы.
Но я нашел эту ссылку из книги или публикации 1860 года (не знаю какой) под названием Heads & Hats : «Женщины носили абсурдно высокие прически; и мужчины соперничали с ними в своем росте, если не в их уродстве ».
А вот один из журнала Фанни Кембл «Жилой дом на грузинской плантации 1838–1839 гг. » (опубликован в 1863 году): «Вы не можете представить себе ничего более гротескного, чем воскресная отделка бедных людей.Она, вероятно, имела в виду что-то вроде «абсурдно переборщила».
И в OED есть пара ссылок 19-го века на использование слова «гротеск» как существительного, означающего клоун или шут.
Oxford , к сожалению, не заимствовал многие из своих ранних цитат из популярных источников, таких как газеты и рекламные проспекты. Так что, возможно, он упустил это чувство «гротеска» в применении к чрезмерно причудливым или тщательно продуманным костюмам.
Большой Новый международный словарь Вебстера (несокращенное 2-е изд.) из 1950-х годов содержит несколько интересных комментариев по поводу значения слова «гротеск». Отрывок:
«Гротеск отличается от уродливого тем, что доставляет положительное эстетическое удовлетворение. Уродливое противоположно прекрасному; гротеск — это дополнение физической красоты, представляющее в материальном мире искажение эстетических отношений ».
За следующие 10 лет многое изменилось. В эпоху битломании слово «гротик» (образованное от «гротеск») стало сленговым словом, означающим отвратительный, уродливый или просто плохой.
Купите книги Пэта в местном магазине или Amazon.com .
Обзор мастеров | Литературные термины: готика, гротеск и сверхъестественное
Сегодня мы рады представить хеллоуинское издание нашей серии «Литературные термины». Здесь, в TMR, мы любим страшные истории, и полезно изучить словарный запас, который мы используем для описания фантастики, которая нас пугает.
Готическая литература — Мерриам-Вебстер определяет готику как: прил., «Или относящиеся к стилю письма, описывающему странные или пугающие события, происходящие в загадочных местах». Вся готическая литература началась с романа Горация Уолпола « Замок Оронто » в 1765 году, а традиция была продолжена такими писателями, как Энн Рэдклифф, и в классических рассказах ужасов, таких как Франкенштейн и Дракула. Сам жанр был назван в честь архитектуры, которая вдохновила его: средневековые замки и руины, в которых разворачивается большая часть готической литературы и которые часто играют жизненно важную роль в сюжете повествования.Готическая литература развивалась с годами и включает такие поджанры, как южная готическая литература , действие которой происходит на юге Америки и связано, в частности, с любимыми авторами Фланнери О’Коннером и Уильямом Фолкнером. Готическая традиция продолжается и сегодня в творчестве таких писателей, как Джойс Кэрол Оутс и Джулия Эллиотт.
The Uncanny — Что такое сверхъестественное? Мы не можем придумать никого лучше, чтобы объяснить этот ускользающий термин и его историю, чем Марджори Сандор, которая написала эссе о сверхъестественном в начале этого месяца.Прочтите здесь. Предварительный просмотр: «Ощущение сверхъестественности — это, по сути, беспокойство о стабильности тех людей, мест и вещей, которым мы глубоко доверяем, а также наше собственное чувство идентичности и принадлежности. И что восхищает в этом писателей, пишущих о художественной литературе, поэзии и творческой научной литературе, так это то, что это приглашает нас к практике неопределенности »
Гротеск — В наши дни, когда люди говорят о «гротеске», их значение ближе к его прилагательной форме: «очень странно или уродливо, что не является нормальным или естественным.Гротеск в литературе сосредоточен на человеческом теле и на всех способах его искажения или преувеличения: его цель — одновременно вызвать у нас сочувствие и отвращение. Подобно сверхъестественному, гротеск черпает свою силу в сочетании знакомого и незнакомого или знакомого искаженного. В готической литературе часто присутствуют элементы гротеска, такие как чудовище Мэри Шелли в фильме « Франкенштейн » или необычные персонажи в рассказах Фланнери О’Коннер. В более ранних версиях термин «гротеск» использовался таким образом, чтобы больше совпадать с «сверхъестественным», имея в виду произведения, стирающие грань между реальным и фантастическим, такие как «Метаморфозы» Кафки, в которых человеческий Главный герой превращается в насекомое.Интересно увидеть, как эти термины пересекаются, и важно отметить, что их точные «определения» могут быть трудными из-за того, как они менялись с течением времени.
Террор и ужас — Террор и ужас часто используются как синонимы, но на самом деле эти два термина совершенно разные. В прошлом году Линкольн Мишель написал блестящее эссе о разнице между ними: «Ужас — это чувство страха и опасения перед возможностью чего-то пугающего, в то время как ужас — это шок и отвращение при виде пугающей вещи.Ужас — это звуки царапанья неизвестных существ в дверь; ужас — видеть, как твою соседку заживо съедают гигантские крысы. Ужас — это чувство, что незнакомец может прятаться за дверью; ужас — это брызги крови, когда нож незнакомца проникает внутрь ».
Какие еще термины вы используете, говоря о пугающей фантастике? Делитесь в комментариях.
Оксфордская исследовательская энциклопедия литературы
Подрыв естественного порядка вещей
Как утверждает Вольфганг Кайзер в книге Гротеск в искусстве и литературе (1957), современной классике в области изучения гротеска, термин гротеск означает состояние дел, при котором «нарушен естественный порядок вещей.”В самых крайних случаях мы наблюдаем:
мир, полностью отличный от знакомого — мир, в котором царство неодушевленных предметов больше не отделено от царства растений, животных и людей, и где законы статики, симметрии и пропорции больше не действуют. . 1
Кайзер указывает на грезы снов и кошмаров, в которых нормальный порядок вещей был подорван, в качестве примера этого, однако любой вид опыта, который нарушает нормальность, потенциально может считаться гротескным.В самом деле, гротеск, возможно, наиболее эффективен не тогда, когда мы входим в мир, полностью отличный от нашего собственного, а когда мы сталкиваемся с «крайним несоответствием» в мире, который в остальном кажется конгруэнтным. 2
Хотя трудно определить сам гротеск или даже «относительно положительный или отрицательный характер нашей встречи с гротеском», мы можем, по крайней мере, первоначально идентифицировать ряд черт, обычно связанных с гротеском, а именно дисгармонию, гибридность, избыточность. , преувеличение и проступок. 3 Короче говоря, гротеск — это все, что нарушает то, что считается нормой в определенном месте и в определенное время. Даже в этом случае мы почти сразу же сталкиваемся с проблемой, заключающейся в том, что гибридности, нарушения и другие виды сущностей и поведения, нарушающих границы, сами по себе недостаточны для создания гротескных ощущений. В конце концов, мы ежедневно сталкиваемся со многими формами проступков, преувеличений и смешения, которые мы бы не сочли гротескными. Женщина, которая незаметно ковыряется в носу в поезде, может быть сочтена оскорбительной для некоторых, но назвать ее поведение гротескным для многих было бы преувеличением.Однако, если бы та же самая женщина начала разговорчиво и намеренно рвать на своих попутчиков, смеясь, это, вероятно, было бы другим и потенциально гораздо более гротескным делом. Следовательно, мы можем заключить, что чем более жестоким, грубым и чрезмерным считается нарушение нормального, тем более вероятно, что мы сочтем данное действие или предмет гротескным. Но даже в этом случае суждения о точной точке пересечения границы гротеска всегда в высшей степени субъективны.
Соответственно, в этой статье используется широкий спектр литературных примеров, а также ряд концептуальных терминов, которые имеют общие черты с гротеском, чтобы сузить этот трудноуловимый термин за счет сходства и контраста. Разделы «Карнавал и Абсурд» и «Абсурд» сосредоточены на концептуальном обсуждении терминов, которые связаны с гротеском и поэтому часто путаются с ним. В следующих разделах «Человеческое тело: части, разрывы, кишки» и «Причудливые, чудовищные и машинные тела» основное внимание уделяется телу как источнику, из которого возникают все другие формы гротескного творчества.Пятый и последний раздел «Социальное тело: индивиды и социальный порядок» исследует гротескные социальные отношения, которые, казалось бы, не являются материальными как таковые, но в конечном итоге приходит к выводу, что даже такое абстрактное, как социальный порядок, всегда будет выражаться через определенные тела.
Карнавальное и жалкое
Гротеск не получил внимания, которое вызывали другие эстетические термины, такие как красота или возвышенное, но можно выделить ряд выдающихся мыслителей, которые занимались этим термином, даже если кажется, что есть тенденция к сближению. дело в несколько уклончивой манере.Джон Раскин (1819–1900), Мишель Фуко (1926–1984) и Юлия Кристева (1941–1984), например, все внесли значительный вклад в изучение гротеска, но все они в работах, которые якобы изучают нечто иное. . 4 То же самое и с русским философом и литературным критиком Михаилом Бахтиным (1895–1975), который оказал наибольшее влияние на теоретизацию этого термина, но пришел к своим выводам о гротеске почти как запоздалую мысль. В книге Рабле и его мир (1965), анализе французского писателя XVI века Франсуа Рабле, Бахтин анализирует удивительный спектр гротескных тел и гротескных поступков, отображаемых в фантастическом мире романов Рабле «Жизнь Гаргантюа и Пантагрюэля ». (1532–1564).Бахтин сообщает нам, что главные герои рассказа Рабле — гиганты и поэтому гротескного роста, но их гротескное существование в первую очередь разыгрывается в их чрезмерном и трансгрессивном поведении, а также в их преувеличенной форме. Например, рассказчик рассказывает, как гиганты ходят по Франции, уничтожая все на своем пути, поедая пищу (включая людей) в чрезмерных количествах, и как пожираемая материя покидает их тела после обработки:
Я протер хвост курицей, петухом, молодкой, телячьей шкурой, зайцем, голубем, бакланом, сумкой адвоката, [но] в мире нет никого сопоставимого. на шею гуся.. . как в отношении мягкости указанного пуха, так и в отношении умеренного тепла гуся, которое легко передается животному кишечнику. 5
Сцена за сценой гротескного поведения, подобного этой, демонстрируются рядом с такими же гротескными телами, почти всегда с акцентом на «нижний слой тела». Эта фиксация на «деградации, то есть понижении всего высокого», утверждает Бахтин, дает нам ряд полезных определений гротеска. В первую очередь гротеск имеет тенденцию вызывать «низкое» и «вульгарное». 6 Кроме того, гротеск часто срабатывает в тех случаях, когда акцент делается «на отверстиях или выпуклостях, или на различных ответвлениях и ответвлениях: открытый рот, половые органы, грудь, фаллос, живот. , нос. Тело раскрывает свою сущность как принцип роста. . . Это вечно незаконченное, вечно творящее тело ». Наконец, гротеск — это то, что расширяется, преувеличивается, нарушается. Гротескное тело, по крайней мере, по Бахтину, поэтому всегда является «телом в процессе становления», чтобы стать «космическим и универсальным».” 7
В то время как Бахтин дает нам много проницательных комментариев о гротескном теле и его гротескном поведении, основное внимание в его исследовании на самом деле не гротеск как таковой. Скорее, это «карнавальный»: смех, который следует вслед за такими гротескными заданиями. Во время карнавалов, объясняет Бахтин, мы переживаем такое состояние дел (карнавальное), при котором нормы ниспровергаются, высмеиваются и «унижаются», но только «для того, чтобы родить что-то лучшее». 8 Здесь важно отметить, что Бахтин рассматривает карнавал и карнавал в очень позитивном свете, как пространство и период, в котором на этот раз, хотя бы временно, «все считались равными.» 9 Как он поясняет:
карнавал не знает рампы в том смысле, что не признает различия между актерами и зрителями. . . . Карнавал — это не зрелище, которое видят люди; они живут в нем, и все участвуют, потому что сама его идея охватывает всех людей. 10
Во время карнавала все запреты и нравы, даже идентичности, высвобождаются, так что новые и лучшие нормы и личности могут обрести форму. Бахтинское видение подрывного и освободительного потенциала карнавального поведения распространяется и на гротескное тело, и на гротескное поведение тоже.Ибо в то время как гротеск для многих дает отрицательные коннотации ужасного и отвратительного, Бахтин представляет своим читателям мировоззрение, в котором гротеск представляет собой революционное открытие новых и захватывающих возможностей. Вместо извержения неконтролируемых и трансгрессивных форм поведения и тел, которые лучше всего устранить, Бахтин считает гротескное поведение и гротескные тела жизненно важным признаком здоровья не только для человека, но и для общества в целом.
В исследовании Юлии Кристевой о «презренном» в « Powers of Horror » (1980) используется совершенно иной подход.Там, где Бахтин восхищается телом, которое «не отделено от мира четко определенными границами» и поэтому находится в контакте с «материальными и телесными корнями мира», а не отделено от них, Кристева видит отвращение. 11 В отличие от Бахтина, который прославляет открытое тело в процессе становления, Кристева утверждает, что трещины на теле всегда являются источником беспокойства. В самом деле, «презренное», как она это называет, располагается где-то между Я, субъектом и объектом (тем, что явно находится вне Я).Отвергнутое, хотя и находится в процессе превращения в объект, однако еще не полностью отделено от субъекта. В этом он существует в лиминальном состоянии «промежуточного, неоднозначного, сложного». 12 Экскременты и менструальная кровь, например, являются типичными примерами презренного в том смысле, что они изначально принадлежат телу субъекта, но при выходе из тела их статус становится неопределенным и, следовательно, потенциально грязным, опасным или отвратительным. Бахтин сосредоточился на освобождающем потенциале личности, раскрывающейся и становящейся единым с большим миром, либо через карнавальное поведение, либо через тело в постоянном обмене с другими телами, когда оно «совокупляется, испражняется, переедает». 13 Кристева, напротив, фокусируется на человеке и его страхе потерять контроль над субъективным «я». Как следует из названия ее книги, эта потеря, как у Бахтина, не до смеха; скорее, этого часто следует бояться. Исследование Кристевой того, как презренное воплощает в себе страхи субъекта быть поглощенным толпой или основной материей мира, или и тем, и другим, таким образом, дает нам полезный контрапункт восхвалению Бахтиным карнавала и его способности вовлечь человека в веселое взрыв секса, кала и еды.Ибо, хотя гротеск может привести к смеху и веселью, он так же легко может стать уродливым, ужасающим и мерзким.
Абсурд
Амбивалентность гротеска, будучи одновременно ужасным и веселым, отвратительным и соблазнительным, особенно ярко проявляется в обсуждениях абсурда, третьего и последнего термина, который нам необходимо изучить, прежде чем мы перейдем к анализу типичных примеров гротескная литература. Из многих терминов, с которыми гротеск имеет общие характеристики, абсурд, пожалуй, труднее всего противопоставить ему, в первую очередь потому, что эти два термина часто использовались как синонимы.Таким образом, сравнение с карнавальным и жалким может быть полезным для выявления определенных качеств гротеска. Тем не менее, если карнавальный, жалкий и гротескный имеют некую общую основу, эти три понятия, тем не менее, являются довольно разными терминами. С абсурдом все становится немного мрачнее. Рассмотрим прежде всего обсуждение абсурда Филипом Томсоном в книге The Grotesque (1972), в которой он отмечает, что:
современное использование «абсурда» в контексте литературы (особенно драмы) настолько приближает его к гротеску, что театр абсурда можно было бы назвать «театром гротеска».” 14
Томсон прав, и любой, кто знаком с пьесой Эжена Ионеско « Носорог » (1959), в которой жители деревни начинают превращаться в носорогов, может подтвердить. То же самое и с фильмом Сэмюэля Беккета «Эндшпиль » (1957) Сэмюэля Беккета, в котором у двух главных героев отсутствует нижняя часть тела, и они вынуждены прожить свою жизнь, стоя на помойке, как дряхлые человеческие цветы. Оба текста считаются классикой театра абсурда, но, безусловно, содержат гротескные тела и гротескное поведение.
Так где же кончается абсурд и начинается гротеск, и наоборот? Основное различие между этими двумя терминами может быть выявлено, если мы внимательно рассмотрим еще один рассказ о трансмутации и становлении — «Метаморфоза » Франца Кафки (1915). В этом рассказе рассказывается история Грегора Замсы, сознательного молодого продавца, который просыпается однажды утром и обнаруживает, что превратился в того, что в немецком оригинале называется «ungeheures Ungeziefer», что по-разному переводится на английский как насекомое, жучок или паразит.Однако, как замечает переводчик Кафки Сьюзан Бернофски, «язык, который появляется в самой новелле, тщательно выбран, чтобы избежать конкретики», и слова, используемые для описания существа, в которое метаморфозы Самсы не являются исключением. 15
Эта неопределенность немецкого термина, как поясняет Бернофски, очень важна. Поскольку, хотя Замза претерпевает «гротескную метаморфозу», окончательная форма, в которой он появляется, еще не определена, и этот факт в конечном итоге делает историю более абсурдной, чем гротескной.Мы видим абсурдность ситуации Замсы также в том, что его реакция на «гротескную» трансформацию, мягко говоря, приглушена. Проснувшись и обнаружив, что он лежит на «твердой, похожей на раковину спине» и что теперь у него «многочисленные ноги, которые были жалко тонкими по сравнению с остальной частью его тела», Замза не выражает ни паники, ни удивления, ни даже многого удивлен его новой формой. В основном он просто раздражен и хочет «снова немного поспать», демонстрируя тем самым экзистенциальное безразличие к буквально чудовищному событию, которое продолжается на протяжении всей истории. 16 В то время как члены семьи Замсы выражают шок и отвращение к его новой форме, кажется, что сам Замза никогда не выходит за рамки мирских вопросов повседневной жизни, например, как вернуться к работе в форме насекомого. Поскольку Замза не считает себя чудовищным и гротескным, и поскольку история в основном рассказывается с его точки зрения, то «крайнее несоответствие», определенное Томсоном как центральная характеристика гротеска, мало.
Подумайте также о замечательном спокойствии, которое Замза выражает в первое утро своей трансформации, когда он в конце концов решает проснуться и встретить новый день.Поскольку он собирается опоздать на утренний поезд, рассказчик отмечает, что:
Первое, что он хотел сделать, это встать в тишине и покое, одеться и, самое главное, позавтракать. . . . Утилизировать одеяло было довольно просто; Достаточно было немного надуть, и она автоматически упала. Но после этого все стало сложно, тем более что он был необычайно широк. Ему потребовались бы руки и кисти, чтобы подняться в сидячем положении; но вместо этого у него были только эти многочисленные ноги, которые постоянно совершали самые разнообразные движения. 17
Именно в этом полном отрицании гротескного воплощения превращения в насекомое (или жучка, или паразита), пытаясь сохранить нормальность чего-то столь обыденного, как одевание или соблюдение времени, история трансформации Замсы скользит из гротеск на территорию абсурда. В конце концов, можно легко представить себе другую версию « Метаморфоза », написанную, возможно, Рабле, в которой преобразованное тело Замсы и его новое и бесчеловечное поведение были бы описаны с кровавыми и гротескными подробностями.Однако в отстраненном голосе Кафки несоответствие трансформации ощущается не в явном и вульгарном сохранении избытка, а в самом его отсутствии: даже более ненормальным, чем сама трансформация, является неспособность Замы распознать ненормальность. Таким образом, различие между рассказом о «гротескной метаморфозе» и рассказом об абсурдном, по крайней мере частично, следует искать на уровне несоответствия, переживаемого его персонажами. Преобразование Замсы может представить читателю радикальное несоответствие, которое становится еще более несовместимым из-за непонимания Замсы того, насколько это несоответствие на самом деле, но во внутреннем мировоззрении Замсы почти нет места для несоответствия, и именно поэтому читатели могут переживать историю с чувством любопытной отстраненности, а не с презренным ужасом или карнавальным смехом.
Таким образом, мир абсурда может быть столь же громко странным, странным и тревожным для читателя, как мир гротеска. Целая деревня людей, превратившихся в носорогов, как в пьесе Ионеско, или мусорные баки с людьми, у которых не хватает половины тела, как в пьесе Беккета, скорее всего, может сбить с толку многих из нас. Если повторить определение гротеска, данное Кайзером, каждый из них может показаться «миром, полностью отличным от привычного». Однако если те, кто переживают такие миры и живут в них, лишь частично осознают это различие — если они действительно осознают это вообще, — тогда ощущение гротескного несоответствия переходит в странную отстраненность абсурда.Это также может объяснить, почему литература абсурда, представленная Беккетом, Ионеско и Кафкой, а также такими великими литературными деятелями ХХ века, как Альбер Камю, Гарольд Пинтер и Том Стоппард, легко классифицируется как элитарное «высокое искусство». », В то время как литература гротеска обычно описывается как популярное« низкое искусство ». Отстраненные от своего зачастую базового материала, авторы абсурда предлагают интеллектуальную прохладу, в то время как автор гротеска намеренно барахтается в горячем беспорядке.Гротескная литература, погрязшая в «нижнем слое тела» Бахтина, как и во всем теле в целом, редко, если вообще когда-либо, отстраняется, как это обычно бывает в литературе абсурда.
Человеческое тело: части, разрывы, кишки
Когда мы, наконец, обратимся к литературе, которую мы, , можем безоговорочно назвать литературой гротеска, мы должны прежде всего внимательнее взглянуть на литературу, которая фокусируется на человеческом теле, особенно на его базовых и часто скрытых аспектах. В конце концов, это не совпадение, что этимологию слова гротеск можно проследить до итальянского «грот», что означает то, что скрыто под землей. 18 Не случайно и то, что Бахтин, наиболее часто цитируемый теоретик гротеска, имеет дело с литературным текстом, который так неуклонно фокусируется на отверстиях тела и материи, которая входит или выходит через них, хотя и не только в ее « нижний слой ». Это становится важным при исследовании человеческого тела, места, вокруг которого вращаются все остальные тела гротеска. Как указывает Кристева, именно в фазе перехода субъекта к объекту мы обнаруживаем отвратительный поток телесных жидкостей, следовательно, также точку, в которой мы теряем уверенность в себе именно потому, что «мы» не можем установить какую-либо четко очерченную границу между нашими собственными. тела и остальной мир.
Но что происходит, когда в остальном совершенно нормальные и четко очерченные части тела смещаются из целого? Например, в книге Эдгара Аллана По «Сердце-обличитель» (1843) чувство гротескного ужаса, связанное с этой историей, основывается не столько на том факте, что в ней описывается убийство старика, сколько на манере, в которой части тела убитого, кажется, действуют сами по себе, независимо от их отношения к остальной части тела. Как рассказчик-убийца сразу признает, у него нет реальной причины убить свою жертву, кроме того, что взгляд старика, кажется, вызывает у него сильное беспокойство:
Объекта не было.Страсти не было. Я любил старика. Он никогда не обидел меня. Он никогда не оскорблял меня. Его золота у меня не было никакого желания. Я думаю, это был его глаз! Да именно это было! У него был глаз стервятника — бледно-голубой глаз, покрытый пленкой. 19
Старик описывается как совершенно обычный человек, за исключением того факта, что его глаз кажется каким-то неуместным, глаз животного в человеческом теле. Позже, когда рассказчик открывает дверь в комнату старика посреди ночи, чтобы убить его, глаз снова оказывается неуместным, только на этот раз не с точки зрения глаза животного, существующего в человеческий каркас, но отсутствует сам каркас.Когда он освещает старика светом фонаря, рассказчик случайно освещает глаз старика и только глаз:
Он был открыт — широко, широко открыт — и я пришел в ярость, глядя на него. Я видел это с совершенной отчетливостью — все тускло-синее, с отвратительной вуалью на нем, от которой леденел самый мозг в моих костях; но я не мог больше видеть ни лица, ни лица старика, потому что я направил луч, как будто инстинктивно, именно на это проклятое место. 20
Этот первоначальный ужас перед глазами животного, оторванными от «лица или человека», становится еще более ужасающим, когда убийца совершает свой поступок и приступает к работе, чтобы «отрезать голову, руки и ноги. 21 В этом случае убийца сам несколько отстранен: акт расчленения упоминается лишь вскользь, а главный герой поздравляет себя с хорошо выполненной работой, поскольку части старика распределены под половицами. Действительно, когда полиция прибывает, чтобы расследовать крик, о котором сообщил сосед, рассказчик призывает их обыскать помещение, даже дружелюбно болтая с ними, поскольку он предлагает им сесть прямо над местом, где были захоронены останки старика. .И снова, однако, ужас перед частями тела возвращается, чтобы преследовать рассказчика, который теперь приходит к выводу, что он слышит, как сердце умершего бьется под половицами. Само убийство и последующее ужасное расчленение, похоже, на него нисколько не повлияли. Однако гротескный ужас невозможности того, чтобы сердце продолжало биться после смерти, способности сердца действовать независимо от остальной части теперь расчлененного тела, в конечном итоге заставляет его признаться в своих преступлениях перед ничего не подозревающими офицерами полиции.
Жорж Батай « История глаза » (1928), как и рассказ По, имеет целью привести читателей в ужас, но преследует совершенно другую цель. Сначала эти две истории кажутся во многом похожими. Как и в «Сердце-обличье», главные герои Story of the Eye зацикливаются на глазах и, как главный герой По, совершают убийства. Однако одна важная деталь заключается в том, что главные герои этих двух историй не могли быть дальше друг от друга. В то время как главный герой По убивает, потому что напуган, персонажи Батая совершают убийство, потому что они возбуждены.Всегда провокационные Батай не тянут ударов, как он берет свои читатель на порнографическом ураганный тур извращений, который включает в себя писсуар секса, некрофилию, мастурбацию, самоубийство, а также блюда из «двух очищенных шаров, сальники размера и формы яйца, и жемчужной белизны, слегка налитой кровью, как глазной шар ». 22 Независимо от того, являются ли глаза эрзацными или настоящими, образными или действительными, простая близость к чему-либо, похожему на глаза, никогда не перестает волновать главных героев, фетишизация видения, которая достигает своей буквальной кульминации в последней и самой печально известной сцене книги, в которой они задушить священника на полу в церкви и заставить его вступить в половую связь.Затем они вырезают глаз священника, и один из главных героев вставляет его ей во влагалище.
Это странное сочетание вуайеристского возбуждения и отвращения прекрасно иллюстрируется рассказом Чака Паланика «Кишки» из сборника рассказов « вместе », романа « Призраки » (2005). Как сообщается, «Guts» считался настолько отвратительным, что люди падали в обморок при чтении этой истории в прямом эфире во время рекламного тура. Тем не менее, несмотря на эту внутреннюю реакцию или, скорее, благодаря ей, Паланик продолжал собирать все большие толпы в течение нескольких недель после первого инцидента, что якобы привело к тому, что еще больше людей теряли сознание. 23 Независимо от того, является ли история апокрифом, идея о том, что повествование может быть настолько шокирующим, что вызывает у аудитории тошноту и что сам этот факт привлечет еще большую аудиторию, указывает на странную привлекательность произведений искусства, которые якобы отвратительны. Точно так же, как «карнавал вдохновлен определенной, возможно периодической, человеческой потребностью для растворения границ и устранения границ», кажется, что мы, люди, по крайней мере время от времени, желаем переместиться на территорию того, что в противном случае считаем отвратительным. 24
Как и «Сердце-обличитель» и «История глаза » , «Кишки» рассказываются безымянным рассказчиком от первого лица, который также является главным героем. Однако в истории Паланика главному герою не интересны глаза, и он не сумасшедший убийца. На самом деле, как он сам отмечает, он довольно стандартный подросток, который, как и все его сверстники, является «маленьким сексуальным маньяком». 25 Как становится ясно из серии историй с участием других подростков, таких же, как он, — подростков, которые мастурбируют с морковью, проводят различные эксперименты с аутоэротическим удушением, а также открывают письма и покрывают воском свои писсуары — рассказчик уверяет своего читателя. понимает, что действие, которое он собирается описать, в каком-то смысле и совершенно нормально, и совершенно ненормально.Это нормально, поскольку подростки склонны к экстремальным формам мастурбации. И все же это ненормально в том смысле, что описанные действия могут показаться многим (взрослым) гротескным. Конечно же, изобретательный акт рассказчика — мастурбация, «отстегивание под водой, сидение на дне в глубине бассейна моих родителей», кажется ему совершенно нормальным. Когда он спрашивает: «Кому не нравится, когда ему сосут задницу?» 26 Как сообщает нам рассказчик, засосать себе задницу в бассейне небезопасно.В один судьбоносный день, когда он наслаждается тем, как «постоянный отсос впускного отверстия бассейна обливает меня, и я растираю свою тощую белую задницу из-за этого чувства», он понимает, что «Моя задница застряла». 27
В конце концов, рассказчику все же удается освободиться, вырываясь снизу изо всех сил. Больше не прилипая к входному отверстию, он, тем не менее, изо всех сил пытается понять «толстую веревку, какую-то змею, сине-белую и оплетенную прожилками, [которая] вышла из водостока бассейна и [которая] держит на мою задницу.Только через некоторое время он понимает посредством отложенного декодирования, что причина, по которой «змея», кажется, имеет прозрачную «тонкую сине-белую кожу», сквозь которую он может видеть «комки какой-то полупереваренной еды», заключается в том, что совсем не змея. Фактически, это «моя толстая кишка, моя толстая кишка, вырванная из меня». В этот момент бассейн превратился в один огромный жалкий беспорядок, «суп из крови и кукурузы, дерьма, спермы и арахиса», и в этот момент рассказчик решает «укусить и щелкнуть [свою] задницу», грызя ее. его кишечник и его кал, чтобы освободиться. 28
И именно в этом, в конечном итоге — в своем восторженном и восхитительном желании шокировать своих читателей графическими изображениями человеческого тела с частями и разрывами — По, Батай и Паланик встречаются в буйном крахе всего низшего, растворяющийся, открытый и жалкий. В своем ликующем воспевании тела по частям, тела извращенного и тела вывернутого наизнанку По, Батай и Паланик упиваются ужасающими деталями тел, сведенных до самых низших функций, как это делали Кафка, Беккет и Ионеско. не.
Бесчеловечные: причудливые, чудовищные и машинные тела
Если обычное и предположительно нормальное человеческое тело может быть средоточием гротеска, когда оно открывается, проникает, разделяется, выверяется наизнанку и перераспределяется множеством различных способов, было бы разумно предположить, что нечеловеческое тело предлагает даже более богатый гротескный потенциал. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, в этом разделе рассматриваются три различных вида нечеловеческих тел: причудливое тело, чудовищное тело и машинное тело.
Прежде всего, причудливые тела — это те, которые номинально являются человеческими, но часто считаются не совсем человеческими. В книге Freaks: Myths and Images of the Secret Self (1978) Лесли Фидлер делает это центральным различием, заявляя, что «монстры не« настоящие », как уроды». В то время как монстр является мифологическим, «настоящий Урод бросает вызов общепринятым границам между мужчиной и женщиной, половым и бесполым, животным и человеком, большим и малым, самим собой и другим». 29 Фидлер продолжает подробно анализировать примеры этого, включая гермафродитов, карликов, гигантов и сиамских близнецов, «уродов», чьи ненормальные тела бросают вызов «условным границам» предположительно идеальной человеческой формы и размера, но тем не менее явно являются человеческими. потомство.Этот неоднозначный статус урода как человека, но не человека, важен при обсуждении понятия урода именно потому, что он исследует часто вызывающие беспокойство и нечеткие границы, отделяющие человека от бесчеловечного. Хотя эта неуверенность может вызвать чувство отвращения и ужаса, поскольку человеческий субъект чувствует раскрытие своего «тайного я», она, безусловно, также может привести к возбуждению и восхищению. Мы видим это в самом существовании «шоу уродов» как историческом феномене, но также и в том, что оно подробно исследуется в таких романах, как « ночей в цирке » Анджелы Картер (1984) и « Geek Love » Кэтрин Данн (1989). ). 30 В обоих этих романах причудливое тело считается не только увлекательным для «Норм», потому что оно беспокоит, но также в высшей степени эротичным и привлекательным именно потому, что оно ненормально, и поэтому его предпочитают «ужасу нормальности». . Каждого из этих невинных людей на улице охватывает ужас собственной заурядности. Они сделают все, чтобы быть уникальными ». 31
С другой стороны, чисто чудовищное тело — это то, что никогда не было человеческим или продвинулось настолько далеко за пределы человеческого, что больше не распознается как таковое.Чудовище из книги Мэри Шелли Frankenstein (1818) может состоять из настоящих человеческих обломков и частей, «костей из склепов» и останков «анатомической комнаты», но сочетание этих человеческих останков настолько отвратительно, что даже сам создатель этого существа, профессор Франкенштейн, не может смотреть на «негодяя — жалкого монстра, которого я создал». 32 Это чувство отстраненности и бесчеловечности становится, конечно, еще яснее, если рассматриваемое чудовищное тело не содержит вообще никаких человеческих элементов.Будь то гибридные монстры, такие как грифон, 33 наполовину орел и наполовину лев, или тела, которые полностью или частично отличаются от любых известных форм жизни на Земле, как в рассказе Лавкрафта «Цвет вне Космос »(1927), в котором описывается существо, которое« не было ничем от этой земли, но частью великого внешнего; и как таковое наделенное внешними свойствами и послушное внешним законам »такое тело чудовищно, потому что его нельзя узнать. 34 Как отметил философ Жак Деррида в часто цитируемом отрывке, чудовище «проявляется в чем-то, что еще не показано и поэтому выглядит как галлюцинация, бросается в глаза, оно пугает именно потому, что никакое ожидание не произошло. подготовил для идентификации этой фигуры. 35 Как только мы познакомимся с монстром, — предлагает Деррида, — как только мы познакомимся с ним, он перестанет быть монстром. В том же духе Джеффри Джером Коэн утверждает в Monster Theory (1996), «что монстра лучше всего понимать как воплощение различия, разрушителя категорий и сопротивляющегося Другого». 36
Это ощущение знакомства или его отсутствие также является причиной того, что машинные тела могут считаться гротескными или нормальными, в зависимости от соотношения людей и машин данного машинного тела.Монстр Франкенштейна, собранный из человеческих кусков и частей, является продуктом как просвещенной науки и техники, так и темной некромантии. Это также объясняет, почему сам роман Шелли находится в неоднозначной категории, провозглашенной как «первый фантастический [научно-фантастический] роман», так и «один из текстов, теперь синоним готики», и в конечном итоге ставший «культовым текстом» для соединение двух в «Готической научной фантастике». 37 Пока Франкенштейн рассматривает свой проект исключительно как результат науки и техники, его омерзительное собрание человеческих частей не кажется ему ни отвратительным, ни ужасающим.Только когда он начинает осознавать, что чудовище одновременно является человеком и бесчеловечным — то есть, когда оно больше не рассматривается в чисто машинных терминах, — существо становится для него гротескным, так что его сердце наполнен «затаившим дыхание ужасом и отвращением». 38
Точно так же частично человеческая, частично машинная фигура киборга с гораздо большей вероятностью вызовет ощущения гротеска, чем полностью механическая конструкция робота или компьютера.Примером этого является разница между барменом-киборгом и искусственным интеллектом в киберпанк-романе Уильяма Гибсона Neuromancer (1984). Первый, чья рука заменена на «российский военный протез». . . в корпусе из грязно-розового пластика »- это гротеск, чей« розовый коготь »явно является механической и материальной конструкцией, привитой к человеческому телу. 39 Neuromancer и Wintermute, с другой стороны, два искусственных интеллекта из романа, нигде конкретно не существуют, являются полностью механическими и в их окончательной и объединенной форме в качестве супер-ИИ больше не существуют. даже связаны с людьми в том смысле, что теперь они могут производить потомство без помощи людей.Роман заканчивается тем, что чисто механический супер-ИИ оставляет человечество позади, буквально взлетая к звездам, пытаясь установить контакт с внеземным ИИ, в то время как главный герой книги явно человек вместо этого решает инвестировать в «новую поджелудочную железу и печень», говорит. 40 Поскольку новый и развоплощенный механический вид родился и устремился к звездам, человеческий вид остался на земле (и на ней) во всем своем обычном ужасном убожестве.
Вне зависимости от того, рассечено ли нормальное человеческое тело на части, разорвано или вывернуто наизнанку, или причудливое, чудовищное или машинное тело переплетается с человеческим, кажется, что наибольший потенциал гротеска проявляется на пограничной территории между нечеловеческим и нечеловеческим. человек.Полностью механический, как в супер-ИИ Гибсона, или полностью чуждый и чудовищный, как в бестелесном и инопланетном присутствии Лавкрафта, которое можно описать только как цвет (и даже не так, поскольку его «почти невозможно описать; и это только по аналогии они вообще назвали это цветом »), странные, пугающие и жуткие. 41 Тем не менее, поскольку они так далеки от любой узнаваемой земной и привязанной к земле формы, их нельзя по-настоящему назвать гротескными. Как с абсурдом, который слишком абстрактно холоден и отстранен, чтобы полностью раскрыть гротеск, так и с нечеловеческим телом, которое опять-таки слишком далеко от «телесного нижнего слоя» Бахтина.«Гротеск в прямом и переносном смысле — это ощущение, спровоцированное тем, что приземлено. Чем дальше мы удаляемся от человеческого тела и от изначальной земной обители таких тел, тем дальше мы удаляемся и от гротеска.
Социальное тело: индивиды и социальный порядок
Последнее тело, которое нам необходимо рассмотреть, не является буквальным телом. Тем не менее, социальное тело, хотя, возможно, является абстрактным понятием, описывающим отношения индивида к обществу и наоборот, а не физическим телом, тем не менее всегда в некоторой степени связано с материальными телами.Именно тогда, когда социальное тело начинает обращаться с отдельными человеческими телами как с нечеловеческими, тем самым исключая некоторые индивидуальные тела из социального тела в целом, социальное тело становится все более гротескным. Именно это происходит с Йозефом К. в книге Кафки «Процесс » (1925), в которой отдельное тело становится бесчеловечным в глазах общества, которое кажется безразличным к своим правам. На протяжении всего романа К. никогда не узнает, почему именно ему было предъявлено обвинение, и в чем именно его обвиняют.Каким бы абстрактным и далеким ни казался авторитет, человеческое тело, его собственное и чужое, подвергается длинной череде гротескных действий, пока К. пытается выяснить, что именно с ним происходит и почему.
Как и Метаморфоза , части романа Кафки мрачно абсурдны, не в последнюю очередь те отрывки, в которых К. пытается бороться с бестелесной бюрократической системой, которая без предупреждения изгнала его из общества. И все же история Кафки становится гротескной именно тогда, когда безликая бюрократия материализуется в физических телах и на них.Это, безусловно, относится к открытию К., что двух офицеров, которые первыми арестовали его, бьет другой правительственный чиновник, «одетый в своего рода темную кожаную одежду, которая оставляет его руки и большую часть груди полностью обнаженными», который было поручено назначить порку из-за жалобы К. 42 Принимая во внимание, что открытие и обстановка абсурдны, само описание наказания является гротескным in extremis , сосредоточивая внимание на чрезмерном и экстремальном поведении, и на преувеличенных и ненормальных телах.Как замечает одетый в кожу мужчина, собираясь начать порку:
Посмотрите, какой он толстый, первые мазки потратятся на жир. Вы знаете, как он стал таким толстым? У него есть привычка завтракать всех, кого он арестовывает. Разве он не позавтракал? Вот ты где. Но человек с таким животом никогда не сможет стать трэшером, об этом не может быть и речи. 43
Здесь абсурдность безразличной системы проявляется через обнаженные человеческие тела, описанные как ненормальные, непригодные и преувеличенные, а также через весьма инстинктивное наказание, которое они получают за абстрактное и, казалось бы, незначительное нарушение.Как и в случае с самим К., который в итоге получает смертную казнь за столь незначительное нарушение, ему даже не удается его идентифицировать, эти случаи, образно говоря, гротескны из-за диспропорции между причиной и следствием, проступком и наказанием. Как происходит при избиении двух офицеров, тело К. также оказывается в центре внимания, поскольку он получает наказание от непостижимых и неосязаемых властей:
Где был судья, которого он никогда не видел? Где был высокий суд, до которого он никогда не доходил? Он поднял руки и растопырил палец.
Но руки одного из мужчин были возложены на горло К., а другой вонзил нож ему в сердце и дважды повернул его. Когда его зрение потемнело, К. увидел, как двое мужчин прижались щекой к щеке вплотную к его лицу, наблюдая за окончательным приговором. «Как собака!» 44
Приконченный «как собака», К. одновременно бесчеловечен и в высшей степени человечен: животное, пригодное для убоя, но также и человек с сердцем, которому нужно заколоть, горлом, которое нужно схватить, и, что наиболее важно, голосом, который выносит окончательный приговор по поводу очевидной несправедливости того, что он был признан принадлежащим к низшему слою (бесчеловечной) жизни.
Обнаженная жизнь также является гротескным ядром романа Примо Леви «Если это мужчина» (1947), рассказа о жизни и смерти в концлагере Освенцим во время Второй мировой войны. Леви описывает «уничтожение человека» посредством серии унижающих достоинство и бесчеловечных действий, направленных на то, чтобы он и другие заключенные лагеря «достигли дна». Лишенные «нашей одежды, нашей обуви, даже наших волос», они лишаются своего языка, имен и идентичности, причем «гротескным и саркастическим образом». 45 Безмолвные и безымянные, за исключением цифр, вытатуированных на их руках, они, таким образом, как личности и как масса, сведенная к тому, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал «голой жизнью» ( zoe ). В отличие от гражданина ( bios ), существование которого регулируется верховенством закона и который поэтому заявляет об определенных правах, социальное тело иногда будет считать категорию людей «лишенной ценности жизнью», что является именно то, что случилось с евреями и рядом других меньшинств во время нацистского правления. 46
В то время как роман Кафки и мемуары Леви описывают, как к человеку могут относиться и к нему относились с гротескным безразличием посредством изгнания определенных групп людей из социального тела, социальное тело также может порождать людей, которые становятся настолько отчужденными, что совершают насилие. чтобы восстановить хоть какое-то положение в мире, в котором они иначе не могли бы ориентироваться. Патрик Бейтман, главный герой массового убийства в фильме Бретта Истона Эллиса « American Psycho » (1991), например, — на вид успешный инвестиционный банкир, живущий роскошной жизнью в Нью-Йорке.Молодой, здоровый и богатый, Бейтман должен быть образцовым гражданином своего социального тела, но он больше похож на ядовитый рак, проводя ночи, убивая и мучая людей. Книга Рю Мураками « в супе мисо » (1997), также об американском серийном убийце, рассказывает историю Фрэнка, крупного бизнесмена из среднего класса, который устраивает убийства в районе красных фонарей в Токио. И, наконец, у нас есть Лестер Баллард из романа Кормака Маккарти The Child of God (1973), недоедающий и бедный человек из сельской местности Юга, который частично вынужден, а частично выбирает жить вне общественного строя, но в итоге оказывается убивая вереницу людей, даже когда он пытается дистанцироваться от остального человечества.
Различия в классе и если не брать в расчет, все три серийных убийцы описываются как имеющие много общих черт. Все три книги чрезмерно сосредоточены на убитых, расчлененных и измученных телах жертв, а также на некрофилических наклонностях их кровожадных главных героев. Мы также находим чрезмерное внимание к физиономии самих убийц (гипертрофированное тело Бейтмана, избыточное тело Фрэнка и жилистое тело Балларда), даже несмотря на то, что эти три книги кажутся задуманными как критика изнанки абстрактного социальный орган.В этом все эти вымышленные серийные убийцы выражают кровавую ярость по отношению к социальным группам, от которых они чувствуют себя изолированными и отчужденными: одинокие и ищущие человеческий контакт, они исключают любой такой контакт, уничтожая тех самых людей, с которыми они так желают близости. Само человеческое существование, как кажется в этих романах, гротескно; в высшей степени люди и всегда воплощенные, мы никогда не сможем полностью избежать нашей низменной природы, независимо от того, насколько современными, утонченными и далекими от животного, которым мы себя представляем.Будь то смех, удовольствие или ужас и отвращение, потенциал гротеска остается, пока мы остаемся людьми.
Обсуждение литературы
Книга Вольфганга Кайзера « Гротеск в искусстве и литературе » (1957) — это современная классика исследований в области гротеска, как и работа Джеффри Галта Харфема « Гротеск: стратегии противоречия в искусстве и литературе » (1982). 47 В качестве вводных текстов к предмету можно привести книги Филипа Томсона Гротеск (1972) и Джастина Д.Книга Эдвардса и Руне Граулунда « Grotesque » (2013 г.) более доступна, а может быть и более поверхностна. 48 Что касается феминистского взгляда на гротеск, то книга Мэри Руссо Женский гротеск (1995) предлагает отличное прочтение конкретных тематических исследований, а также столь необходимое обсуждение часто невысказанных гендерных последствий гротеска. 49 О постколониальных перспективах см. Книгу Марии Соны Пиментель Бискайя « Postcolonial and Feminist Grotesque » (2011) и David K.Данова Дух карнавала: магический реализм и гротеск (2004). 50 Для региональных вариантов гротеска существенное значение имеет эссе Фланнери О’Коннор «Некоторые аспекты гротеска в южной художественной литературе» (1960). 51 О национальных перспективах см., Например, книгу Артура Клейборо «Гротеск в английской литературе» (1965) и книгу Джеймса Гудвина «Современный американский гротеск: литература и философия» (2009). 52 Наконец, если рекомендовать только одну книгу о гротеске, « Рабле и его мир » (1965) Михаила Бахтина остается авторитетным текстом даже спустя полвека после его первой публикации. 53
Гротеск и современный гротеск
Абстракция
Источником гротеска в искусстве и литературе является способность человека находить уникальное и мощное очарование в чудовищном. Психические причины этой склонности далеко не ясны, но сама склонность наложила свой отпечаток на самые разные культуры, от доисторических до наших дней, от самых примитивных обществ до самых сложных. От наскальных рисунков ледникового периода до современных фильмов, от шаманских костюмов и масок дьявола до картин Дали и Пикассо, от народных сказок и сказок до сочинений Кафки — превращения людей, зверей, дьяволов и химер сделали свое причудливый прогресс, постоянно меняющийся вместе с мировоззрением культур, которые их породили, но все же сохраняющий существенные качества, по которым мы можем попытаться обозначить их как гротески.Через несколько веков эта склонность стала более выраженной, чем в наши дни.
Ключевые слова
Сказка Психическое расстояние Полное господство Мазок кисти Пожарная машинаЭти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.
Это предварительный просмотр содержимого подписки,
войдите в, чтобы проверить доступ.
Предварительный просмотр
Невозможно отобразить предварительный просмотр.Скачать превью PDF.
Примечания
2.
Ли Байрон Дженнингс,
The Ludicrous Demon(Berkeley: University of California Press, 1963), стр. 3-5, составляет интересный и забавный список различных современных применений термин.
Google Scholar4.
Работы Джона Раскинаизд. Э. Т. Кук и Александр Веддерберн (Лондон: Джордж Аллен, 1904 г.) XI, 45.
Google Scholar6.
«Жуткое»,
Стандартное издание полных психологических трудов Зигмунда Фрейдаизд. Джеймс Стрейчи (Лондон: Hogarth Press, 1955) XVII, 240.
Google Scholar7.
Жан Поль Сартр,
Набросок теории эмоций, пер. Филип Майре (Лондон: Метуэн, 1962).
Google Scholar11.
Джеффри Харфэм,
On the Grotesque(Princeton University Press, 1982).
Google Scholar28.
Жан Поль Сартр,
Тошнота, пер. Ллойд Александр (Нью-Йорк: Новые направления, 1964) стр. 78.
Google Scholar29.
Günter Grass,
The Tin Drum, trans. Ральф Манхейм (Нью-Йорк: Винтаж, 1963) стр. 411.
Google Scholar31.
Dotoyevsky,
Записки из подполья, пер. Эндрю Р. МакЭндрю (Нью-Йорк: Перстень, 1961).
Google Scholar
Информация об авторских правах
© Бернард Мак Элрой 1989
Авторы и партнерства
Гаргульи против гротеска — Джонни Грин
Гаргульи и Гротеск — два очень похожих произведения искусства, но их все время путают. Обе структуры широко известны и имеют очень жуткий вид.
Термин «горгулья» происходит от французского слова «гаргулья». Горгульи используются по многим причинам. Они отгоняют злых, вредных или нежелательных духов, чтобы защитить дома и церкви.Они также использовались в качестве водостока для отвода дождевой воды, которая могла повредить или разрушить здание. Вода выливалась из горгульи через желоб, прорезанный в шее фигуры, выходивший через рот и выходящий наружу.
Гаргульи обычно делаются из гранита и встречаются на старых церквях и готических постройках. В 12 веке они появились в Европе на церквях и привлекали людей, чтобы они стали частью Римско-католической церкви. Египтяне, греки, римляне и этруски использовали головы животных в качестве горгулий, как львы.
В 18 веке люди перестали использовать горгульи, потому что, когда старые или плохо сделанные горгульи падали со зданий, они наносили большой ущерб и пугали людей. Вместо использования горгулий родилась идея водосточных труб.
Гаргульи произошли из рассказа «Легенда о Гаргуилле». Это история дракона с крыльями летучей мыши, длинной шеей и способностью выдыхать огонь через рот.
Есть несколько версий этой истории. Одним из них был канцлер царя Меровингов, Клотера II, который покорил Ла Гаргуля своим распятием.Другая версия утверждала, что существо было захвачено канцлером и другим мужчиной.
В обеих версиях Ла Гаргуля привели обратно в Руан и сожгли существо. Однако голова и шея Ла Гаргуля не горят, потому что он обладает способностью дышать огнем. Вместо этого голова была прикреплена к церковной стене, чтобы отпугнуть злых духов и защитить церковь.
Гротески очень похожи на горгулий, потому что они тоже используются для защиты. Гротеск происходит от латинского слова «грот», что означает небольшая пещера или дупло.
Слово гротеск используется в литературе как прилагательное, означающее странный, уродливый, неприятный, фантастический или отвратительный. Его часто используют для описания странных или искаженных форм, таких как маски Хэллоуина.
У гротесков нет водостока, как у горгулий, это просто резьба по камню или изображения существ. Их можно использовать в качестве защиты, например, горгульи, или декоративные картины, и скульптуры.
Другое название гротеска — химера. Это мифические существа, очень похожие на гротески.Оба могут быть воображаемыми существами, гибридами людей и животных, драконами или демонами. Их обоих, как горгулий, можно встретить в церкви или старинном здании.
Гротески и горгульи — идеальное украшение для Хэллоуина или даже просто повседневное украшение церкви или старого дома. Они очень похожи, но теперь, возможно, вы сможете определить, какая из них горгулья, а какая гротескная!
Воображариум: Гротеск
В разговоре гротеск означает странный, фантастический, уродливый или причудливый, и поэтому часто используется для описания странных форм и искаженных форм, таких как горгульи на церквях или маски Хэллоуина.[1] Термин возник в визуальной сфере как стиль орнамента, характеризующийся причудливыми комбинациями переплетенных форм. Первым, кто использовал его в литературном контексте, был Вальтер Скотт в своем расширенном анализе творчества E.T.A. Хоффманн: О сверхъестественном в вымышленной композиции (1827).
Многозначность . Из-за присущих ему характеристик, гротеск может относиться к 1.украшения, 2. внешний вид, отношение или поведение, 3. эстетика.
1. Орнамент ( grottesche ). В архитектуре и декоративном искусстве гротеск — это орнаментальный стиль живописи или скульптуры с участием смешанных форм животных, человека и растений.
2. Взгляд или поведение. Что-то или кто-то, чья внешность или движения неожиданные, экстраординарные, нелепые, причудливые, преувеличенные, сверхъестественные. Гротескный внешний вид может включать в себя гибридность, деформацию или и то, и другое. Гротескное поведение может быть связано с излишеством или аффектацией.
3. Эстетика. Подобно возвышенному и живописному, гротеск также относится к области эстетики.
Этимология . Слово «гротеск» происходит от латинского грот , что означает пещера, естественная или искусственная. Выражение происходит от раскопок и повторного открытия древнеримских украшений в пещерах и других захоронениях в 15 веке. Такие «пещеры» на самом деле были комнатами и коридорами Domus Aurea , недостроенного дворцового комплекса, начатого Нероном после большого пожара 64 года нашей эры.
История искусства . В искусстве гротеск — это вид декора, отличающийся своей неоднородностью и странностью. Гротески были в моде в Древнем Риме и использовались главным образом в украшении стен и потолка фресками. Их описал Витрувий (около 30 г. до н. Э.), Который, отвергнув их как бессмысленные и нелогичные, дал довольно хорошее их описание: «колонны заменены камышами, рифлеными отростками с фигурными листьями, а завитки заменяют фронтоны, изображения опор канделябров святилищ, а на их крышах растут тонкие стебли и завитки с бессмысленно восседающими на них человеческими фигурами.«
Гротески, модная форма украшения в Древнем Риме, состояли из слабо связанных мотивов, часто включающих человеческие фигуры, птиц, животных и монстров, и располагались вокруг медальонов, заполненных нарисованными сценами. Поскольку Domus Aurea Нерона был случайно обнаружен заново в c. 1480 г. (погребен в полуторатысячелетней засыпке, так что комнаты имели вид подземных гротов), древние украшения фресками и лепниной произвели эффект откровения [2]. Художники пятнадцатого века, такие как Перуджино, Синьорелли, Филиппино Липпи и Мантенья, копировали древнеримские образцы.Их также изучали такие художники, как Пинтуриккио, Доменико дель Гирландайо и Рафаэль Санцио. Вместе со своим помощником Джованни да Удине Рафаэль разработал грот в законченную систему орнамента (Лоджии в Ватиканском дворце, Рим), которая стала очень известной и влиятельной во всей Европе [3].
« Гротески, не относящиеся к категории свободного и открытого антиквариата, для украшения поверхностей муралей, форм и подвешивания в воздушном пространстве для брюк.Артисты и представители различных видов монструозных творений капризной природы или экстравагантной фантазии артистов: изобретенные формы в деорс де терегл, приостановлены в фильмах финна, и не действуют, когда патроны, трансформируются. d’un cheval en feuillage, les jambes d’un homme en pattes de grue et peignaient ainsi une foule d’espiègleries et d’extravagances. Celui qui avait l’imagination la plus folle passait pour le plus doué. «[4]
Типографика .Гротеск (обычно с буквой G в верхнем регистре) — это стиль шрифтов без засечек XIX века. Заглавные буквы этого стиля были доступны с 1816 года. Название «Гротеск» было придумано Уильямом Тороугудом, который в 1832 году первым создал шрифт без засечек со строчными буквами.
Гротескная чувствительность в литературе . В художественной литературе персонаж обычно считается гротескным, если он вызывает одновременно сочувствие и отвращение [5]. Очевидные примеры могут включать физически уродливых и умственно отсталых, но также могут быть включены люди с достойными передергивания социальными чертами.«Горбун из Нотр-Дама» Виктора Гюго — один из самых знаменитых гротесков в литературе.
Чудовище доктора Франкенштейна и Призрак Оперы можно считать гротесками. Другие примеры романтического гротеска можно найти и у Э.А. По, Хоффманн и движение Штурм и Дранг. Примечательно, что романтический гротеск обычно гораздо более ужасен и мрачен, чем средневековый гротеск, который раньше ассоциировался со смехом и плодородием. В Алиса в стране чудес Льюису Кэрроллу удалось сделать гротескных персонажей не слишком пугающими и подходящими для детской литературы, хотя они по-прежнему остаются совершенно странными на протяжении всей истории.
Южная готика — это жанр, который чаще всего идентифицируют с гротесками, и Уильяма Фолкнера часто называют начальником манежа. Фланнери О’Коннор писала: «Когда меня спрашивают, почему южные писатели особенно склонны писать о уродах, я говорю, что это потому, что мы все еще можем их распознать». [6]
По коннотации : аберрантный — ненормальный — абсурд — амбивалентность — развлечение — причудливое — черная комедия — бурлеск — карнавальный — демон — девиантность — отвращение — эксцентричность — преувеличение — эксцесс — экстраординарность — экстравагантность — фантастика — фантастика — страх — уроды — горгульи — ужас — юмор — несочетаемое — смех — смехотворный — мрачный — чудовищный — диковинный — насмешка — странный — сверхъестественный — сюрреалистический — ужас — пародия — сверхъестественный — нетрадиционный — необычный — странный.
Практикующие . Фрэнсис Бэкон, Карлос Девять, Джулия ДеВиль, Серхио Менаше, Генрих Хоффманн, Качи Верона, Марко Мэтам, Куино, Хавьер Инга, Юка Ямагути, Альфредо Дженовезе, Тиль Новак, Эльвио Герваси
Знатоки . Франсуа Рабле, Джон Раскин, Вольфганг Кайзер, Михаил Бахтин, Филип Томсон, Джойс Кэрол Оутс, Дэвид Лавери, Ян Маккормик, Роберт Сторр, Памела Корт.
Пол Рамси (р. 1956) — британский художник-график, работающий в традициях воображаемого.Большинство его работ выполнено углем. Его образы мощные, зловещие и едкие, неоднозначные и тревожные. Многие из его идей взяты из истории искусства, но также из снов и кошмаров. Его влияние подытожено в его автобиографии: «Традиция гротеска особенно жива в гравюрах. Фантастика особенно подходит для графической среды, и можно проследить почти всю ее историю в офортах, гравюрах и гравюрах на дереве. В книге «Сон наяву: Фантазия и сюрреализм в графическом искусстве 1450-1900 годов» этот прогресс представлен в «Танце смерти» Гольбейна, мрачных гравюрах Урса Графа, гравюрах Калло, алхимических гравюрах семнадцатого века, научных, медицинских и анатомических иллюстрациях (I адаптировал диаграммы эмбрионального развития Эрнста Геккеля для моего рисунка Виды / Пол), эмблем, перевернутых вверх ногами популярных гравюр мира, Тюрьмы Пиранези (которые влияют на мои архитектурные фантазии), Роулендсона, Гиллрея (которых я изучал, чтобы научить их рисовать карикатуры). для рисунков, таких как мои «Семь грехов»), Гойи, Фусели и Блейка, и в девятнадцатый век с рисунками Гранвиля, Домье, Мериона, Доре, Виктора Гюго и Редона.Традиция продолжается символистами и Ричардом Даддом, Энсором и Кубином, вплоть до сюрреализма, который признал многих художников гротескной и фантастической традиции предшественниками. Большая часть этих работ была оценена благодаря сюрреализму. В двадцатом веке этот тип образов проник в культуру и встречается повсюду в различных формах искусства, включая: сатирические инсталляции Кейнхольца, рисунки А. Пола Вебера, карикатуры Роберта Крамба, анимационные фильмы Яна Сванкмайера, фотографии Уиткина, пьесы Беккета, научная фантастика Балларда, фантастическая литература, такая как «Голем» Майринка, «Мальпертуис» Жана Рэя, искусство и произведения Бруно Шульца и Леоноры Каррингтон, фильмы Линча, Кроненберга и Гиллиама; все они являются частью расширяющейся сети связей, разветвляющихся щупалец гротеска.Это традиция, которой принадлежит моя работа ». [7]
Образы Рамси наполнены невероятными пейзажными персонажами и всевозможными причудливыми существами. Его монохромная техника замечательна. Некоторые из размытых, смазанных лиц, которые он изображает, безусловно, добавляют к наводящие на размышления качества его искусства. [8]
Примечания
1. Однако гротескные формы на готических зданиях, когда они не используются в качестве водосточных желобов, не следует называть горгульями, а, скорее, просто гротесками или химерами.
2. «Декорации поразили и очаровали поколение художников, которые были знакомы с грамматикой классических орденов, но не догадывались до того, что в своих частных домах римляне часто игнорировали эти правила и вместо этого приняли более причудливый и неформальный стиль. все это было легкостью, элегантностью и изяществом »(Питер Уорд-Джексон,« Гротеск »в« Некоторые основные потоки и притоки в европейском орнаменте с 1500 по 1750 год », Бюллетень музея Виктории и Альберта , июнь 1967, стр.58-70, с. 75; Эсти Шейнберг, Ирония, сатира, пародия и гротеск в музыке Шостаковича: теория музыкальных несоответствий [1998], Aldershot: Ashgate, 2000, с. 378).
3. «Впервые возрожденный в эпоху Возрождения школой Рафаэля в Риме, гротеск быстро вошел в моду в Италии 16-го века и стал популярным во всей Европе. Он оставался таковым до 19-го века, будучи наиболее часто используемым для украшения фресок. головы животных и другие мотивы иногда имеют геральдическое или символическое значение, гротескные орнаменты в целом были чисто декоративными »(Grotesque, Encyclopædia Britannica Online , 2011).
4. Джорджио Вазари, О живописи (около 1550 г.), Техническое введение, глава XIV.
5. Персонаж, который сам по себе вызывает отвращение, — просто злодей или монстр.
6. «Некоторые аспекты гротеска в южной фантастике», 1960 год. В своем рассказе «Хорошего человека трудно найти» Мисфит, серийный убийца, явно является искалеченной душой, совершенно бессердечной к человеческой жизни, но ведомой искать правду.
7. Пол Рамси, Введение в Эссекс, Chappel Galleries, Рисунки из воображения, октябрь-ноябрь 2005 г.
8. Cf . Аэрон Алфри, Пол Рамси, Monster Brains , 12.3.06
Интернет-ресурсы
Огюст, Екатерина. Des grottesques aux grotesques, Meuble peint , Франция (11.1.2011).
Красивый гротеск; Facebook
Jahsonic 2006-9
Култхарт, Джон. Фельетон
Фенрис, Франц. Grotesques, Meuble peint (11.1.2011).
Geerinck, Jan. Fantastic and Grotesque, Jahsonic , 1996–2006; Гротеск, Искусство и народная культура , 22.2.2011
Маккормик, Ян. Энциклопедия чудесного, чудовищного и гротескного, 7.10.2000
Рамси, Пол. Галерея на Angelfire , 1988-2005.
