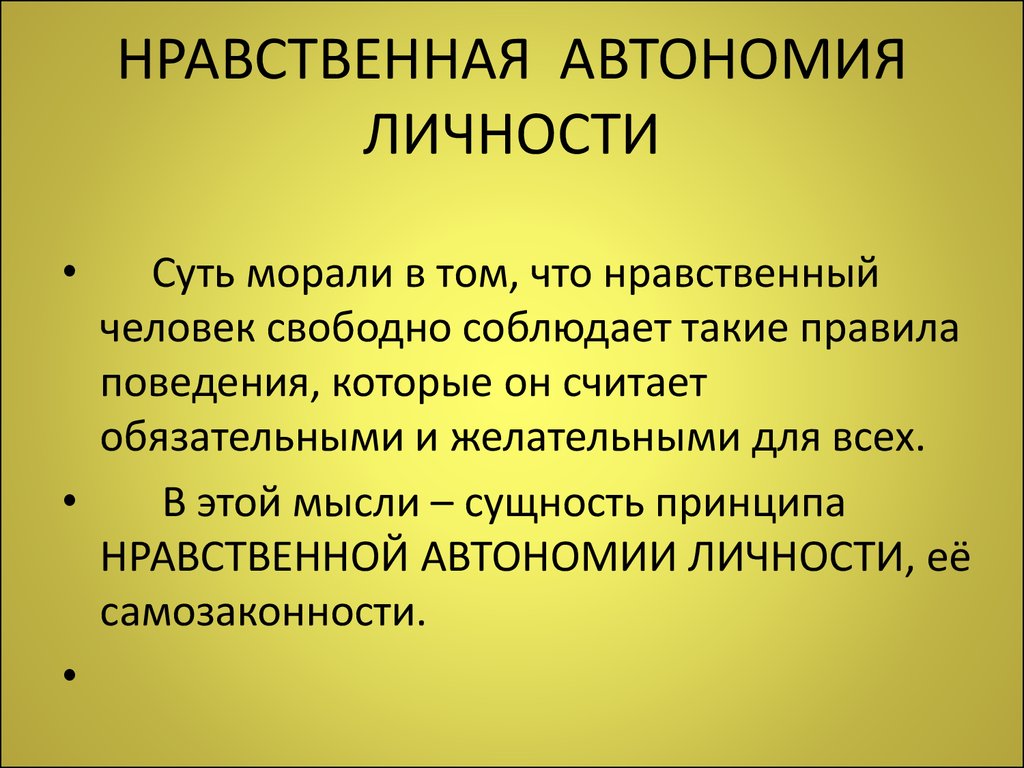А что такое моральная автономия личности? Вот что такое моральный кодекс, моральные заповеди — понятно. Всё прописано, всё чётко. А моральная автономия
Это чужой компьютер Забыли пароль?
- Главная
- Общество, Политика, СМИ
- Общество
- Закрытый вопрос
- Общество
- Закрытый вопрос
- Бизнес, Финансы
- Города и Страны
- Досуг, Развлечения
- Животные, Растения
- Здоровье, Красота, Медицина
- Знакомства, Любовь, Отношения
- Искусство и Культура
- Компьютеры, Интернет, Связь
- Лингвистика
- Наука и Техника
- Образование
- Общество, Политика, СМИ
- Общественные организации
- Общество
- Политика, Управление
- Прочие социальные темы
- Средства массовой информации
- Отдельная Категория
- Прочее
- Путешествия, Туризм
- Работа, Карьера
- Семья, Дом, Дети
- Спорт
- Стиль, Мода, Звезды
- Товары и Услуги
- Транспорт
- Философия, Психология
- Фотография, Видеосъемка
- Юридическая консультация
Юмор
Закрыт 8 лет
Личный кабинет удален
Наставник (43753)
#автономия
Мы платим до 300 руб за каждую тысячу уникальных поисковых переходов на Ваш вопрос или ответ Подробнее
| ЛУЧШИЙ ОТВЕТ ИЗ 5 |
—
Гроссмейстер (9209)
ой это что-то очень философское Кант по моему обращался к этому определению и оно подразумевает отсутствие каких либо принципов , индивид сам определяет степень морали и как следствие потерю этой самой морали в принципе
точнее не скажу потому что мало интересовался этим
| ЕЩЕ ОТВЕТЫ |
Сандр
Наставник (71600)
это тоже самое. что и пустословия бытия..
что и пустословия бытия..
Чужой
Наставник (50464)
так далеко может зайти и поэтому люди выбирают диктатуру
Светлана VIP
Верховный Наставник (207860)
Можно так зайти далеко ,что и не вернуться))
Личный кабинет удален
Наставник (43753)
Родион Раскольников вроде сам определил, тварь он дрожащая или право имеет… И убил старушку-процентщицу и сестру ее Лизавету… Топором. Хрясть! Хрясть! И готово дело… Или Нечаев….
| ПОХОЖИЕ ВОПРОСЫ |
Вот когда нет кандидатов для свиданок, то понятно, что выбора нет. Почему же, когда 4 мужчин предлагают встретиться и осыпают комплиментами, то уже не знаешь к кому идти и тормозишь так, что в итоге можно остаться без всех четырех кандидатов? Что делать?
Бабуля мне говорила так(она была очень верующий человек) что найденные НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ НОСИТЬ НЕЛЬЗЯ!Но это скажем так одна из народных примет и верить в неё или нет-это дело каждого. А вот про то что их нельзя хранить-это я никогда и не от кого не слышал
А вот про то что их нельзя хранить-это я никогда и не от кого не слышал
Вот есть люди, которые деляЦЦа улыбкой, а есть такие, которые могут делиЦЦа только г…ном..)) Но каждый сам решает..принимать ли ему это г..но или нет. Так вот..почему вы принимаете г..но, вместо того, чтобы делиЦЦа улыбкой?))
вы когда куда то едете ,далеко…еду с собой берёте?не ну это понятно,что можно заехать ,перекусить…это понятно…но если берёте,то что обычно?))
кто делал гастроскопию когда нибудь .ну то что есть после 8 вечера нельзя понятно,а вот пить можно?
У каждого в жизни бывает момент, когда он такой чё-то вот хочет.. ну там на Багамы, как в прошлом году, или сапоги взамен прохудившихся, или к примеру, коржик купить — а денег на это нет!! нет денег — оно ведь для вех разное.. У тебя какое было самое-само
Так что у России имеется очень сильный асимметричный ответ на санкции. Посмотрим, насколько далеко готов зайти Кремль в конфликте с Западом. Готова ли Россия и в самом деле стать суверенным государством или мы все же обречены?
Посмотрим, насколько далеко готов зайти Кремль в конфликте с Западом. Готова ли Россия и в самом деле стать суверенным государством или мы все же обречены?
Вот когда человек (чаще женщина) жалуется на свою некрасивую (как он сам так считает или так и есть) часть тела. Он чего ждёт в ответ? Усиленного опровержения сего факта (да нет, что ты, всё прекрасно) или согласия (да, ты прав, ужасно выглядит)?
Для тролля самое главное — это хладнокровие.. А когда тролль начинает в ленте верещать, что его пытаются троллить, или вообще — переходит на личности пользователей, то можно сделать вывод, что он не тролль, а титька тараканья.. Всё понятно?
Зачем писатели такие книги пишут? Вот Улицкую почитаешь, и жить не захочешь? Или Чехова когда современники читали… Одним хотелось утопиться, другим революцию сделать, потому что так жить нельзя?
От социокультурной автономии сознания к суверенности индивида
— Александр Дмитриевич, как Вы считаете, обязательна ли категория прекрасного в жизни современного человека? В Вашей жизни красота — определяемая или определяющая категория?
— Да, красота обязательна в жизни человека.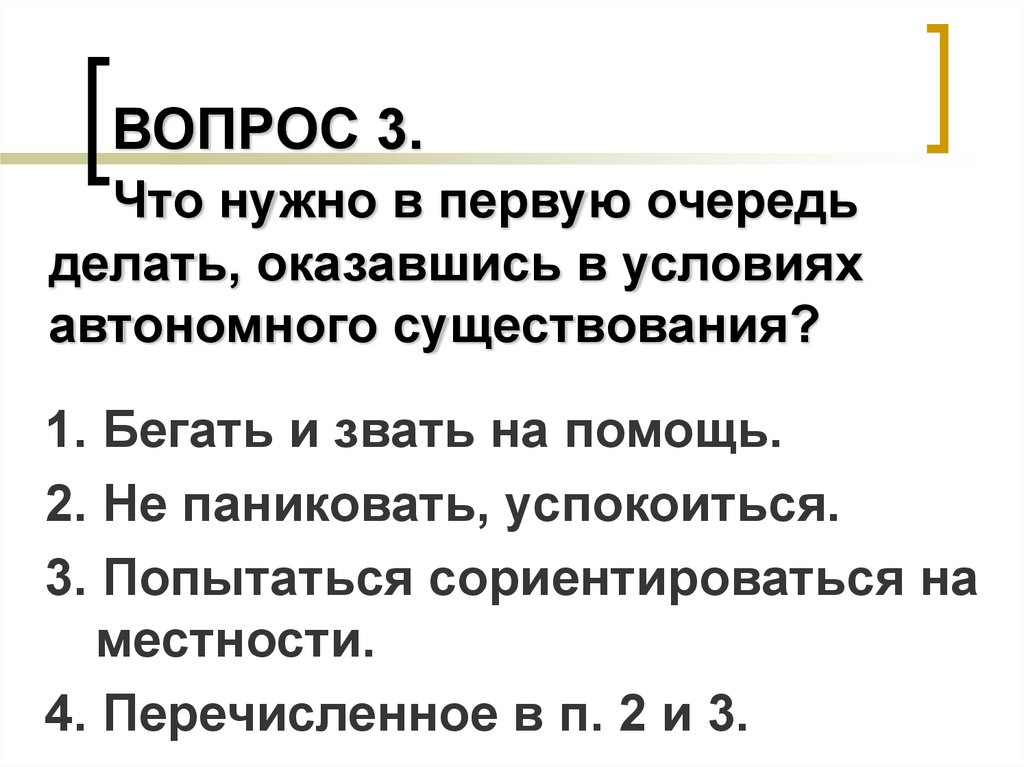 В современной жизни красота определяемая категория. Она определяется пользой. Нынче время прагматизма и массовой культуры.
В современной жизни красота определяемая категория. Она определяется пользой. Нынче время прагматизма и массовой культуры.
Лично для меня красота играет важную роль. Однако я все же ставлю нравственность выше красоты. Это точка зрения русской философии. Достоевскому приписывают мысль Шиллера о том, что красота спасёт мир. Достоевский считал, что доброта спасёт мир.
Красота связана сейчас с игрой. Игроизация имеет не только свои положительные стороны, но и отрицательные: она разрушает границы нравственности. Красота в чистом виде, как и религия, ведет к перфекционизму. Но во взаимосвязи с добром красота нужна. Она способна сделать человека многомерным, а не односторонним.
— По-Вашему, границы нравственности, которые разрушает красота в чистом виде, одинаковы для всех или индивидуальны для каждого? И не имеют ли этические и эстетические идеалы сходное происхождение и общую, мотивирующую саморазвитие личности функцию?
— Да, конечно, границы нравственности, которые разрушает красота в ее чистом виде индивидуальны для каждого человека. Мы можем простить художника, который влюбляется в свою натурщицу, но очень трудно понять (и простить) такой факт, когда священник раздевает юную прихожанку и любуется ею.
Мы можем простить художника, который влюбляется в свою натурщицу, но очень трудно понять (и простить) такой факт, когда священник раздевает юную прихожанку и любуется ею.
Однако философия позволяет вести речь и о чем-то универсальном, всеобщем. Я имею в виду философский идеал единства истины, добра и красоты. Эта философская идея в чем-то аналогична христианской Троице, то есть о ней можно сказать, что эти как бы три ипостаси нераздельны и неслиянны.
Под чистой красотой я имел в виду красоту, которая пытается зажить своей собственной жизнью, в отрыве от других ипостасей, или предательски служить мамоне, то есть пользе. Или такой вариант, когда красота реализуется в искусстве для искусства, когда красота становится техничной, безнравственной и безбожной. Кстати, спорно и выделение Софии как четвертой ипостаси в русской религиозной философии. В софийной философии сделан акцент на красоту.
Не имеют ли этические и эстетические идеалы сходное происхождение и общую, мотивирующую саморазвитие личности функцию?
Отвечаю опять: нераздельно и неслиянно.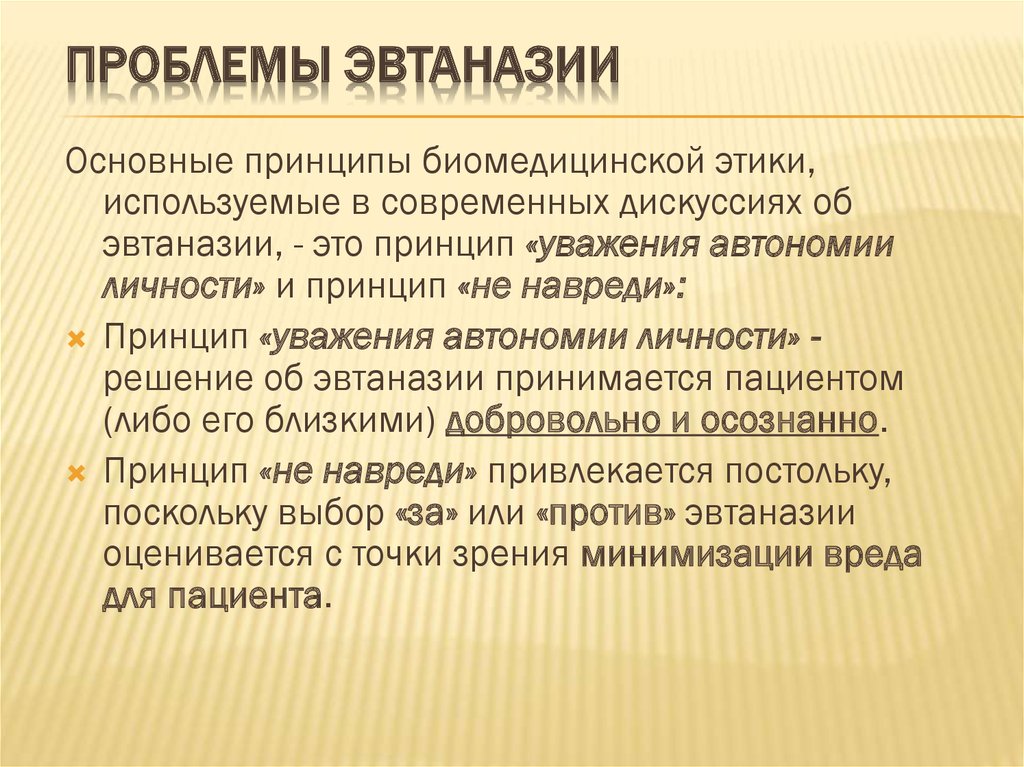 Да, имеют, конечно. Другое дело, что стремление к красоте порождает стремление к абсолютному совершенству, а это очень спорная ценностная ориентация — перфекционизм. Перфекционизм — это паралич действия.
Да, имеют, конечно. Другое дело, что стремление к красоте порождает стремление к абсолютному совершенству, а это очень спорная ценностная ориентация — перфекционизм. Перфекционизм — это паралич действия.
Гармония истины, красоты, добра — вот идеал духовности. Эта гармония трудно осуществима в реальности, когда ее блокирует польза, прагматическая ценностная ориентация.
Поэтому ответ на второй вопрос у меня будет таким: все в меру! Красота в меру. Это звучит парадоксально, поскольку красота как совершенство формы ломает все границы конечного и стремится к бесконечному.
Греков это пугало, но они кокетничали с бесконечностью, поскольку их философия и культура эстетична, но как бы безнравственна. Иначе бы они наградили Сократа, а не казнили его. Средние века, безусловно, подчинили красоту нравственности. В современном обществе три культурных ипостаси слишком далеко разошлись друг от друга.
Саморазвитие личности мотивирует духовный труд.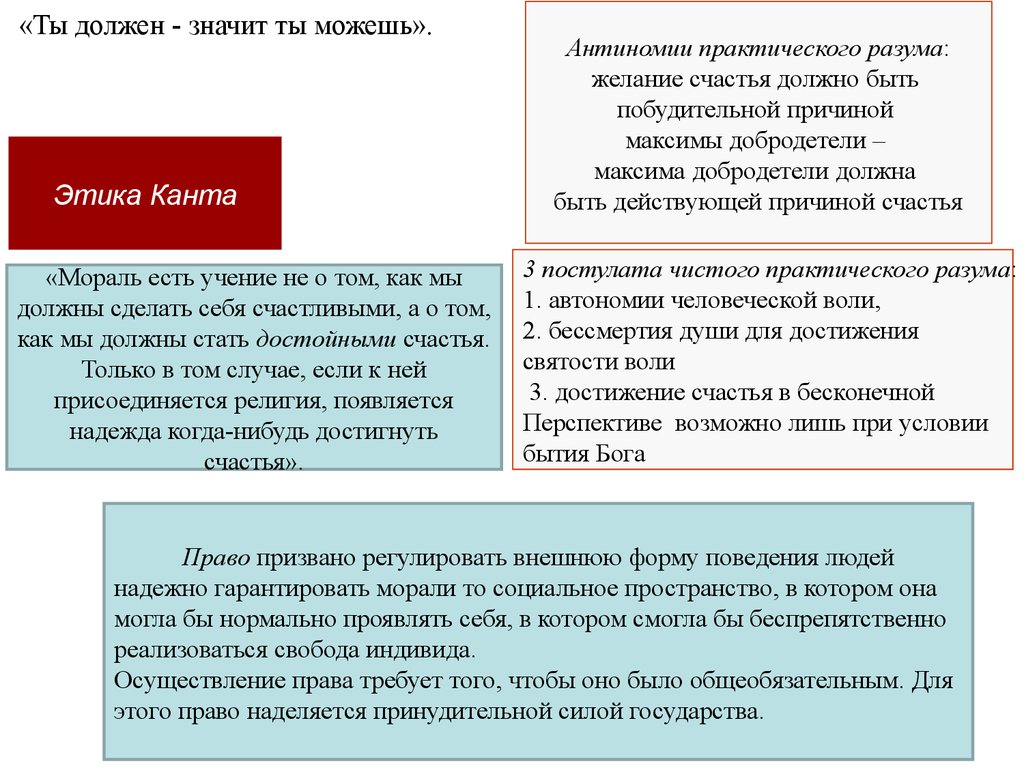 Если нравственное и эстетическое начала вносят свой вклад в цивилизаторский духовный труд, то они помогают саморазвитию. Если саморазвитие понимается по-другому, то беседу надо начинать сначала.
Если нравственное и эстетическое начала вносят свой вклад в цивилизаторский духовный труд, то они помогают саморазвитию. Если саморазвитие понимается по-другому, то беседу надо начинать сначала.
— Если я правильно Вас понимаю, то меру определяет сам для себя индивид, а судит его за это общество. Как Вы разрешаете этот парадокс?
— Общество тоже задает нормы, стандарты, но автономный, суверенный индивид эти нормы принимает как свои. Например, я подчиняюсь закону по убеждению, а не из страха перед наказанием.
— Здесь, видимо, нужно подчеркнуть Вашу позицию в сопоставлении с иным мнением. Что индивид способен лишь следовать норме или ее нарушать. Норма всегда социальна. Ее нарушение асоциально, потому и карается. Следовательно, личностная автономия — иллюзорная, асоциальная и опасная для личности идея. Потому Сократ и выпил яд, а Христа распяли. На мой взгляд, именно в идеологическом противоборстве и противопоставлении несовместимых идей культивируются нормы и ценности. Вопрос в следующем: не ведет ли культивация личностной автономии к культу личности, к некоторой форме тоталитарного мышления?
На мой взгляд, именно в идеологическом противоборстве и противопоставлении несовместимых идей культивируются нормы и ценности. Вопрос в следующем: не ведет ли культивация личностной автономии к культу личности, к некоторой форме тоталитарного мышления?
— По-видимому, русскому языку чуждо слово «автономия». Исконное и уже утраченное слово «своезаконие» воспринимается по своему смыслу как своеволие, бунтарство и так далее.
Личностная автономия — это не аутизм, не мания, не паранойя, не садизм или мазохизм, не психическая патология, а норма отношения личности к социуму через окружающую ее культурную среду, норма как мера принятия и непринятия этой среды, возможность ее творческого конструирования. Личностная автономия — это гармоническое отношение индивида к обществу. Если рассматривать личностную автономию по-другому, то возникнут не только серьезные искажения, но и полное непонимание.
Сразу отвечаю еще на один вопрос, чтобы не быть лаконичным.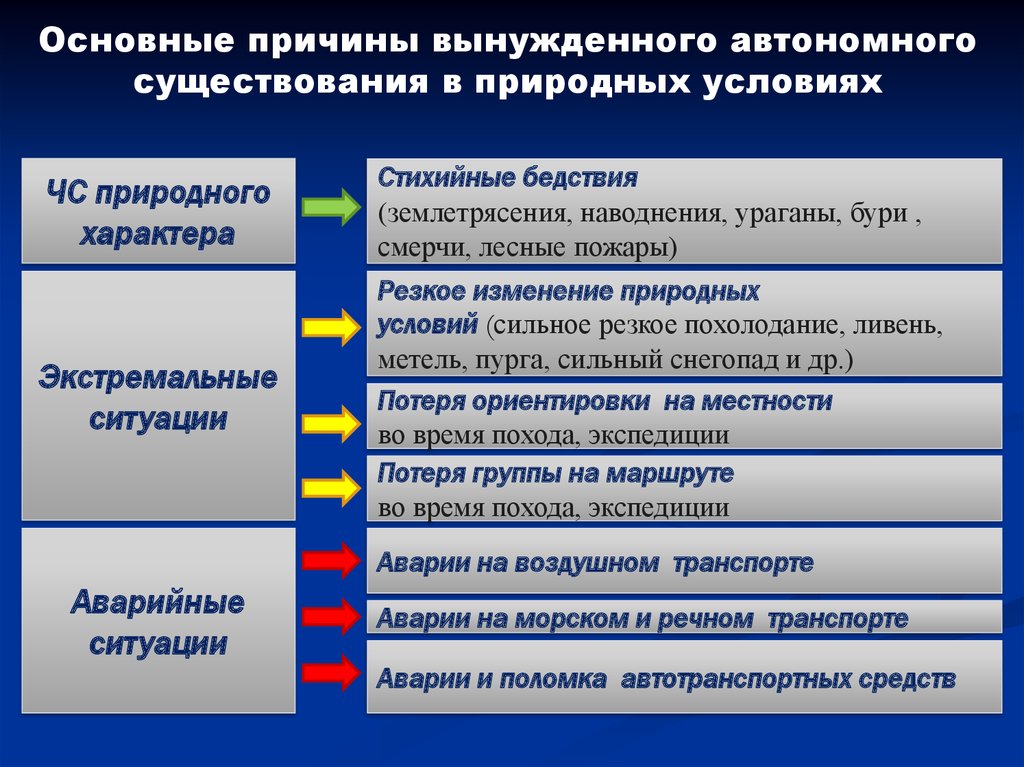 А нужна ли в России «западная» идея личностной автономии? Не приведет ли это к росту эгоизма и индивидуализма?
А нужна ли в России «западная» идея личностной автономии? Не приведет ли это к росту эгоизма и индивидуализма?
Россия нуждается в универсальной общецивилизационной идее личностной автономии. Но подыщем синонимы в более слабой модальности, например «самостоятельность». Если автономия не нужна, то и личность не нужна, потому что личность и личностная автономия — это одно и то же. Отрицание необходимости автономии, то есть самостоятельности, — это известный феномен «бегства от свободы».
— Социотерапевтический концепт универсальной общецивилизационной идеи личностной автономии заманчив. Но сам конструкт «общецивилизационный» обретает смысл в диспозиции с локальностью. Личность локальна, ее автономия подразумевает высокую степень локализованного личностного суверенитета. Нет ли конфликта между личностной автономией и общецивилизационным универсализмом?
— Есть между ними и противоречие, и даже конфликт как высшая форма противоречия.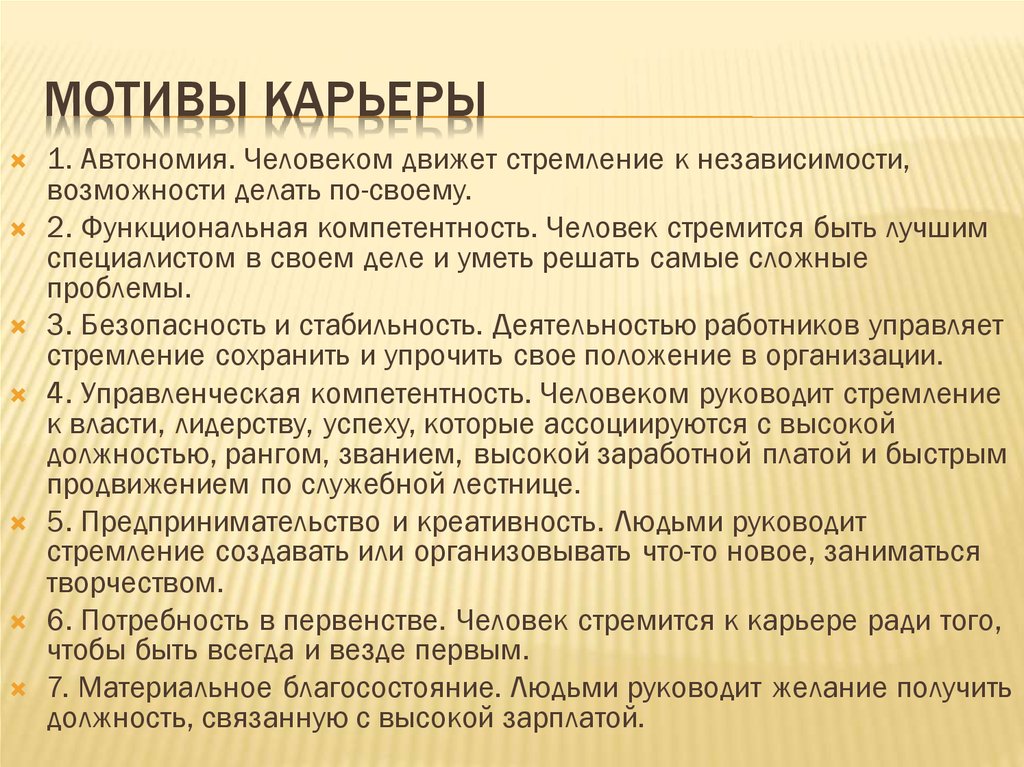 Однако в аспекте диалектики противоположности не только исключают друг друга, но и друг друга предполагают.
Однако в аспекте диалектики противоположности не только исключают друг друга, но и друг друга предполагают.
Существуют глобализация и локализация, но существует и глокализация, их единство. Расширение процессов глобализации сопряжено c усилением автономизации и индивидуализации личности. Возможно, в условиях массовой культуры этот противоречивый процесс приобретает гипертрофированные формы. Корни этого процесса в западной культуре и науке.
Автономия — это ключевое понятие нашего времени, выражающее стремление человечества решить самую трудную проблему: соединить «внешнюю социальность и присущую людям индивидность» [1: 7]. Проект автономии является сутью западного проекта модерна. Альтернатива Востока состояла в решении проблем своего существования и развития на пути социоцентризма, сопряженного с гетерономией личности.
Что касается российского общества, то тут все еще сложнее. Чтобы решить задачу органического соединения личностной автономии с автономией общества, следует изучить, насколько тесно они связаны.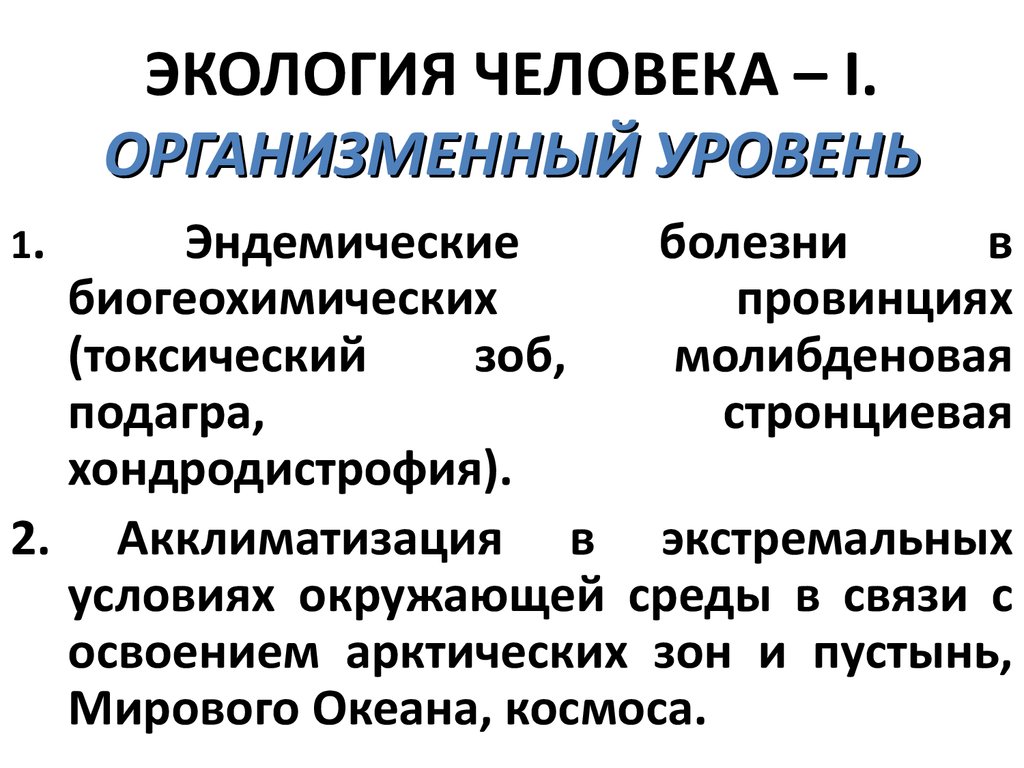
— Что ж, раз мы шагнули за грань изученного («следует изучить, насколько тесно они связаны»), может, выскажете свои соображения на этот счет?
— Несмотря на многочисленные исследования автономии личности в психологии, в социально-философском, культурологическом аспектах проблема изучена недостаточно.
В философии автономия понимается как органическое единство таких противоположностей, как зависимость и независимость в действиях и мотивах человека [2: 123]. Джеральд Дворкин замечает, что автономию отождествляют со свободой, суверенитетом, целостностью, уникальностью или индивидуальностью, независимостью, ответственностью, свободой от внешних обязательств и от внешней каузальности и так далее. Он делает вывод о том, что «практически единственное, на чем сходятся разные авторы, это то, что автономия — такое качество, которое желательно иметь» [3: 6]. В то же время не все признают существование автономии или ее ценность.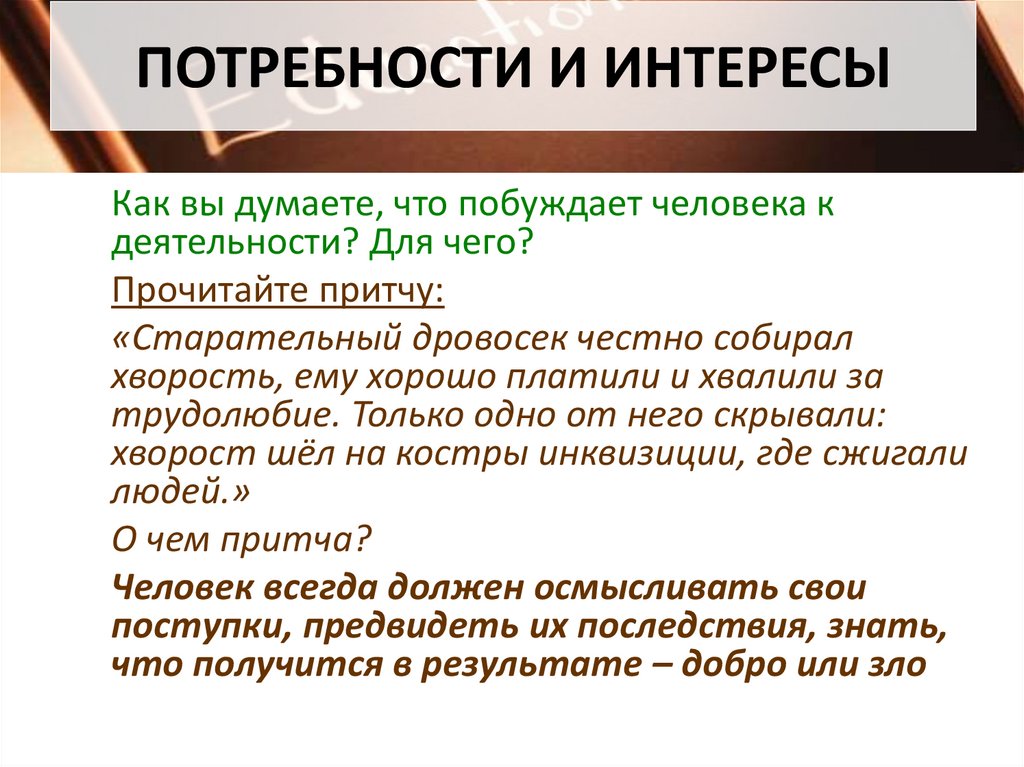
Во-первых, некоторые теории (в частности бихевиоризм, структурализм, отдельные виды марксизма) в принципе отрицают возможность автономии по отношению к личности. Во-вторых, многие концепции имеют свои интерпретации по поводу правовой и моральной ценности автономии. Сторонники либерализма обычно приветствуют автономию, рассматривая ее как независимость, самостоятельность либо форму рациональности в действии индивида. Однако ценность автономии в этом отношении отрицается консерваторами, коммунитаристами, многими верующими, отдельными представителями феминистского движения и так далее — всеми теми, кто возвеличивает солидарность, взаимозависимость, чувство сопереживания, подчинение или покорность.
К сожалению, в России произошла утрата антропологического смысла понятия автономии, что выразилось даже в потере эквивалентного слова «своезаконие» в русском языке. Автономия рассматривается как подозрительный жупел, которому обыденное сознание может приписать такие свойства как механицизм, отчужденность, одиночество, индивидуализм, изоляция и пр.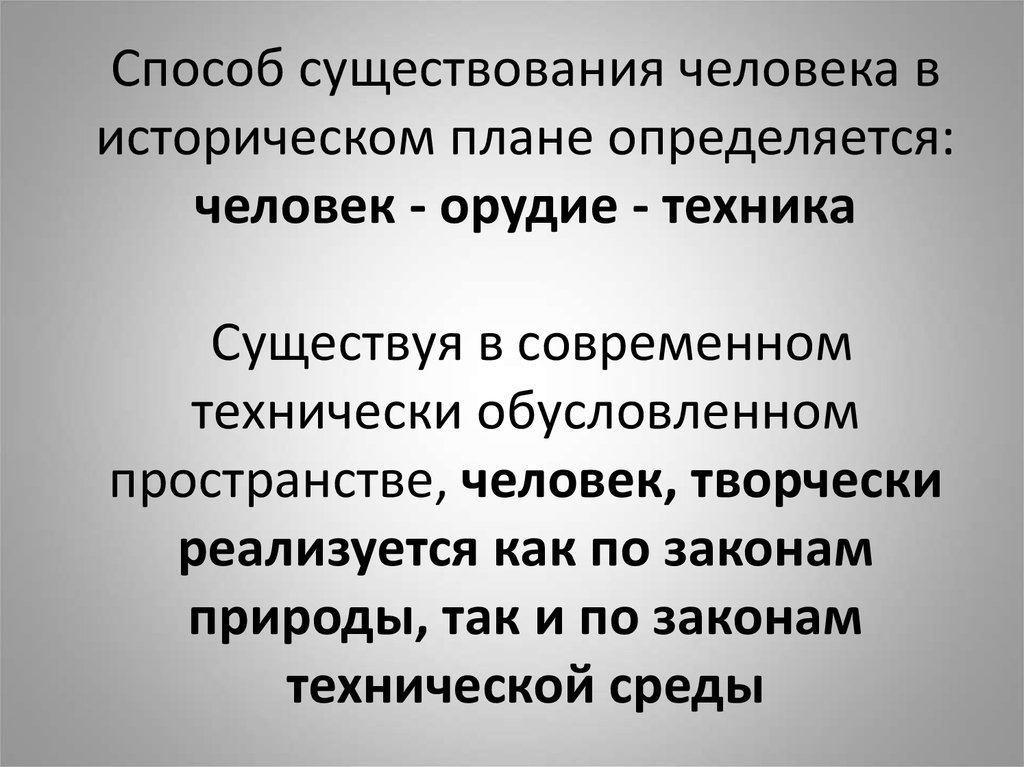
Автономность нравственного сознания — это рефлексия на культурную автономию отдельного человека, личности и индивидуальности. В этом случае можно говорить об абсолютном содержании нравственного сознания [4]. В методологическом отношении взаимосвязь абсолютного и относительного допускает интерпретацию с точки зрения принципа диалектического детерминизма, разработанного С.Л. Рубинштейном [5: 219–220, 222–223, 232, 243–244, 346, 424]. Социальные причины обусловливают индивидуальное сознание через его внутренние условия (ценности и личностные смыслы), нередуцируемые к общественному бытию. Посредствующим звеном являются деятельность, поведение личности, ее поступки. Детерминация внешняя дополняется внутренней детерминацией, а свобода (соответственно и автономия) выступает как самодетерминация.
От правового деяния нравственный поступок отличается добровольностью (свободной волей к добру). Если для правового сознания требуется отыскивать духовные основания, все же остающиеся неразрывно связанными с угрозами силы или насилия, то мораль обоснована собой, своими основаниями.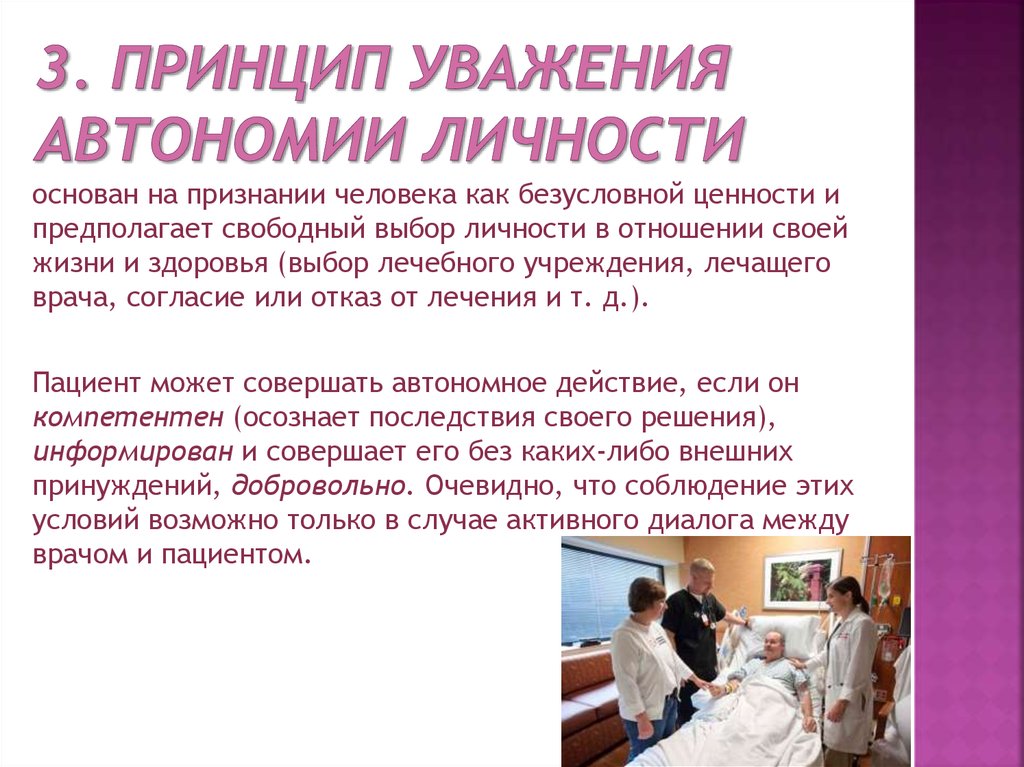 Внутренние факторы и мотивы благодаря ряду предпосылок и условий становятся соизмеримыми с внешними. В морали ярко проявляется тот факт, что человек является не только продуктом среды, но и продуктом своей собственной активности («деятельности»). Мораль обеспечивает самостоятельность личности по отношению к ее собственным влечениям, к импульсивным реакциям и внеморальному внешнему социальному давлению. Моральные феномены означают способность человека руководствоваться идеальной мотивацией. Если исследуется нравственное сознание, мы не ищем причины, не говорим «почему». Главный признак нравственного сознания — свобода.
Внутренние факторы и мотивы благодаря ряду предпосылок и условий становятся соизмеримыми с внешними. В морали ярко проявляется тот факт, что человек является не только продуктом среды, но и продуктом своей собственной активности («деятельности»). Мораль обеспечивает самостоятельность личности по отношению к ее собственным влечениям, к импульсивным реакциям и внеморальному внешнему социальному давлению. Моральные феномены означают способность человека руководствоваться идеальной мотивацией. Если исследуется нравственное сознание, мы не ищем причины, не говорим «почему». Главный признак нравственного сознания — свобода.
Для прояснения вопроса об основаниях автономности нравственного сознания продуктивно обратиться к этической концепции И. Канта. Он открывает объединяющий нравственный закон автономности воли и показывает, что он безусловен и для личности приобретает вид категорического императива [6: 211–310].
С понятием «автономия» у Канта неразрывно связаны понятия «закон» и «свобода».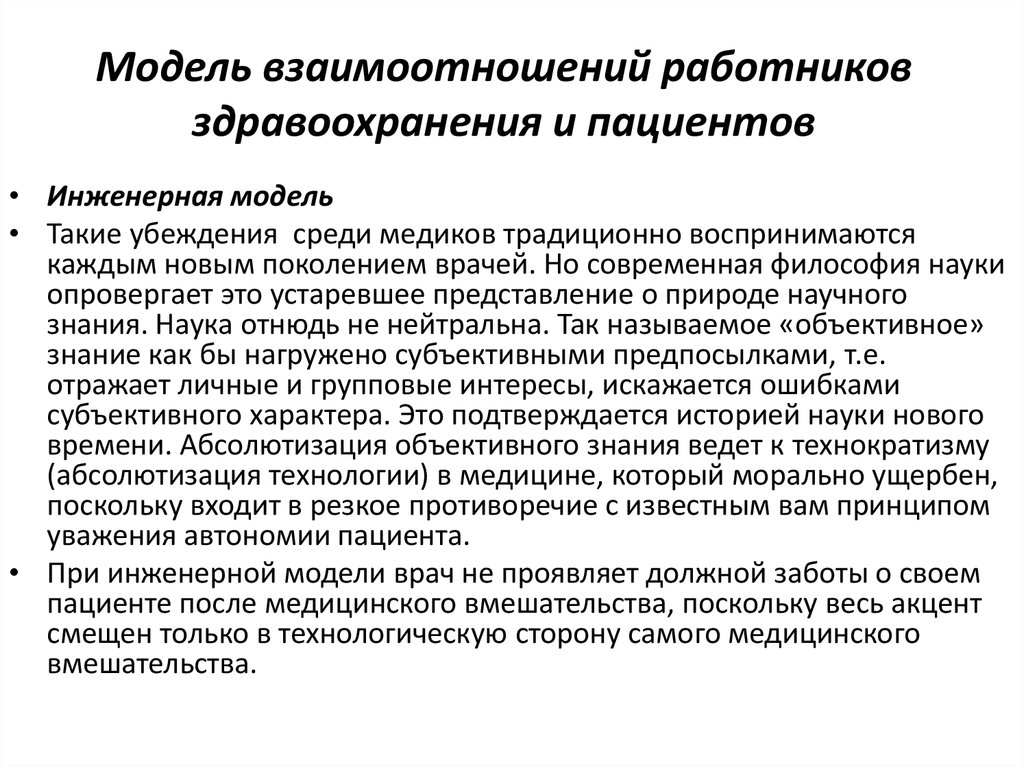 Кант выдвинул гениальную формулу соотношения свободы и закономерности, которая остается актуальной и в наши дни: свобода каждого должна быть такой, чтобы она не подавляла свободу другого человека. Здесь принципы морали и права совпадают с учетом диалектики внутреннего и внешнего в актах социального взаимодействия.
Кант выдвинул гениальную формулу соотношения свободы и закономерности, которая остается актуальной и в наши дни: свобода каждого должна быть такой, чтобы она не подавляла свободу другого человека. Здесь принципы морали и права совпадают с учетом диалектики внутреннего и внешнего в актах социального взаимодействия.
Абсолютное и относительное выступают в качестве диалектических моментов нравственности. Показать это можно, обращаясь к основным категориям этики: «добру» и «злу» — и применяя апагогическую аргументацию.
Наиболее радикальную попытку релятивизации категорий «добро» и «зло» предпринял Ф. Ницше в работе «К генеалогии морали», полемическом сочинении, приложенном в качестве дополнения и пояснения к его другой большой работе «По ту сторону добра и зла» [7: 407–524, 786]. Ницше отверг «мораль рабов» так же, как и сократовскую аксиому отождествления добра и знания.
Согласно Ницше, возможна феноменологическая приостановка действия понятий добра и зла.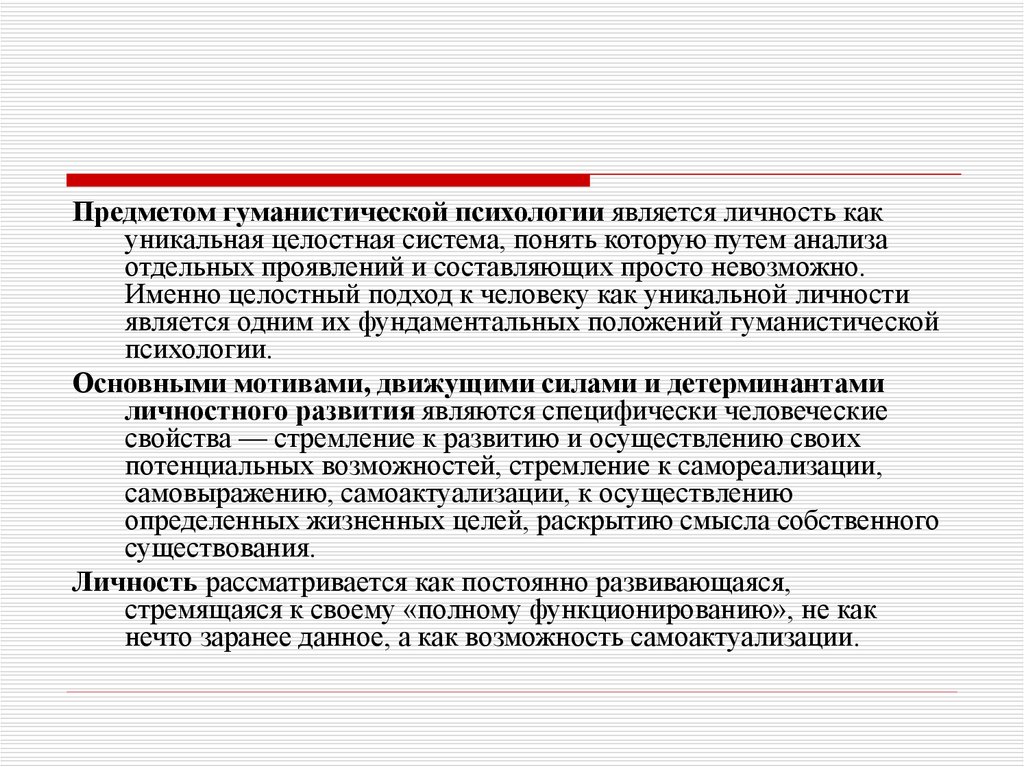 Этот мысленный эксперимент он провел в теории, заявив, что моральные предрассудки вредили людям на пути развития новой культуры. Однако заблуждение Ницше состоит в том, что он от блестящего анализа генеалогии морали неправомерно переходит к выводам в отношении христианства в целом, обнаруживая непонимание самого духа христианской морали.
Этот мысленный эксперимент он провел в теории, заявив, что моральные предрассудки вредили людям на пути развития новой культуры. Однако заблуждение Ницше состоит в том, что он от блестящего анализа генеалогии морали неправомерно переходит к выводам в отношении христианства в целом, обнаруживая непонимание самого духа христианской морали.
Вопрос затрагивает множество аспектов. Наиболее неизведанным представляется эстетическая автономия. Эстетическая автономия индивидуальности, действительно, вопрос неизученный. Мое предположение будет не столько научным, сколько эстетическим. Эстетическая автономия индивидуальности феноменологизируется. В меньшей мере она концептуализируется. Тем не менее попытка не пытка. Эстетическая автономия — это внешняя сторона индивидуальности, способность творчески выражать себя в культурном контексте. Нравственная автономия — внутренняя, нормативная сторона самозаконного сознания и поведения личности. Я бы сказал, что в эстетической автономии выражается женская составляющая человеческой природы, а в нравственной автономии — мужская компонента. Красота — форма, которая в идеале наполняется нравственным содержанием. Тогда она сакрализуется. Природа русского человека (его национальный характер) во много женственна. Русское православие поэтому принимает эстетический характер. Русская литература (по крайней мере, классическая) несет в себе не рациональное начало, а чувственно-эмоциональное, эстетическое. Русский человек стремится довести все до красоты.
Красота — форма, которая в идеале наполняется нравственным содержанием. Тогда она сакрализуется. Природа русского человека (его национальный характер) во много женственна. Русское православие поэтому принимает эстетический характер. Русская литература (по крайней мере, классическая) несет в себе не рациональное начало, а чувственно-эмоциональное, эстетическое. Русский человек стремится довести все до красоты.
В современной (массовой) культуре прагматическое начало подчиняет себе и нравственное, и эстетическое. Прагматическое сакрализуется, а эстетическое становится профанным. Информационное общество несет в себе серьезные угрозы личностной автономии. Ассерторическая информация разрушает социокультурные модальности и модальности личностные. Как нож, как бритва режет по живому.
— Осмысление наследия Ницше — некоторый Рубикон для эстетствующей и философствующей молодежи России. Вероятно, его жесткая критика традиционной морали находит понимание у критически настроенных молодых умов.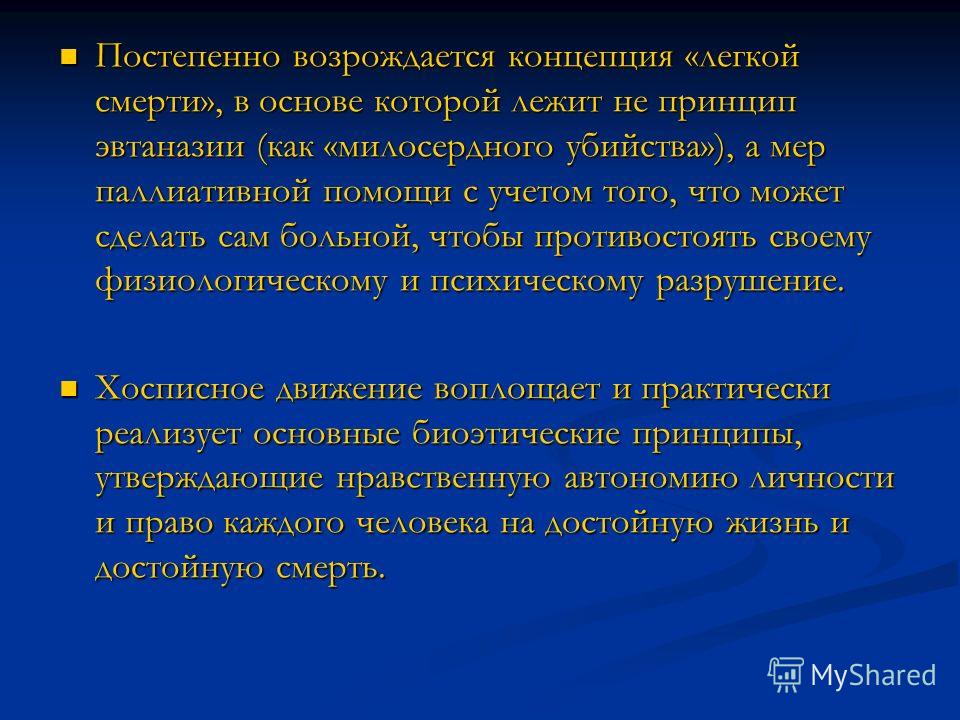 Можно подробнее остановиться на ницшеанском релятивизме?
Можно подробнее остановиться на ницшеанском релятивизме?
— Его понятие добра связано с властью как высшей ценностью. Власть и сила — это добро, а слабость и рабство — это зло. «Переоценка ценностей» связана с кризисом рациональной кантианской этики. Ницше отверг «мораль рабов» так же, как и сократовскую аксиому: знание = добро. «Демократическое» знание у него сменилось «аристократическим» мифом о сверхчеловеке и вечном возвращении. Он заявил, что моральные предрассудки вредят людям на пути развития культуры [7: 557–748]. В генеалогии морали обращает на себя внимание понятие «ресентимент», проанализированное М. Шелером в работе «Ресентимент в структуре моральностей» [8]1. Французское слово ressentiment можно рассматривать как переживание, обретающее автономность (re-sentiment), негативный смысл которого передается лучше всего словами: скрываемые, подсознательные злоба и неприязнь; враждебность, ревность, зависть и желание мести.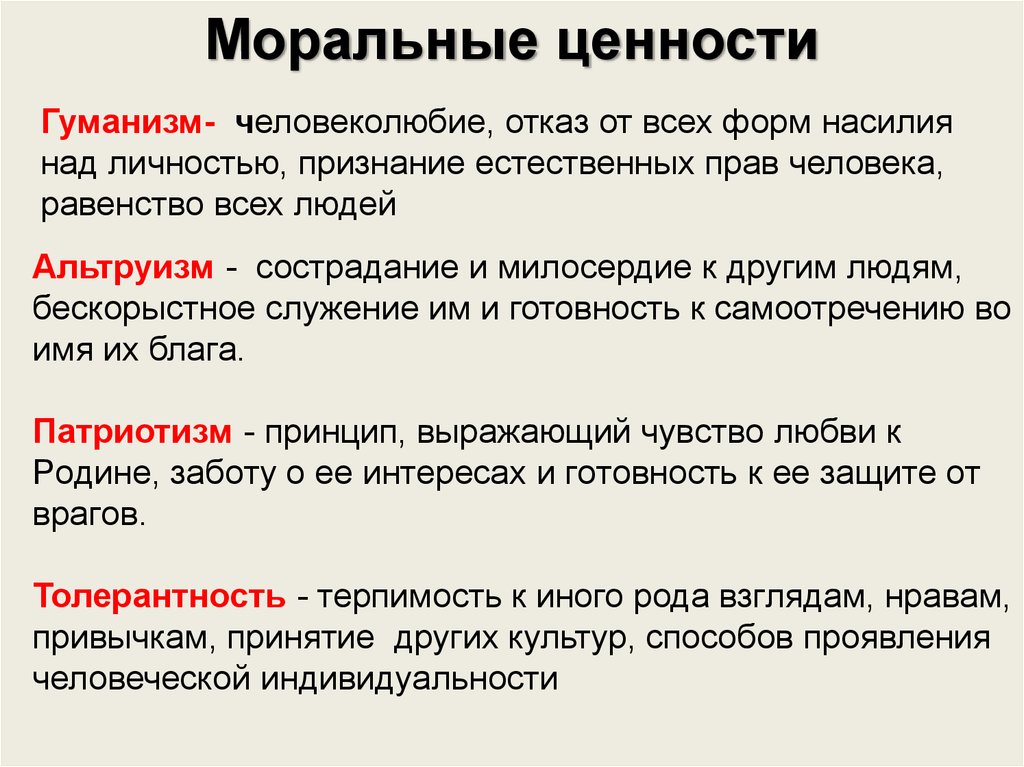 Ресентимент характеризуется Ницше как психологическое самоотравление ввиду его бессилия и стремления к равенству с неравными, стоящими выше. Формула ressentiment — это экзистенциальная зависть: я не могу простить тебе уже само твое существование, потому что не могу быть таким же здоровым, веселым, умным, красивым, знатным, богатым и так далее. [7: 786].
Ресентимент характеризуется Ницше как психологическое самоотравление ввиду его бессилия и стремления к равенству с неравными, стоящими выше. Формула ressentiment — это экзистенциальная зависть: я не могу простить тебе уже само твое существование, потому что не могу быть таким же здоровым, веселым, умным, красивым, знатным, богатым и так далее. [7: 786].
Сама жизнь, к которой обращается Ницше, особенно практика духовного разложения в тоталитарных обществах, показала, что абсолютное в морали должно быть «оправдано». Подчинение морали голой целесообразности лишает категории добра и зла объективности. История показала, что такой путь релятивизации (принцип классовости, партийности) морали разрушает духовность, развращает молодежь, провозглашая вседозволенность любых действий, покушается на святая святых — человеческую жизнь.
Как у сторонников, так и у противников релятивизации морали имеются сильные доводы, аргументы и контраргументы. Ценности добра и зла имеют регулятивный смысл, определяют хорошее и плохое как нравственные оценки.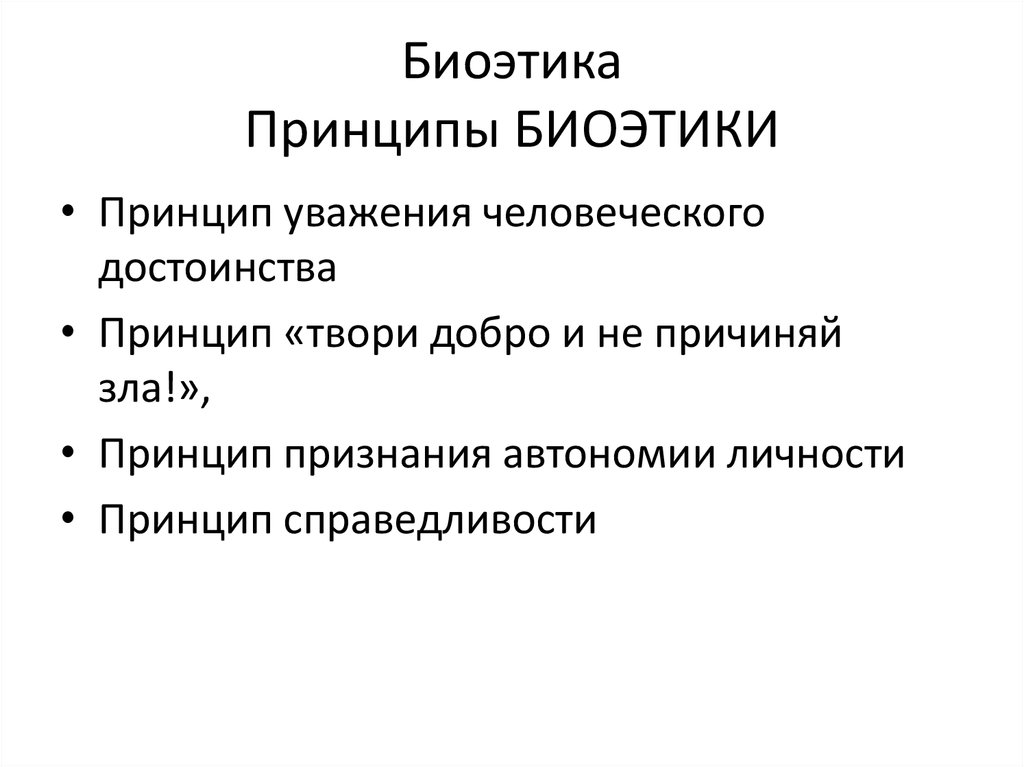 Добро и зло, эти фундаментальные категории морали, служат предметом рефлексии в различных системах этического дискурса. В сущности, противопоставленные друг другу, они уже становятся относительными. Абсолют, от которого они зависят, — это Благо. Но Благо не существует независимо от человека и человечества. Добро и зло несут на себе отпечаток человеческой субъективности в любом случае. Может быть, в автономной этике они имеют более объективный характер. Мировые религии закрепляют универсализм: добро не зависит от рода, племени, места и времени.
Добро и зло, эти фундаментальные категории морали, служат предметом рефлексии в различных системах этического дискурса. В сущности, противопоставленные друг другу, они уже становятся относительными. Абсолют, от которого они зависят, — это Благо. Но Благо не существует независимо от человека и человечества. Добро и зло несут на себе отпечаток человеческой субъективности в любом случае. Может быть, в автономной этике они имеют более объективный характер. Мировые религии закрепляют универсализм: добро не зависит от рода, племени, места и времени.
Диалог светской и религиозной этики необходим, чтобы избегать формализма в оценке сложных конкретных ситуаций, когда добро может становиться злом.
Конечно, полная релятивизация понятий добра и зла ведет к софистическому отождествлению хорошего и плохого. Однако момент относительного в светской этике в отличие от такого полного релятивизма необходим.
Нравственный релятивизм, оторванный от традиции и абсолютного, формального содержания морали опровергается от противного: все те, кто признает зло только относительным, фактически оправдывают его и признают, но (и это важно) не по отношению к себе, а только внешним образом — по отношению к другим. Категории добра и зла имеют силу как ценности общественного сознания, регулируя многие другие формы человеческого поведения, в частности правовые отношения. Даже делая выбор в пользу зла, решая сложную дилемму, человек оценивает это зло как меньшее по сравнению с другим злом, но не в качестве добра.
Категории добра и зла имеют силу как ценности общественного сознания, регулируя многие другие формы человеческого поведения, в частности правовые отношения. Даже делая выбор в пользу зла, решая сложную дилемму, человек оценивает это зло как меньшее по сравнению с другим злом, но не в качестве добра.
Открывается возможность равновесия внутреннего и внешнего, баланс абсолютного и относительного моментов в нравственном сознании. Этот баланс характеризует автономность нравственного сознания как жизненную релевантность. Альтернативами автономии при нарушении такого равновесия выступают гетерономия, теономия, патернализм и аномия. Практическим эквивалентом автономии выступает любовь — единство свободы, ответственности и творчества, в русской культуре — это соборность.
Итак, суть культурных оснований автономности нравственного сознания состоит в том, что сама нравственная норма как основа нравственного сознания — это социальный акт, протекающий внутренним образом, свободно, на основе ценностей, концентрирующих в себе нравственные смыслы. Быть автономным — значит жить по закону свободной, творческой и ответственной любви.
Быть автономным — значит жить по закону свободной, творческой и ответственной любви.
— Получается, абсолютность и относительность категорий добра и зла не исключают друг друга?
— Это не простой вопрос. Я бы сказал, что образуются две модальности добра и зла: абсолютная и относительная. И обе модальности в диалектическом единстве воссоздают этические нормы в переживаемом опыте. Этика — живое пространство субъективного опыта, связанное с эмоциональными переживаниями индивида. Но без устойчивых (абсолютных) категориальных соотношений опыт не передаваем, он просто не социализируется и не становится культурным. Другой вопрос — навязывается этот опыт обществом или принимается индивидом свободно и самостоятельно.
Автономная мораль и диалогическая этика релятивизируют абсолютные категории религиозной морали и превращают их в ценности, требующие оценки, зависящей от конкретных условий их применимости.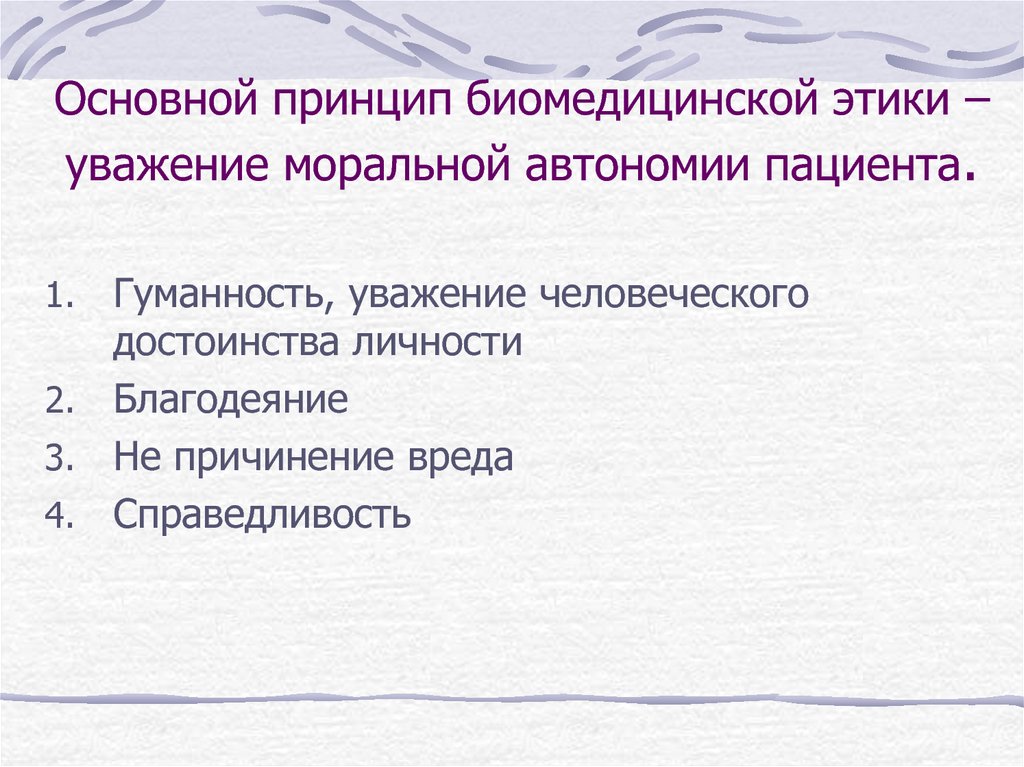 То, что в одних условиях — добро, в других становится злом. Релятивизация понятий добра и зла (в отличие от абсолютизации) может даже привести к софистическому отождествлению хорошего и плохого. В таком случае получается, что хорошо всё полезное для меня, а всё остальное либо плохо, либо имеет нейтральную оценку.
То, что в одних условиях — добро, в других становится злом. Релятивизация понятий добра и зла (в отличие от абсолютизации) может даже привести к софистическому отождествлению хорошего и плохого. В таком случае получается, что хорошо всё полезное для меня, а всё остальное либо плохо, либо имеет нейтральную оценку.
Релятивизм в отношении добра и зла часто смыкается с атеизмом, поскольку Бог не мог бы допустить зла. Здесь уместно привести проблему зла (как ключевую для традиционной теодицеи) в формулировке Д. Юма: если зло в мире согласуется с промыслом Бога, то Он не благожелателен. Если зло в мире противоречит Его промыслу, то Он не всемогущ. Но зло или согласуется с Его промыслом, или противоречит ему. Следовательно, Бог или не благожелателен, или не всемогущ [9: 450–451, 457–467]. Проверка рассуждений Д. Юма на правильность (в формально-логическом смысле) показывает, что в этом отношении оно безупречно [10]. Значит, надо возвратиться к проверке истинности предпосылок.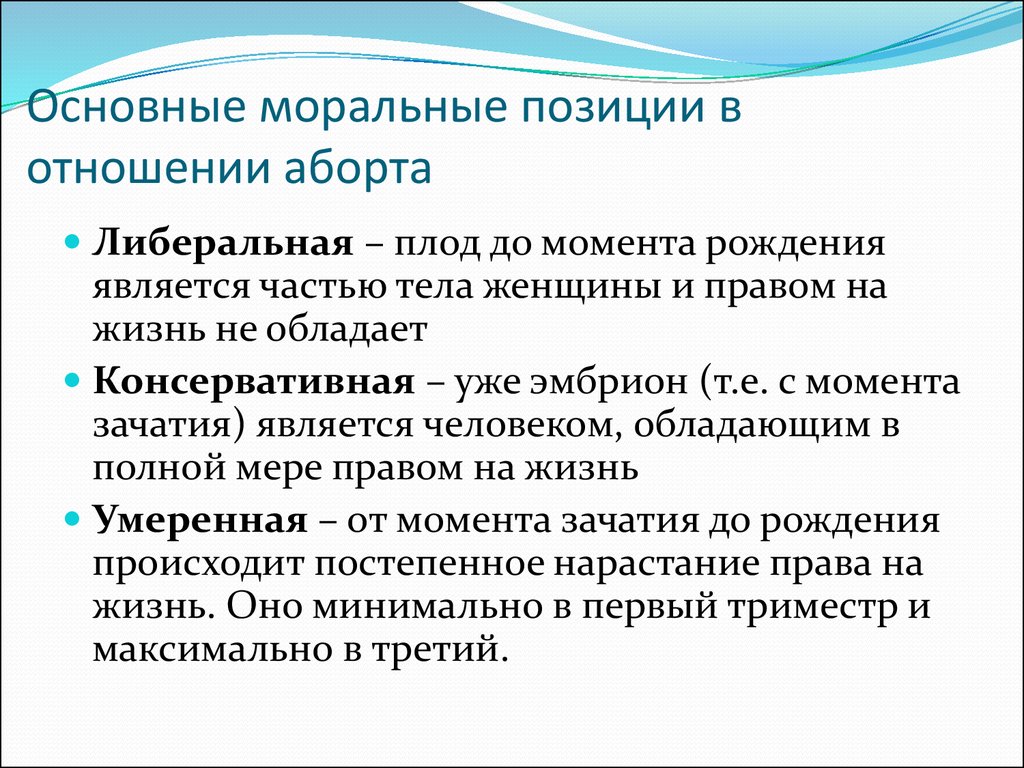 А это приводит к скептицизму, агностицизму или атеизму.
А это приводит к скептицизму, агностицизму или атеизму.
Можно подойти к вопросу о доказательстве существования нравственных ценностей блага, добра с апагогической точки зрения или рассуждать от противного. Существует ли реально зло, антипод добра, его диалектическая противоположность? Существует ли зло объективно, или хотя бы интерсубъективно? Нищета, войны, социальная несправедливость, или триада, которая поразила сознание Будды — болезни, старость и смерть — всё это явное зло. Сюда же можно отнести и землетрясение в большом городе, которое разрушает его, террористический акт против множества беззащитных людей, сознательное применение оружия массового уничтожения на государственном уровне.
Зло уничтожает наше представление о том, что этот мир — лучший из миров. Все осознают, что терроризм — зло, и даже сами террористы, которые сознательно служат злу, используя страх как средство достижения своих целей, понимают, что террор — это не добро, а зло. При столкновении с подобным злом может разрушиться вера в гармонию и счастье, вера в абсолютное добро. Не решает проблему и признание зла отсутствием добра (Августин)2. Хотя, разумеется, зло противоречиво в своем существовании. Феноменология нравственного сознания выводит на объективные ценности, которые могут наполняться субъективным индивидуальным смыслом. В противовес можно приводить примеры того, что нравственные принципы зависят от культуры общества и степени ее развития. Например, Аристотель считал рабство добром, а сейчас осуждаются все виды рабства как зло. Или указывать на наличие странных обрядов, многие из которых невозможно разумно объяснить. Становятся ли они от этого морально приемлемыми [12: 177]? Нравственный релятивизм по отношению к злу опровергается от противного, а именно: все, кто отрицает существование зла, в какой-то мере оправдывают его. Правда, происходит это, повторюсь, не по отношению к себе самому, а в отношении других людей.
При столкновении с подобным злом может разрушиться вера в гармонию и счастье, вера в абсолютное добро. Не решает проблему и признание зла отсутствием добра (Августин)2. Хотя, разумеется, зло противоречиво в своем существовании. Феноменология нравственного сознания выводит на объективные ценности, которые могут наполняться субъективным индивидуальным смыслом. В противовес можно приводить примеры того, что нравственные принципы зависят от культуры общества и степени ее развития. Например, Аристотель считал рабство добром, а сейчас осуждаются все виды рабства как зло. Или указывать на наличие странных обрядов, многие из которых невозможно разумно объяснить. Становятся ли они от этого морально приемлемыми [12: 177]? Нравственный релятивизм по отношению к злу опровергается от противного, а именно: все, кто отрицает существование зла, в какой-то мере оправдывают его. Правда, происходит это, повторюсь, не по отношению к себе самому, а в отношении других людей.
Категории добра и зла имеют силу как ценности общественного сознания, регулируя многие другие нормы человеческого поведения. Например, счастье — это утверждение добра, приближение к благу. Любовь — положительное отношение к миру в целом как источнику всего доброго, а также наши действия, направленные на утверждение жизни, а не на ее разрушение (зло).
Например, счастье — это утверждение добра, приближение к благу. Любовь — положительное отношение к миру в целом как источнику всего доброго, а также наши действия, направленные на утверждение жизни, а не на ее разрушение (зло).
Смысл понятий «добро» и «зло» состоит в том, что эти нравственные концепты заостряют наше внимание на свободе выбора, происходящего несмотря на внешние обстоятельства, несмотря на объективную детерминацию действий людей. Выбирая зло, человек может решать дилемму, выбирать меньшее из зол, но не может считать зло добром. В отношении темы автономности сознания мы можем фиксировать перелом ориентированности действия личности с внешнего на внутреннее и подойти к подлинному началу духовной автономности, к нравственной самозаконности. И такая инверсия внутреннего и внешнего характеризует горизонт (социо)культурных оснований, то есть культурных оснований, которые не только детерминированы социальным бытием, не только детерминируют его сами, но и являются социальными во внутреннем плане. Еще большее выражение подлинная духовная автономность человека находит в эстетическом сознании. И можно зафиксировать этот момент единства этического и эстетического.
Еще большее выражение подлинная духовная автономность человека находит в эстетическом сознании. И можно зафиксировать этот момент единства этического и эстетического.
В нравственном сознании устанавливается своеобразное «равновесие» автономности и гетерономии. Методологически приемлемым является понимание абсолютного и относительного в нравственном сознании в духе диалектики, то есть взаимного перехода и превращения противоположностей. В то же время и диалектика предполагает не дуализм, а доминирование одной из противоположностей. В этом аспекте гуманизм отличается именно диалектичностью соотношения абсолютного и относительного.
Индивид как носитель автономного сознания, ценностей, прежде всего, нравственных, — это личность и индивидуальность, субъект.
Личность как абстрактная возможность зарождается еще в «осевое» время (К. Ясперс), но конкретное массовое воплощение она получает в эпоху Ренессанса. Церковно-феодальной идеологии аскетизма и сопряженного с ним религиозного (в данном случае христианского) гуманизма эта эпоха противопоставила идею автономной морали.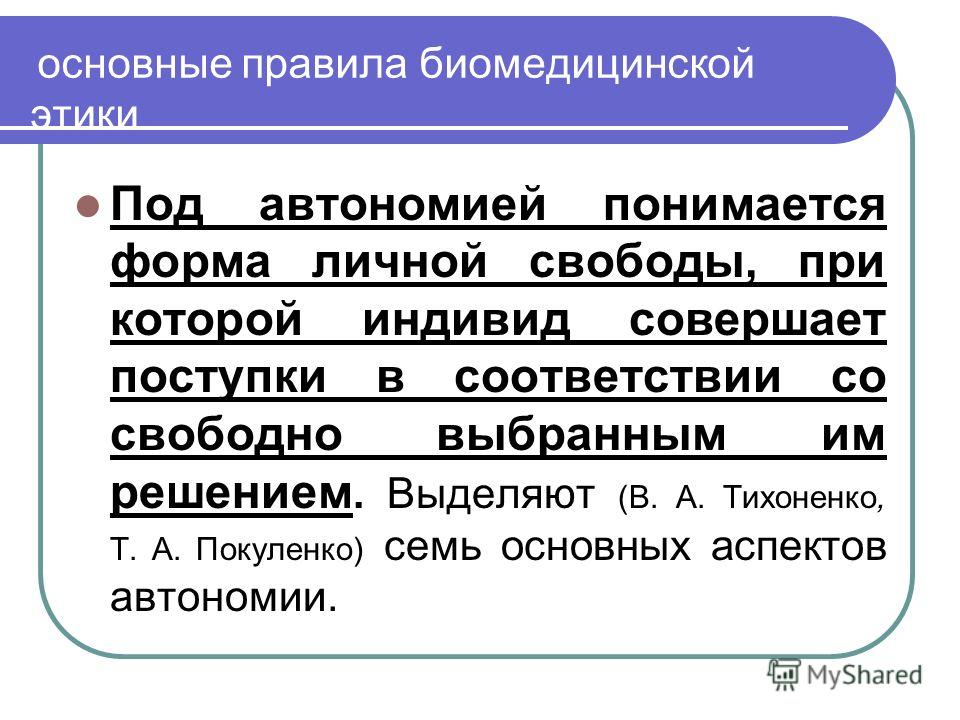 Гетерономная мораль опиралась на понятие соборности, «кафоличности», на идею всеобщей связанности всех людей в Боге. Автономность человека и автономность его сознания, очевидно, взаимно обусловливали друг друга. Онтологическая парадигма сознания сменялась аксиологической: основания деятельности человека лежали не вовне, а в нем самом.
Гетерономная мораль опиралась на понятие соборности, «кафоличности», на идею всеобщей связанности всех людей в Боге. Автономность человека и автономность его сознания, очевидно, взаимно обусловливали друг друга. Онтологическая парадигма сознания сменялась аксиологической: основания деятельности человека лежали не вовне, а в нем самом.
Русская религиозная литература и философия видят смысл жизни русского человека в борьбе со страданиями. Это прослеживается у Е.Н. Трубецкого [13, 14]. Русская философия полагает, что страдания делают человека лучше, очищают его, облагораживают и делают достойным счастья. Даже Ф.М. Достоевский, много размышлявший о страдании, его бессмысленности, пришел к выводу, что оно окупится будущей гармонией [15: 741–754, 789].
Отношения в реальном обществе отражаются на балансе автономии и гетерономии в нравственном сознании: общество, консолидируясь, стабилизирует нравственные ценности, усиливая момент абсолютного, но, дезорганизуясь, оно создает условия «аномии», когда нравственные нормы ослабляются, релятивизируются.
Итак, суть автономности сознания как культурной основы нравственности состоит в том, что нравственная норма — это социальный акт, который протекает сугубо внутренним образом, свободно, на основе ценностей, концентрирующих в себе нравственные смыслы. Нравственность как социальный институт обусловлена не только и не столько внешним образом, например экономически, сколько детерминирована прогрессирующим внутренним законом свободной и творческой ответственности. Так, важное достижение всей социальной и культурной антропологии состояло в том, что первобытное общество конституировалось сакрализованной нравственностью, в которую входил зародыш современного института товарно-денежной экономики в виде экономики дарения.
Трудно оценивать аргументацию сторонников и противников абсолютного в морали чисто внешним образом. Внутренние же основания приводят к абсолютному. В нашем рассмотрении нравственного сознания взвешивались аргументы «за» и «против» нравственного релятивизма, сопряженного с социальным детерминизмом морали. Если вместо «либо-либо» поставить «и», то абсолютное будет если не доказано, то защищено, не опровергнуто. Даже если чаша весов идеально уравновешена, то Я может положить на сторону добра свое суждение. Язык сознания выявляет чистые интенциональные объекты нравственности, которые выражают творческую мощь духовного, победу идеального над материальным и способность личности действовать, руководствоваться более высокими соображениями, чем мотивы пользы, власти и закона.
Если вместо «либо-либо» поставить «и», то абсолютное будет если не доказано, то защищено, не опровергнуто. Даже если чаша весов идеально уравновешена, то Я может положить на сторону добра свое суждение. Язык сознания выявляет чистые интенциональные объекты нравственности, которые выражают творческую мощь духовного, победу идеального над материальным и способность личности действовать, руководствоваться более высокими соображениями, чем мотивы пользы, власти и закона.
Личность, которая отчуждена от нравственности как субстанциального момента культуры, становится внутренне пустой, несмотря на свой высокий политический («бюрократ»), социальный («авторитет») или экономический («продажная личность») статус. «Внутренняя пустота» в данном случае — это метафора для понимания альтернативности счастья и любви в спектре нравственных ценностей. В некоторых вариантах мировоззрения счастье вообще лишается культурного смысла, направлено против культуры, например, у киников, даосов, а в современности — у фрейдистов и постмодернистов.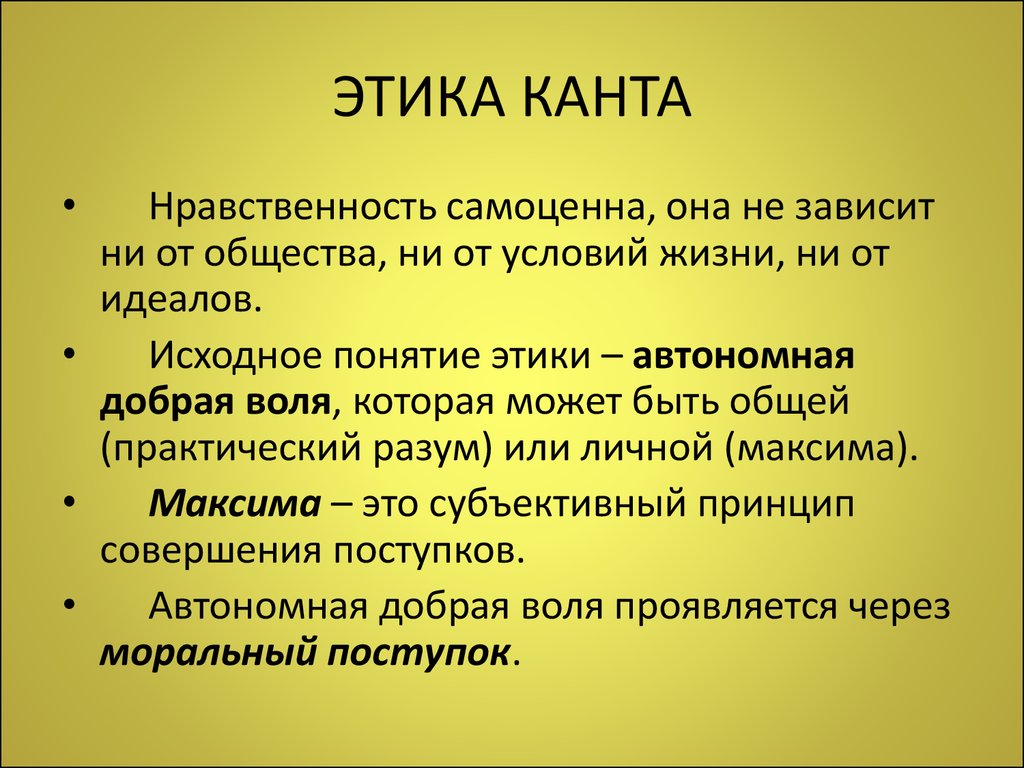 В счастье же как нравственной категории следует зафиксировать низший уровень нравственности, в котором доминирует гетерономия, а в любви — высший созидательный уровень, в котором гетерономия подчинена автономии.
В счастье же как нравственной категории следует зафиксировать низший уровень нравственности, в котором доминирует гетерономия, а в любви — высший созидательный уровень, в котором гетерономия подчинена автономии.
Мораль может характеризоваться с точки зрения внутренней детерминации: она — causa sui, духовная субстанция. Нравственное сознание направляет человеческую деятельность, исходя из идеальных мотивов. Внутренние нравственные мотивы выступают внутренней предпосылкой поступков, сотворенных духовным миром человека с помощью доброй и свободной воли. В деятельности человека, его общении и в диалоге с другими людьми происходит энергичное преобразование этики в культуру.
— Следует ли из сказанного, что между культурой личности и её социокультурной автономией тесная сущностная связь: чем выше уровень культуры личности, тем сильнее её потребность в автономии и личностном суверенитете?
— В определенной мере да, это одно и то же. Гетерономия разрушает личность, а автономия — ее сохраняет и развивает. Неавтономной личности нет. Что же мы хотим сказать, употребляя термин «личностная автономия»? Зачем вводить лишние слова: «личность» и «личностная автономия»? Во-первых, личностная автономия явно выделяет культурный аспект личности в отличие от социологического, подчеркивая момент самодетерминации, а не внешней детерминации. Во-вторых, социологический момент не отбрасывается полностью, а уточняется в аспекте социокультурной интерпретации личности как «самозаконного закона». Это позволяет не только философски, но и научно исследовать автономию, как это делают психологи и социологи. В-третьих, личностная автономия как понятие отличается многомерностью, позволяя через культурное измерение установить связь между социальным и антропологическим измерением. В-четвертых, развивая предыдущее соображение, понятие «личностная автономия» направлено на поиск связи между миром социальной природы человека и миром свободы (антропологической его природы) через культуру как творчество и самотворчество человека, реализацию его ценностей, через феноменологизацию автономии индивидуальности в культурном контексте.
Гетерономия разрушает личность, а автономия — ее сохраняет и развивает. Неавтономной личности нет. Что же мы хотим сказать, употребляя термин «личностная автономия»? Зачем вводить лишние слова: «личность» и «личностная автономия»? Во-первых, личностная автономия явно выделяет культурный аспект личности в отличие от социологического, подчеркивая момент самодетерминации, а не внешней детерминации. Во-вторых, социологический момент не отбрасывается полностью, а уточняется в аспекте социокультурной интерпретации личности как «самозаконного закона». Это позволяет не только философски, но и научно исследовать автономию, как это делают психологи и социологи. В-третьих, личностная автономия как понятие отличается многомерностью, позволяя через культурное измерение установить связь между социальным и антропологическим измерением. В-четвертых, развивая предыдущее соображение, понятие «личностная автономия» направлено на поиск связи между миром социальной природы человека и миром свободы (антропологической его природы) через культуру как творчество и самотворчество человека, реализацию его ценностей, через феноменологизацию автономии индивидуальности в культурном контексте.
Здесь нужно сделать оговорку. Сама культура может пониматься по-разному. Соответственно и понятие «культура личности» имеет тысячу разных оттенков. Отсюда парадокс: в тоталитарной культуре внешняя культура личности подавляет внутреннюю ее культуру, свободу мысли, автономию сознания, свободу совести. Например, существует известный феномен «самоцензуры». Аутентичную автономию личности надо связывать с внутренней культурой, культурой индивидуальности. Например, Пушкин создает свой проект автономии — семейной автономии. Мой дом — моя крепость. В мою семью не должен вмешиваться даже царь. Жаль, что царя нельзя было вызвать на дуэль! Да, я думаю, что Пушкин бы и с ним стрелялся.
Недавно прочитал (прослушал) книгу «Философия существования: военные воспоминания» Леонида Григорьевича Андреева [16]. Это удивительный внутренний мир личности, способ автономного художественно-эстетического восприятия войны. В книге совсем нет никаких политических лозунгов, идеологической трескотни. Это личностная автономия как внутренняя культа аутентичной личности. Этим девятнадцатилетним мальчиком на войне движет один закон выживания. При этом выживание духовное и физическое неразрывно связаны друг с другом. Андреев пошел на войну добровольцем, причем избрал участь рядового, не захотел быть командиром, чтобы после войны учиться. Буду студентам приводить это в качестве примера того, как раньше люди ценили учебу, высокое звание студента. Он хотел стать писателем. И сразу же после тяжелейшего ранения, сделавшего его инвалидом, после госпиталя, во время войны, он написал книгу, которую не надо было редактировать или править. Зачем редактировать правду?
Это личностная автономия как внутренняя культа аутентичной личности. Этим девятнадцатилетним мальчиком на войне движет один закон выживания. При этом выживание духовное и физическое неразрывно связаны друг с другом. Андреев пошел на войну добровольцем, причем избрал участь рядового, не захотел быть командиром, чтобы после войны учиться. Буду студентам приводить это в качестве примера того, как раньше люди ценили учебу, высокое звание студента. Он хотел стать писателем. И сразу же после тяжелейшего ранения, сделавшего его инвалидом, после госпиталя, во время войны, он написал книгу, которую не надо было редактировать или править. Зачем редактировать правду?
Источники и литература:
1. Кемеров В.Е. Общество, социальность, полисубъектность. М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2012. 252 с.
2. О’Нил О. Автономия: зависимость и независимость // Мораль и рациональность / ред. Р.Г. Апресян. М.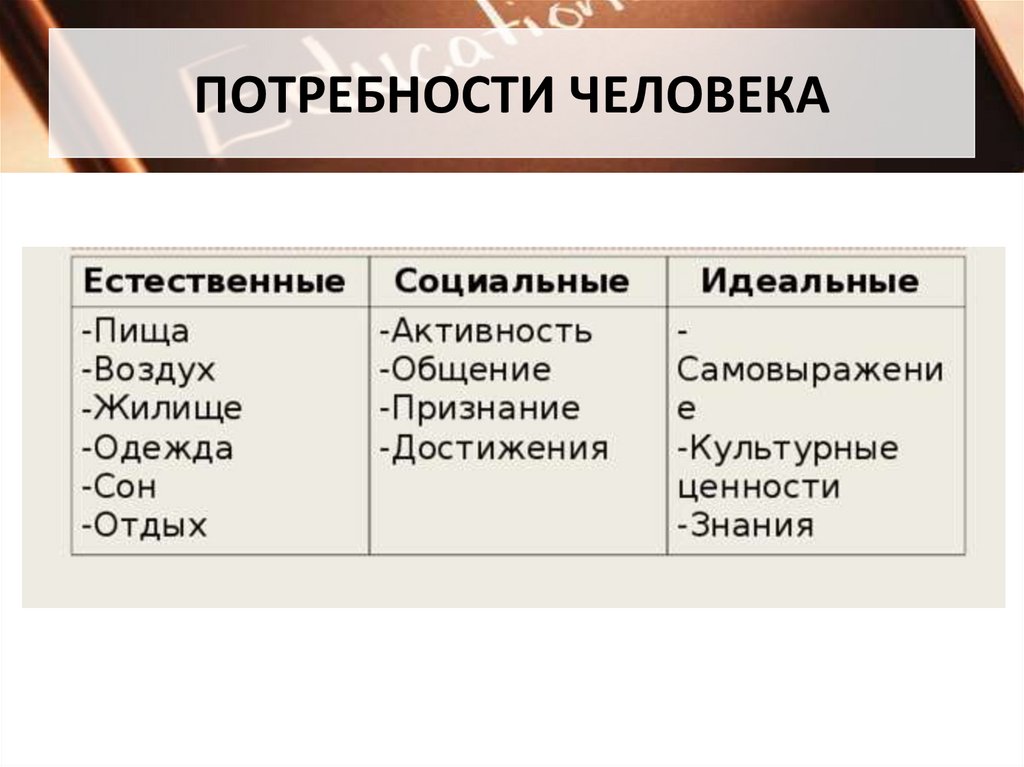 : ИФ РАН, 1995. C. 119–136.
: ИФ РАН, 1995. C. 119–136.
3. Dworkin G. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge University Press, 1988. 173 p.
4. Гусейнов А.А. Об идее абсолютной морали // Вопросы философии. 2003. № 3. С. 3–12.
5. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды: Основы онтологии, логики и психологии. М.: Наука, 1997. 463 с.
6. Кант И. Сочинения в 6 тт. / ред. В. Ф. Асмус, А.В. Гулыга, Т.И. Ойзерман. Т. 4. Ч. I. М.: Мысль, 1965. 544 с.
7. Ницше Ф. Сочинения в 2 тт.: Т. 2. / пер. Ю.М. Антоновский, Н. Полилов, К.А. Свасьян, В. А. Флёрова; сост., ред. и примеч. К.А. Свасьян. М.: Мысль, 1990. 829 с.
8. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / пер. А. Н. Малинкин. СПб.: Наука, Университетская книга, 1999. 231 с.
9. Юм Д. Сочинения в 2 тт.: Т. 2. / пер. С.И. Церетели, В.С. Швырев, Ф.Ф. Вермель, Е.С. Лагутин, А.Н. Чанышев, М.О. Гершензон, С.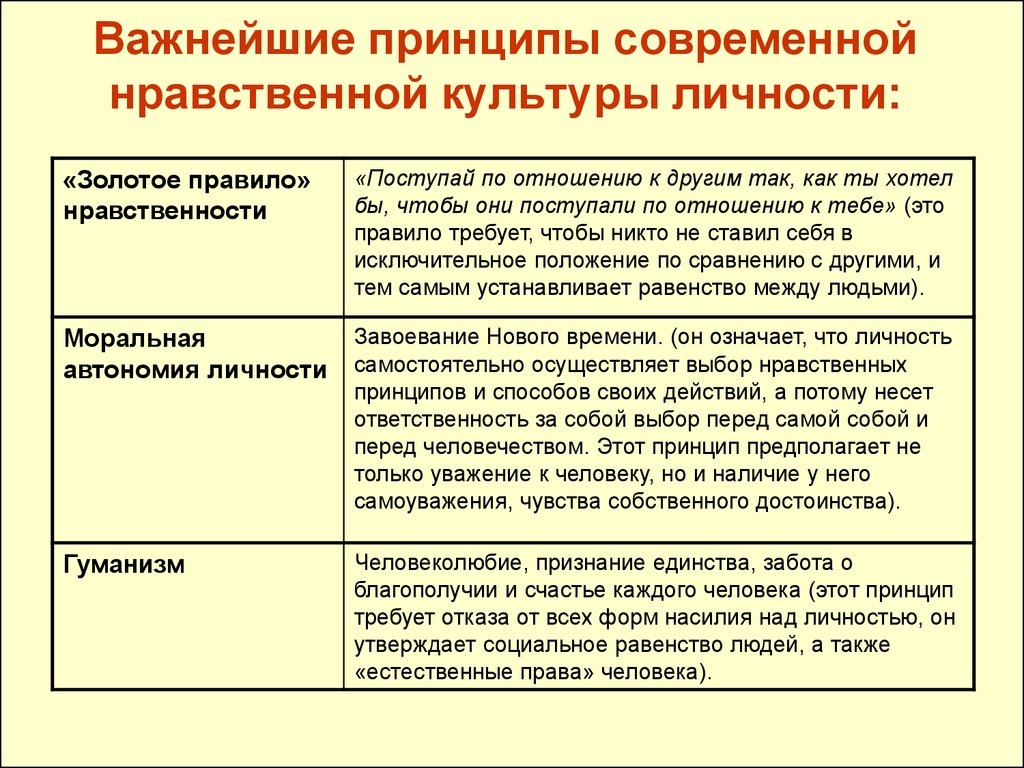 М. Роговин; примеч. И.С. Нарский. 2-е изд., дополн. и испр. М.: Мысль, 1996. 799 [1] с.
М. Роговин; примеч. И.С. Нарский. 2-е изд., дополн. и испр. М.: Мысль, 1996. 799 [1] с.
10. Тейчман Д., Эванс К. Философия: Рук. для начинающих / пер. с англ. Е.Н. Самойлова. М.: ИНФРА-М; Весь мир, 1998. 246 с.
11. Этика: Энциклопедический словарь / ред. Р.Г. Апресян, A.A. Гусейнов. М.: Гардарики, 2001. 671 с.
12. Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия / пер. К. Савельев; ред. Р.А. Варгезе. М.: Гранд; Фаир-Пресс, 2000. 398, [1] с.
13. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни // Русские философы: Конец XIX — середина XX века. Библиографические очерки. Тексты сочинений / сост. С.Б. Неволин, Л.Г. Филонова. М.: Кн. Палата, 1994. С. 232–243.
14. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи // Философия русского религиозного искусства / сост., общ. ред. и предисл. Н.К. Гаврюшин. М.: Прогресс, Культура, 1993. С. 195–219.
15. Достоевский Ф.М. Дневник писателя / cост. и коммент. А.В. Белов; ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 880 с.
16. Андреев Л.Г. Философия существования. Военные воспоминания. М.: Гелеос, 2005. 316 с.
Беседу вел Геннадий Бакуменко
1 Своеобразную интерпретацию этого понятия дает К.А. Свасьян [7: 784–786].
2 «Августин в полемике с манихеями определил зло как лишенность бытия» [11: 154]. Логика рассуждения Августина такова: Бог сотворил совершенный мир, поэтому зло — это отсутствие добра, бытия точно так же, как тьма — это отсутствие света. Эта новаторская идея Августина заимствуется Иоанном Дамаскиным, Фомой Аквинским и другими мыслителями вплоть до Лейбница с его оригинальной теодицеей.
Жить или не жить: автономия личности и свобода воли
Внешний контент Тема самоубийства занимала человечество начиная с Античности. Наиболее известный, наверное, в истории самоубийца – это Сократ. На фото: картина 1787 года «Смерть Сократа» кисти художника Жака-Луи Давида (Jacques Louis David, 1748-1825). akg-images Этот контент был опубликован 11 июля 2016 года — 11:00
Наиболее известный, наверное, в истории самоубийца – это Сократ. На фото: картина 1787 года «Смерть Сократа» кисти художника Жака-Луи Давида (Jacques Louis David, 1748-1825). akg-images Этот контент был опубликован 11 июля 2016 года — 11:00 Лариса М. Билер (Лариса М. Билер)
Неизлечимая болезнь или просто желание покончить, наконец, с утомительной суетой окружающего мира: в рамках ведущихся в Швейцарии дебатов на тему организованного суицида традиционно центральное место занимает такое понятие, как личностный суверенитет. Люди, которые задумываются над опцией добровольного ухода из жизни, хотели бы иметь возможность принимать все свои решения совершенно автономно и самостоятельно.
В рамках ассистированного суицида, признанного и не запрещенного в Швейцарии, последнее слово должно принципиально принадлежать самому пациенту, именно он и только он должен решать, принять ли ему, например, смертельную дозу медикаментов, или нет? Роль же врачей в данном случае должна ограничиваться только помощью и поддержкой, оказываемой в рамках так называемой паллиативной медицины.
Что касается в целом организованного суицида, то в этой сфере Швейцария принадлежит к одной из самых прогрессивных стран мира. И не случайно поэтому, что она является лидером в области так называемого суицидального туризма, поскольку тут право на самоубийство в старости не регулируется практически никакими юридическими нормами обязательного характера. При этом, однако, не следует думать, что либеральная Швейцария в области добровольного суицида совсем уж не сталкивается ни с какими проблемами.
Напротив, данная тема в Конфедерации является постоянным общественным раздражителем и предметом порой весьма ожесточенных общественных дебатов, в центре которых стоят общечеловеческие ценности политического, религиозного, социального и этического характера. Может ли и должна ли человеческая жизнь ставиться под вопрос в случае наступления чрезвычайной ситуации? Дискуссии на предмет возможного законодательного запрета суицидального туризма разгораются в Швейцарии с настойчивой постоянностью.
С точки зрения таких организаций ассистированного суицида, как «Dignitas» или «Exit», возможность получения человеком «поддержки при суициде» является его неотъемлемым правом. Человек должен быть в состоянии получить такую помощь, если он твердо приходит к выводу о том, что силы его на исходе и бороться со смертью (или жизнью) он больше не может.
Высшим судией в этом смысле остается воля пациента. Желание умереть следует воспринимать с уважением, без какого-либо морализаторского осуждения. Недавно в Швейцарии большого медийного шума наделал случай политика из кантона Гларус Виса Дженни (This Jenny), который принял решение лечь в клинику и прибегнуть к помощи ассистированного суицида. Однако, как бы там ни шумели СМИ, многое на их страницах выглядит порой слишком уж плоско и упрощенно, мол, личность, которая принимает такое решение, должна, как видно, обладать какими-то сверхъестественными качествами, гвозди бы делать из таких людей, способных принимать столь трагические решения и потом твердо идти по избранному пути — до самого конца.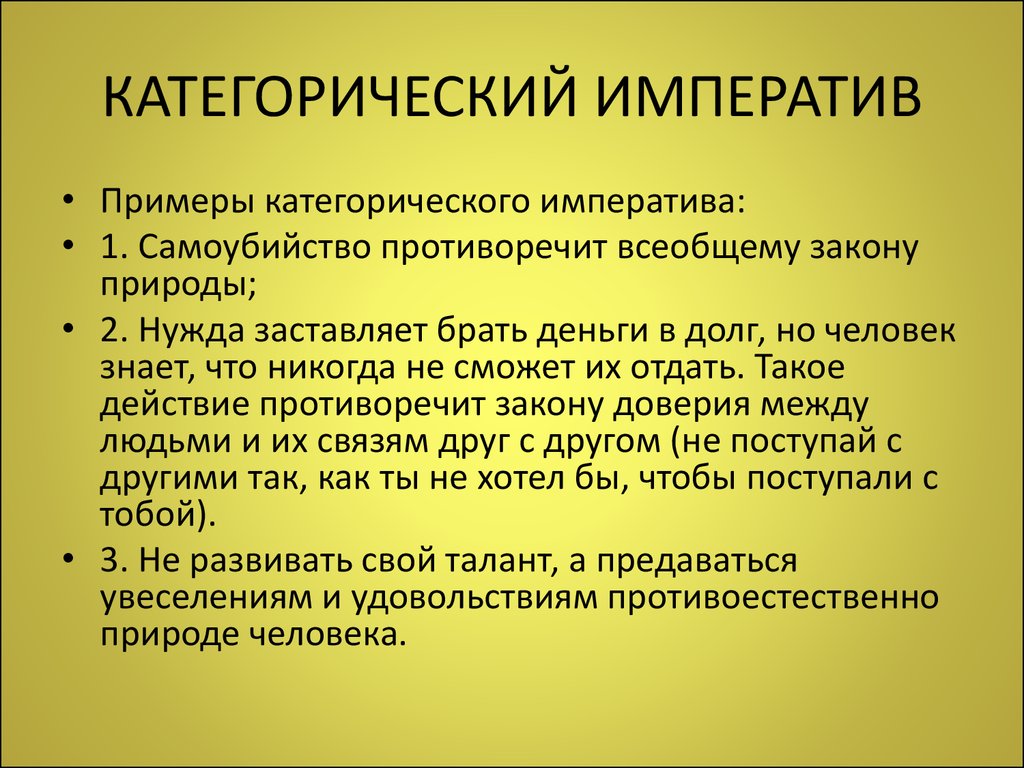
Показать больше
Оттенки и интонации могут меняться, но, как правило, добровольный уход из жизни заметной, общественно значимой фигуры, описывается в средствах массовой информации именно в таком ключе. Возможность с достоинством, не испытывая презрения или гнева общества, принять решение об уходе из жизни, шанс на поддержку со стороны специалистов из области паллиативной медицины — все это представляется в СМИ в качестве некоего великого достижения, какой-то сенсации. И Швейцария является в этом контексте, якобы, самой настоящей Меккой добровольного суицида.
Однако если посмотреть на то, какая работа проводится сейчас в Швейцарии в рамках вышеупомянутой паллиативной медицины, цель которой — снять с проблематики добровольного ухода завесу запретного табу, сделать ее как можно более прозрачной, доступной для общества и для общественно значимых дебатов, то можно понять, что на деле все выглядит не столь уж гламурно. Возникают тысячи и тысячи вопросов, например, есть ли какие-то альтернативы суициду, с учетом того, что добровольный уход из жизни может стать для родственников ушедшего непосильной моральной ношей? Какой путь в какой ситуации следует предпочесть — и почему?
Воля клиента — превыше всего, но одновременно не следует забывать, что эта воля должна быть выражена абсолютно точно и четко, без каких-либо интерпретаций и разночтений.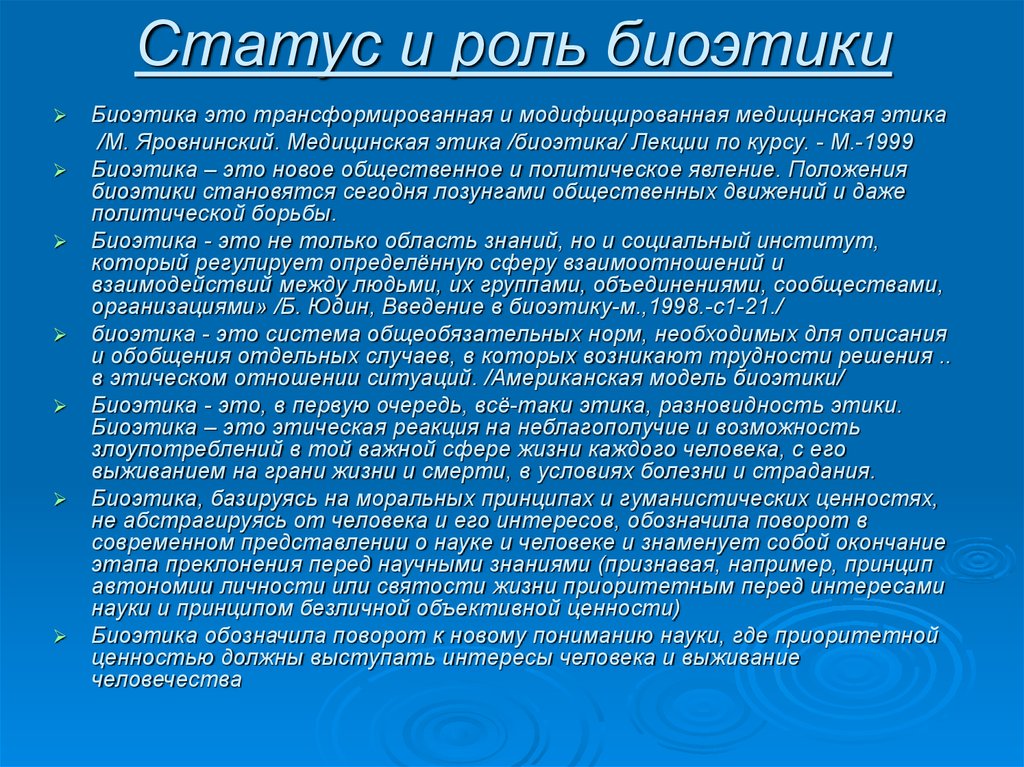 А вот как раз это случается не везде и не всегда. Опыт показывает — степень желания смерти, как правило, обратно пропорциональна степени запущенности болезни. Снижается желание уйти из жизни и в результате активной просветительской работы с пациентом — чем больше знаний, тем, вопреки поговорке, менее печалей! А это означает, что в момент наибольшей слабости пациент не должен оставаться один. Об этом говорит и, в частности, теолог и пастор из Швейцарии Сюзанна Майер Кунц (Susanna Meyer Kunz) в интервью газете «Bündner Tagblatt». Поддержка, оказанная в трудную минуту пациенту, по ее словам, может стать причиной самых неожиданных событий. Желание смерти может пропасть, на его место могут заступить просветление, примирение, страх может уйти, ужас — исчезнуть!
А вот как раз это случается не везде и не всегда. Опыт показывает — степень желания смерти, как правило, обратно пропорциональна степени запущенности болезни. Снижается желание уйти из жизни и в результате активной просветительской работы с пациентом — чем больше знаний, тем, вопреки поговорке, менее печалей! А это означает, что в момент наибольшей слабости пациент не должен оставаться один. Об этом говорит и, в частности, теолог и пастор из Швейцарии Сюзанна Майер Кунц (Susanna Meyer Kunz) в интервью газете «Bündner Tagblatt». Поддержка, оказанная в трудную минуту пациенту, по ее словам, может стать причиной самых неожиданных событий. Желание смерти может пропасть, на его место могут заступить просветление, примирение, страх может уйти, ужас — исчезнуть!
Нередко человек «устает» от жизни, постепенно, особенно находясь в продвинутом возрасте, он начинает ощущать, что «наелся» ею досыта. Совершенно иначе случается с неизлечимо больными людьми. Для них трагический диагноз нередко превращается в своего рода гром среди ясного неба! Вопрос о том, как и в каком состоянии мне придется завершить свою жизнь, ставится вдруг перед ними в прямом смысле ребром.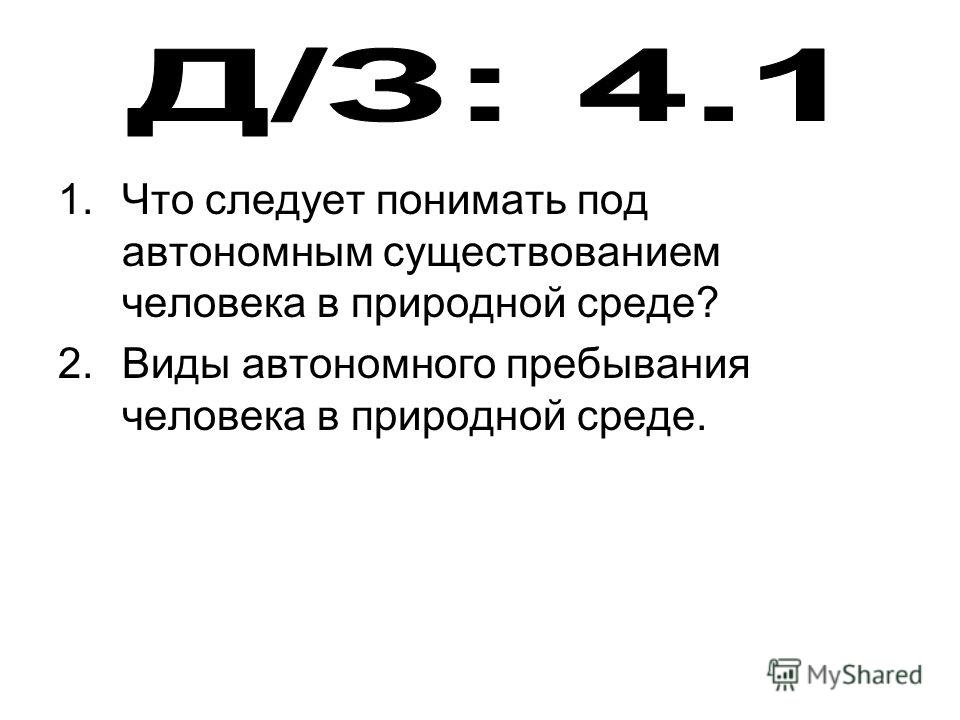 На волю пациента в этот момент оказывается воздействие с самых разных сторон — это может быть мнение посторонних людей, это могут быть ценности его собственной религии, это может быть, в конце концов, просто страх. В такой ситуации задача точно «расшифровать» волю пациента становится сложнейшим ребусом, и ответ на самый основной вопрос — жить или не жить? — может быть решающим для определения дальнейшей судьбы данного человека.
На волю пациента в этот момент оказывается воздействие с самых разных сторон — это может быть мнение посторонних людей, это могут быть ценности его собственной религии, это может быть, в конце концов, просто страх. В такой ситуации задача точно «расшифровать» волю пациента становится сложнейшим ребусом, и ответ на самый основной вопрос — жить или не жить? — может быть решающим для определения дальнейшей судьбы данного человека.
Паллиативная медицина не панацея, однако в просвещенном обществе она может стать инструментом прозрачного и ясного поиска ответов на вопросы, неизбежно возникающие в такой нелегкой сфере, как смерть и отношение к ней человека и общества. Социум имеет право вести дискуссию на данную тему — и в точно такой же степени человек имеет право на самостоятельный выбор своей собственной судьбы. Медицинская «поддержка акта суицида» обладает сейчас в Швейцарии позитивным имиджем — может быть даже слишком позитивным. Наверное, человек, особенно в момент его наибольшей слабости и осознания своей полной зависимости от окружающих, имеет право знать о том, что есть на этом свете, помимо пресловутого «глотка цикуты», куда более гуманные способы распрощаться с этим светом, и что одна лишь свобода автономной воли — это еще далеко не всё! Он имеет право задуматься над простым вопросом, а именно, неужели же идеальное воплощение свободы воли — это всего лишь самоубийство? В Швейцарии этот вопрос пора поставить со всей откровенностью, и уж конечно же упомянутая «поддержка акта суицида» не должна стать привычным средством медицинского вмешательства, наряду с аспирином!
А каково Ваше мнение? Является ли право на добровольный уход из жизни «правом человека»? Или же автономия личности должна иметь четко очерченные границы? Мы ждем ваших комментариев!
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.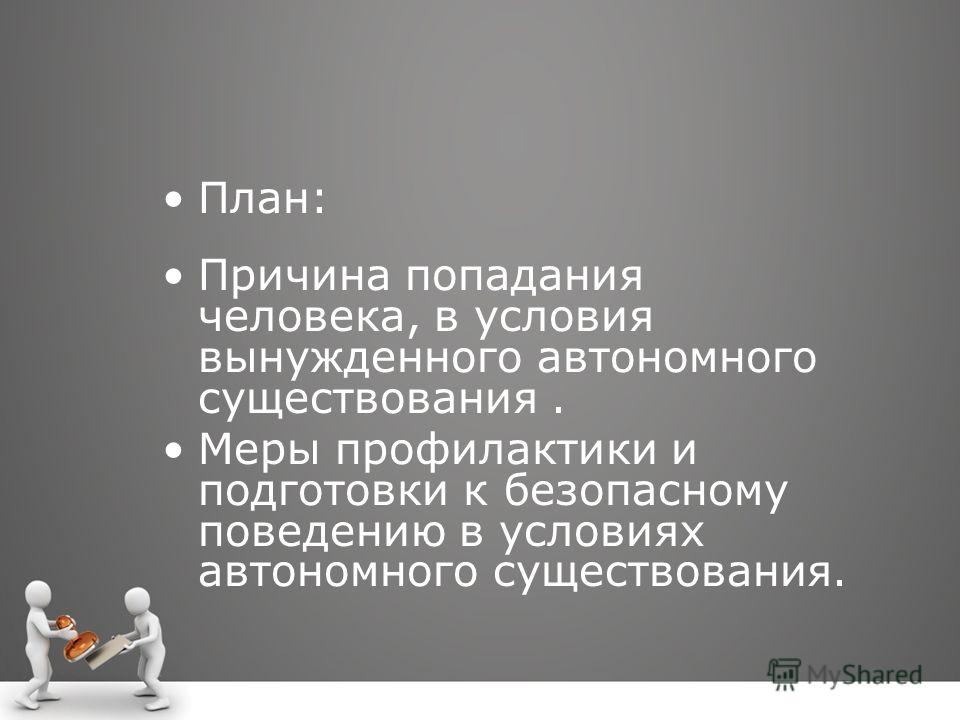 ch
ch
Показать больше
Личная автономия (Стэнфордская философская энциклопедия)
Автономные агенты являются самоуправляемыми агентами. Но что такое самоуправляющийся агент? Самоуправление не является гарантией того, что человек иметь более широкий выбор вариантов в будущем или своего рода возможности, которые больше всего хочется иметь. Поскольку, кроме того, человек может управлять собой, не будучи в состоянии оценить разницу между правильно и неправильно, кажется, что автономный агент может что-то сделать неправильно, не будучи виноватым в ее поступке. Каковы же тогда необходимые и достаточные признаки этого самоотношения? Философы предложили широкий спектр конкурирующих ответов на этот вопрос.
1. Введение
Когда люди, живущие в каком-то регионе мира, заявляют, что их
группа имеет право жить автономно, они говорят, что они
должны иметь возможность управлять собой. Делая это заявление, они
по существу, отвергают политическую и юридическую власть тех
не в их группе. Они настаивают на том, что какой бы ни была власть этих
над ними могут иметь посторонние, эта власть незаконна; они и
только они имеют право устанавливать и обеспечивать соблюдение правил и
политику, регулирующую их жизнь.
Они настаивают на том, что какой бы ни была власть этих
над ними могут иметь посторонние, эта власть незаконна; они и
только они имеют право устанавливать и обеспечивать соблюдение правил и
политику, регулирующую их жизнь.
Когда человек делает подобное заявление о какой-либо сфере собственной жизни, она тоже отрицает, что кто-либо еще имеет власть контролировать ее деятельность в этой сфере; она говорит, что любой осуществление власти над этой деятельностью является незаконным, если только она разрешает это сама. Большинство причин, которые можно предложить в поддержка этого утверждения имеет корреляты в случае требований к группе автономия. Но есть одно очень важное исключение: причина, по которой выводит нас за пределы политики, к метафизике свободы воли.
Агент – это тот, кто действует. Чтобы действовать, нужно инициировать
действие. И нельзя начать действие, не упражняясь в своих действиях.
власть сделать это. Поскольку ничто и никто не имеет власти действовать, кроме как
сам агент, она одна имеет право осуществлять это право, если она
вправе действовать.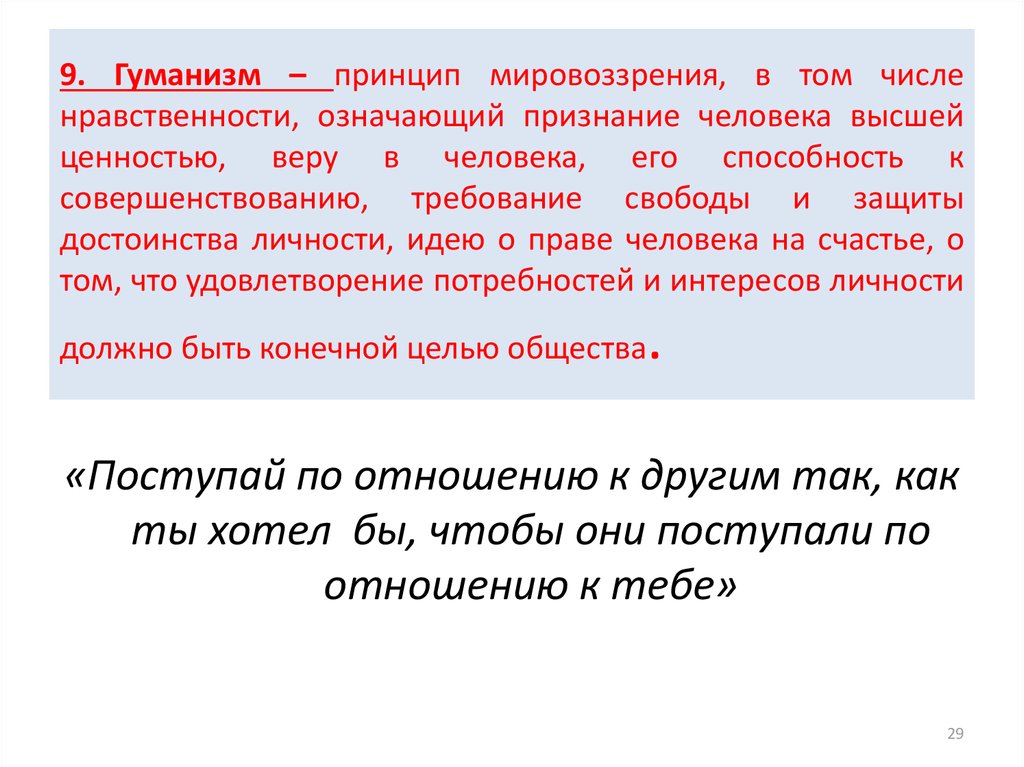 Это означает, что поскольку кто-то является агентом,
т. е., поскольку она является той, кто действует, она правильно считает
ее собственные обязательства действовать, ее собственные суждения и решения о
как она должна действовать, как авторитетная. Действительно, если бы она бросила вызов
авторитет, который является существенной чертой ее суждений и
решений, то они перестанут быть ее собственными практическими выводами.
Их способность двигать ее перестанет быть проявлением ее силы.
двигаться сама; это не было бы силой ее собственного агентства.
Это означает, что поскольку кто-то является агентом,
т. е., поскольку она является той, кто действует, она правильно считает
ее собственные обязательства действовать, ее собственные суждения и решения о
как она должна действовать, как авторитетная. Действительно, если бы она бросила вызов
авторитет, который является существенной чертой ее суждений и
решений, то они перестанут быть ее собственными практическими выводами.
Их способность двигать ее перестанет быть проявлением ее силы.
двигаться сама; это не было бы силой ее собственного агентства.
Короче говоря, каждый агент имеет власть над собой, т.
основано не на ее политической или социальной роли, ни на каком-либо законе или
обычай, а в том простом факте, что она одна может инициировать свои действия.
Безусловно, кому-то может быть неразумно следовать командам, которые она
отдает себе, когда «принимает решение». Смысл,
однако в том, что у нее нет мыслимого варианта. Чтобы сформировать
намерение сделать одно, а не другое, агент должен считать ее
собственного суждения о том, как действовать в качестве авторитета, даже если это
только суждение о том, что она должна следовать команде или совету
кто-нибудь другой.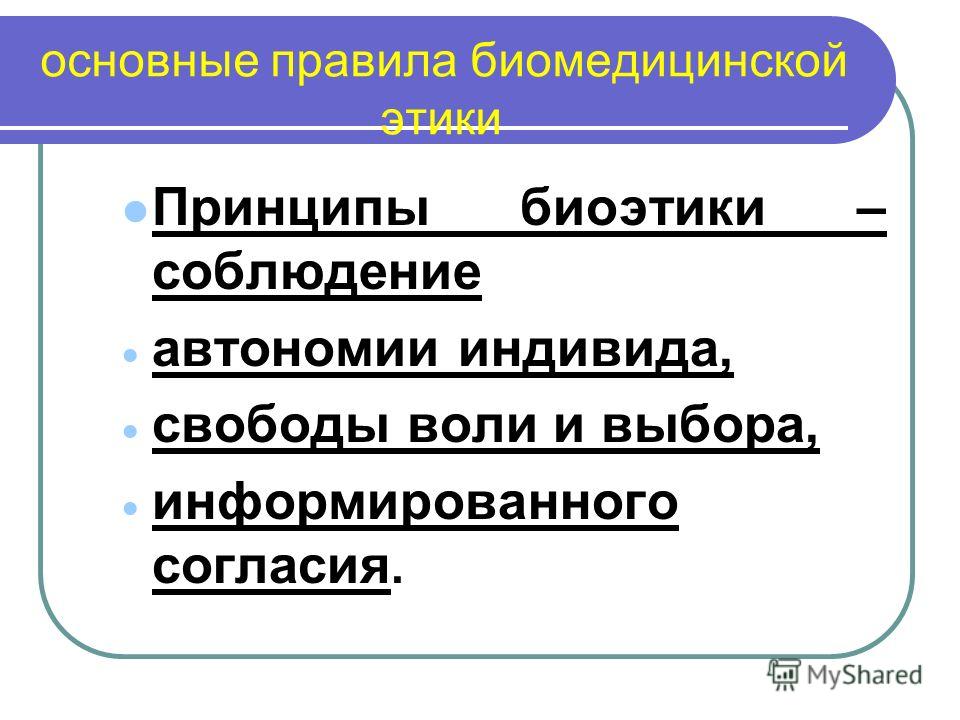 Эта тесная связь между тем, чтобы быть агентом и иметь
авторитет не имеет коррелята в случаях, когда рассматриваемый авторитет
политический. Любой может связно (и часто правдоподобно) бросить вызов
политический авторитет какого-либо лица или группы. Даже политическая
сама лидер может с полным основанием полагать, что ее политическая власть
нелегитимны, а осуществление этой власти неоправданно.
Эта тесная связь между тем, чтобы быть агентом и иметь
авторитет не имеет коррелята в случаях, когда рассматриваемый авторитет
политический. Любой может связно (и часто правдоподобно) бросить вызов
политический авторитет какого-либо лица или группы. Даже политическая
сама лидер может с полным основанием полагать, что ее политическая власть
нелегитимны, а осуществление этой власти неоправданно.
Несмотря на особый неотъемлемый характер нашей власти над
собой, мы можем не управлять собой, как
политический лидер может быть не в состоянии управлять теми, кто падает
в пределах ее домена. Действительно, именно потому, что наша власть над своими собственными
действия — неотъемлемая черта нашего агентства, наше уважение к этому
власть есть не что иное, как форма самоуправления. Это не гарантия того, что
всякий раз, когда мы действуем, силы, которые движут нами, обязаны своей силой наша власть решать, что делать. Так же, как политический лидер
официальный статус совместим с тем, что у нее нет реальной власти вызывать
кадры, так тоже человек может иметь авторитетный статус относительно
к ее мотивам, не имея над ними реальной власти.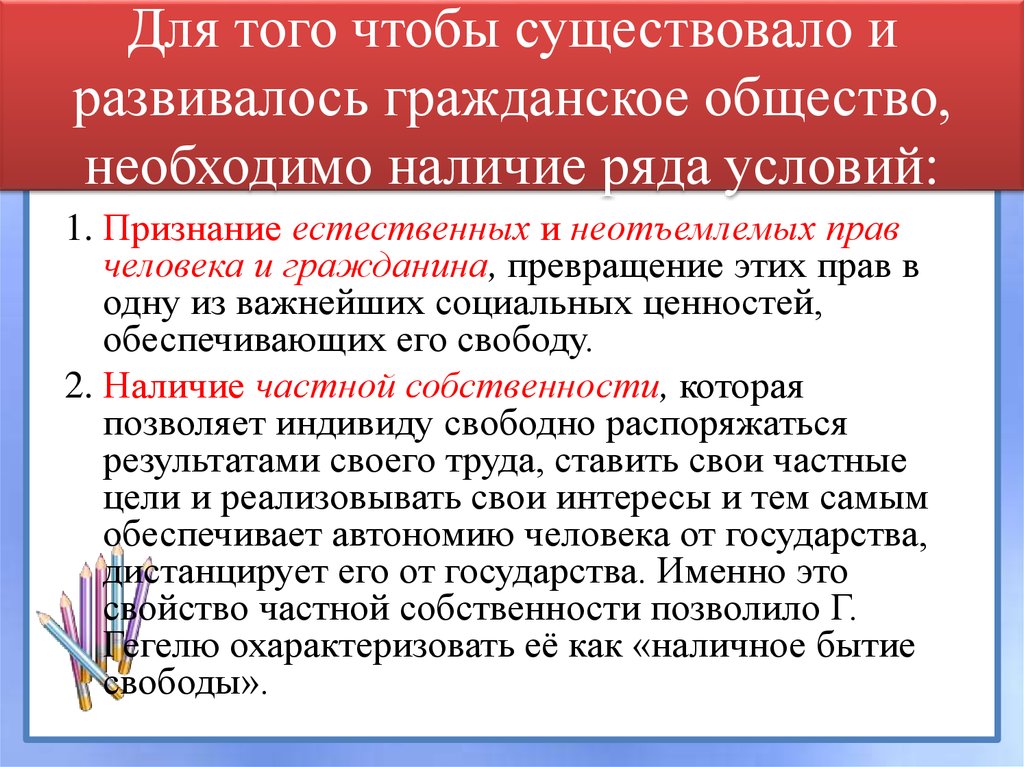 Хотя это
агента, чтобы определить, как он будет действовать, он может выполнять эту работу без
действительно под контролем. Конечно, никто не может управлять собой без
подвержена влияниям, сила которых не проистекает из ее собственного
авторитет: все, что мы делаем, является ответом на прошлое и настоящее
обстоятельства, над которыми мы не властны. Но некоторые силы
которые побуждают нас к действию, не просто влияют на то, какие действия мы выбираем
выполнять, ни как мы управляем собой, делая этот выбор. Они
влиять на нас таким образом, что высмеивает нашу власть
определяют наши собственные действия. Они подрывают нашу автономию.
Хотя это
агента, чтобы определить, как он будет действовать, он может выполнять эту работу без
действительно под контролем. Конечно, никто не может управлять собой без
подвержена влияниям, сила которых не проистекает из ее собственного
авторитет: все, что мы делаем, является ответом на прошлое и настоящее
обстоятельства, над которыми мы не властны. Но некоторые силы
которые побуждают нас к действию, не просто влияют на то, какие действия мы выбираем
выполнять, ни как мы управляем собой, делая этот выбор. Они
влиять на нас таким образом, что высмеивает нашу власть
определяют наши собственные действия. Они подрывают нашу автономию.
Что отличает подрывающие автономию влияния на личность
решения, намерения или воли от тех движущих сил, которые просто
играть роль в процессе самоуправления? Это вопрос, который
все аккаунты автономии пытаются ответить. По количеству и разнообразию
эти отчеты показывают, что различие чрезвычайно неуловимо. Есть
безусловно, широко распространенное мнение о парадигме угроз личной
автономии: промывание мозгов и зависимость — любимые примеры в
философская литература. Но философы, кажется, не в состоянии достичь
консенсуса относительно точного характера этих угроз. Они не могут согласиться
о том, как определенные факторы, влияющие на наше поведение, мешают нам
управлять собой.
Но философы, кажется, не в состоянии достичь
консенсуса относительно точного характера этих угроз. Они не могут согласиться
о том, как определенные факторы, влияющие на наше поведение, мешают нам
управлять собой.
Это разногласие по поводу определяющих характеристик автономных
агентство отражает тот факт, что, даже если конкретные примеры, кажется, вызывают
внимание на вполне реальную разницу между теми, кто управляет собой
а у тех, кто этого не делает, существуют серьезные концептуальные препятствия для
осмысление этого различия. Эти препятствия связаны с самой
особенность агентства, упомянутая выше, — черта, которая, по-видимому,
поддерживать требование о предоставлении отдельным лицам значительных политических
и законная власть. Если агент не может управлять собой, когда действует,
это должно быть потому, что то, что она делает, не зависит от ее способности
определить, как она будет действовать. Но если она обязательно имеет право
определить, как она будет действовать, и если эта существенная черта свободы воли
неотделимо от того, что она обязательно подчиняется себе
всякий раз, когда она инициирует свое действие, то как ее поведение может быть
выйти из-под ее контроля? Интуитивно агент может попасть под влияние
желания, или побуждения, или принуждения, сила которых противоречит ее собственной
власть как агент; она может быть движима такими импульсами «несмотря на
саму себя.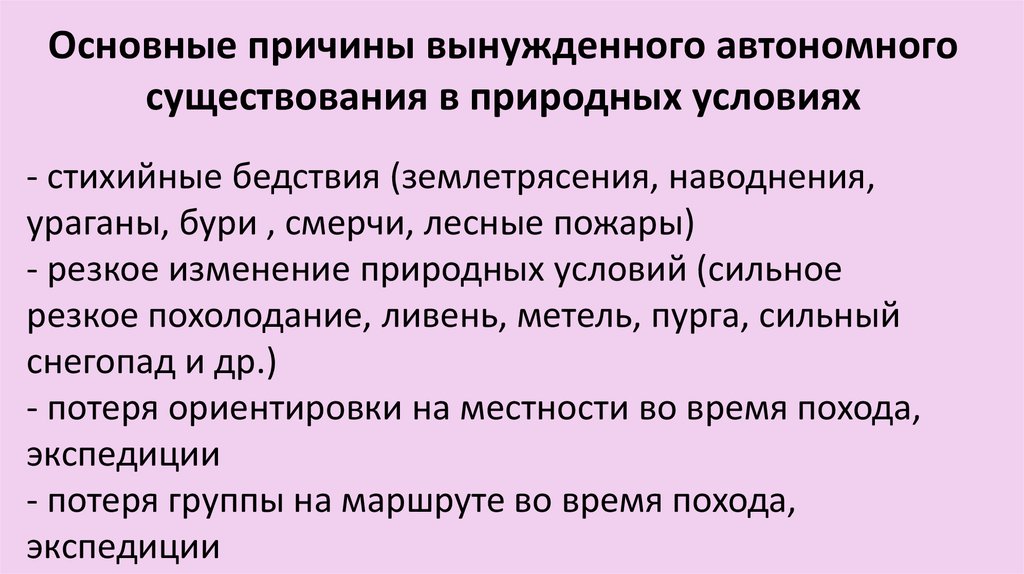 » Но в каком именно смысле такие мотивы
«внешним» по отношению к самому агенту? как можно их сила переместить ее не может быть проявлением ее способности к
действовать? Как их власть может уменьшить ее разрешение на ее действие до
простая формальность? Трудно ответить на эти вопросы, когда
управляющий агент и агент, которым она управляет, — одно и то же.
» Но в каком именно смысле такие мотивы
«внешним» по отношению к самому агенту? как можно их сила переместить ее не может быть проявлением ее способности к
действовать? Как их власть может уменьшить ее разрешение на ее действие до
простая формальность? Трудно ответить на эти вопросы, когда
управляющий агент и агент, которым она управляет, — одно и то же.
(Опять же недоумение, которое вызывают эти вопросы, не
имеют коррелят в политическом случае. Мы можем легко уловить идею
армия страны (или законодательный орган, или кабинет министров), диктующая
президенту, какой закон он должен одобрить; ибо в этом случае
есть (по крайней мере) два независимо идентифицируемых
лица, принимающие решения — каждый со своей точкой зрения, каждый со своей властью.
трудности в случае, когда соответствующие полномочия находятся в пределах
психике отдельно взятого агента состоит в том, что такого
независимо идентифицируемой пары точек зрения, с точки зрения которых мы можем
отличать силы, которые запугивают этого агента, от сил, которые могут
отнести на счет самого агента.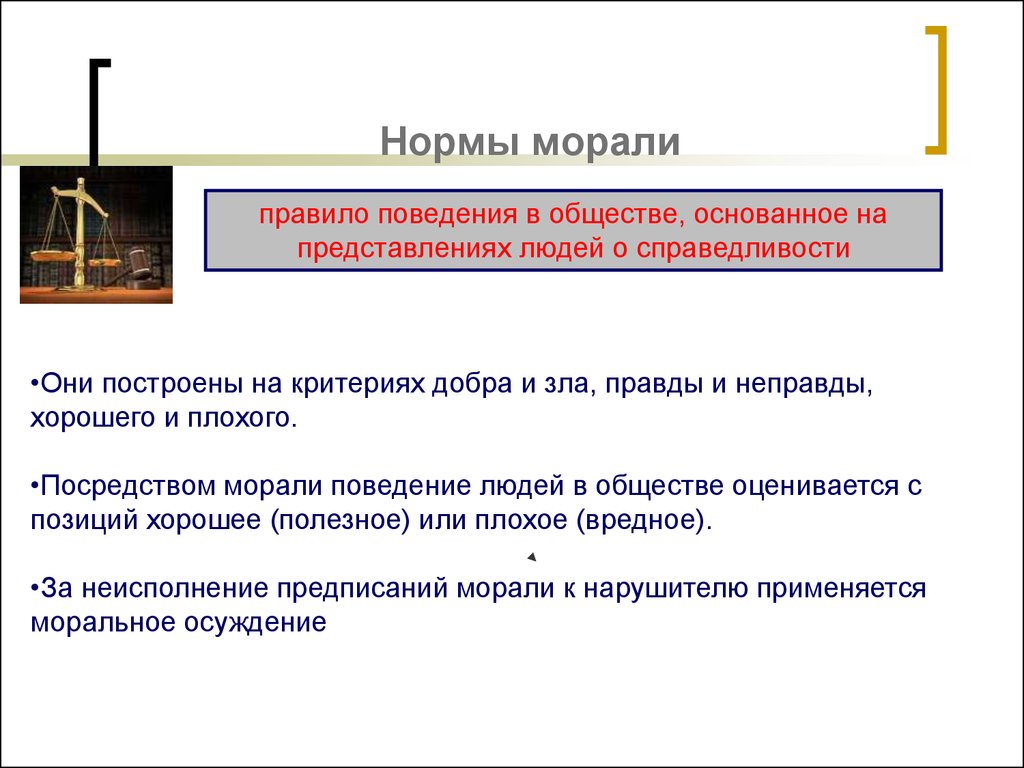 Учет условий в
которой индивидуальный агент запугивается своими мотивами, является в то же время
время, отчет о том, что делает мотив внешним по отношению к собственному
точка зрения.)
Учет условий в
которой индивидуальный агент запугивается своими мотивами, является в то же время
время, отчет о том, что делает мотив внешним по отношению к собственному
точка зрения.)
2. Четыре более или менее перекрывающихся описания личной автономии
Философы предложили множество различных трактовок автономной
особое отношение агента к собственным мотивам. Согласно одному
выдающаяся концепция, которую можно назвать
« когерентист », агент управляет своими действиями, если
и только если она мотивирована действовать так, как она делает, потому что это
мотивация согласуется (находится в гармонии) с некоторым психическим состоянием, которое
представляет ее точку зрения на действие. Соответствующее психическое состояние
варьируется от аккаунта к аккаунту. Согласно одной популярной легенде,
точка зрения агента состоит из его желаний высшего порядка
относительно того, какое из ее первоочередных желаний побуждает ее
действовать. (Франкфурт-на-Майне
1988в) [1] Согласно другой истории, ее точка
взгляд конституируется ее (современной или долгосрочной) оценочной
суждения относительно того, какие действия (наиболее) стоит выполнять.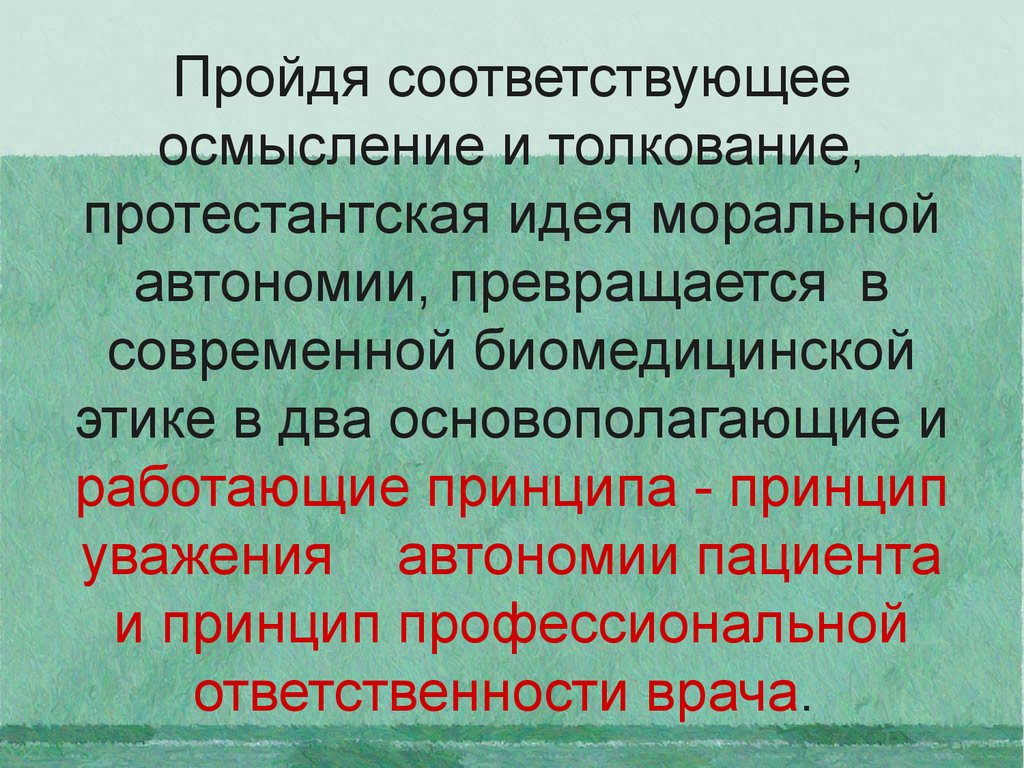 (Ватсон
1975) [2] Неподвижный
другой отчет добавляет, что также должна быть гармония между тем, что
агент и ее более или менее долгосрочные планы (Bratman 1979 и
2007). А другие обращаются к относительно стабильной сети
эмоциональные состояния, составляющие «заботу» (Франкфурт, 1988f).
и 1999d, Яворска, Сапожник
2003) [3] или к чертам характера агента
(Дворкин, Р.), или к ней максимально «интегрировано»
психологические состояния (Арпали и Шредер).
(Ватсон
1975) [2] Неподвижный
другой отчет добавляет, что также должна быть гармония между тем, что
агент и ее более или менее долгосрочные планы (Bratman 1979 и
2007). А другие обращаются к относительно стабильной сети
эмоциональные состояния, составляющие «заботу» (Франкфурт, 1988f).
и 1999d, Яворска, Сапожник
2003) [3] или к чертам характера агента
(Дворкин, Р.), или к ней максимально «интегрировано»
психологические состояния (Арпали и Шредер).
Все эти описания отражают интуицию, что действие не может быть
приписывается самому агенту, если, даже когда он совершает это действие,
она занимает точку зрения, с которой она отвергает то, что она есть
делает. Точнее, такое действие не может быть совершено агентом в
таким, каким он должен быть, если его следует квалифицировать как пример
самоуправление. Согласно этой интуиции, если кто-то отрекается,
или каким-либо иным образом отмежеваться от каузальной действенности
ее собственные мотивы, то сила этих мотивов не зависит от ее
орган власти.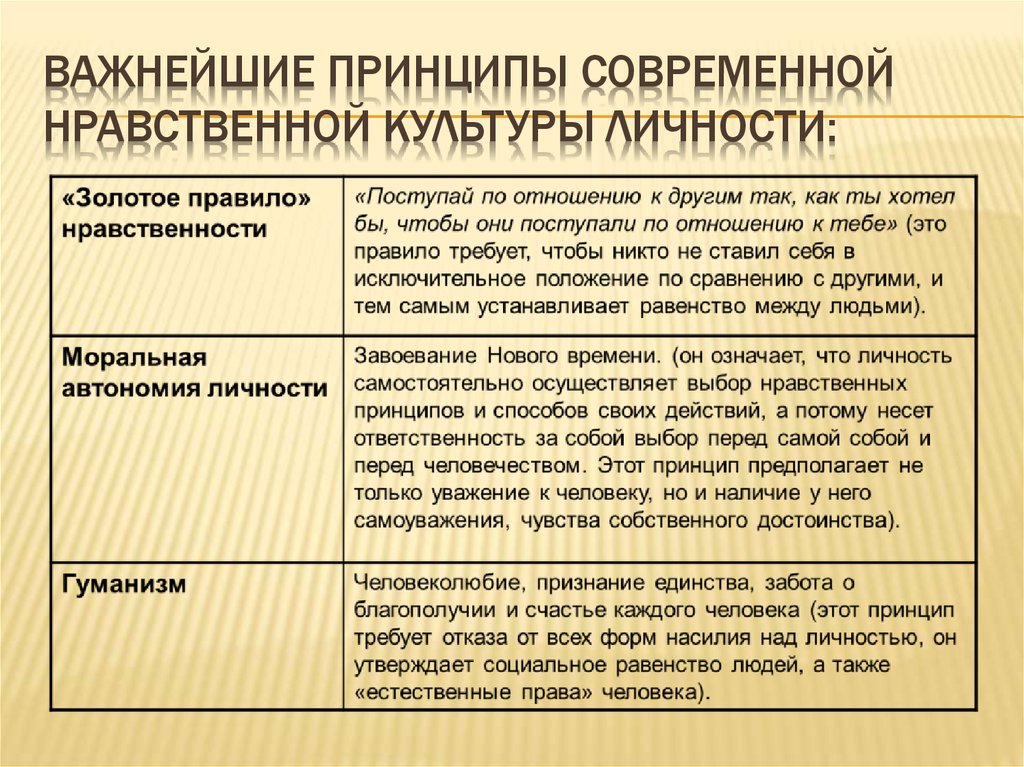 Если, с другой стороны, она поддерживает эти мотивы,
явно или неявно, то ее действия происходят с ее разрешения,
если не обязательно по ее команде. В каких условиях человек
считать одобрением или опровержением ее мотивов? Каждый аккаунт предлагает
другой ответ на этот вопрос.
Если, с другой стороны, она поддерживает эти мотивы,
явно или неявно, то ее действия происходят с ее разрешения,
если не обязательно по ее команде. В каких условиях человек
считать одобрением или опровержением ее мотивов? Каждый аккаунт предлагает
другой ответ на этот вопрос.
Мало того, что существует тесная концептуальная связь между
самоуправляющееся агентство и синхронное психическое единство; там
также представляется связь между самоуправляющимся агентством и диахроническое единство своего более позднего «я» с более ранним
себя. Это центральное соединение с учетными записями, которые идентифицируют
самоуправляемые агенты с агентами, ограниченными планами или
хорошо интегрированные эмоции или черты характера. Агенты сохраняются
сквозь время; и поэтому, подчеркивают эти отчеты, точка зрения агента
это не просто функция какого-либо психического состояния (состояний), в котором она находится.
в какой-то момент времени. Потому что планы агента играют решающую роль
в обеспечении того, чтобы она была чем-то большим, чем просто набор или последовательность
психические состояния, разумно предположить, что ее мотивы
ее поддержка зависит от того, скованы ли они этими планами. Так же разумно думать, что ее отношение к своим мотивам
определяется ее долгосрочными ценностями и/или ее относительно стабильным
обязательства и заботы.
Так же разумно думать, что ее отношение к своим мотивам
определяется ее долгосрочными ценностями и/или ее относительно стабильным
обязательства и заботы.
Согласно строго когерентистской концепции автономии, автономные агенты могут
движимы желаниями, которым они бессильны сопротивляться: хотя наркоману не удается
управлять собой, если она предпочитает сопротивляться своему непреодолимому желанию
принимать наркотики, она является автономным агентом, если не возражает против нее.
Наркомания и ее мотивационные эффекты. По мнению когерентиста,
причем как происхождение, так и содержание высших
отношения (оценочные суждения, планы) не имеют отношения к тому,
является автономным агентом. Ей ничего не нужно было делать, чтобы это произошло
что у нее такие установки; и отношения не должны быть особенно
рациональным или хорошо информированным. Таким образом, когерентистские объяснения вдвойне интерналист . Они выражают интуицию о том, что независимо от того, управляем ли мы
сами не зависят ни от того, как мы стали такими, какие мы есть (факт,
предшествует (и в этом смысле вне) самого действия), ни как
наши убеждения и установки связаны с реальностью (факт, который не зависит от
убеждений и установок (и в этом смысле внешних по отношению к ним).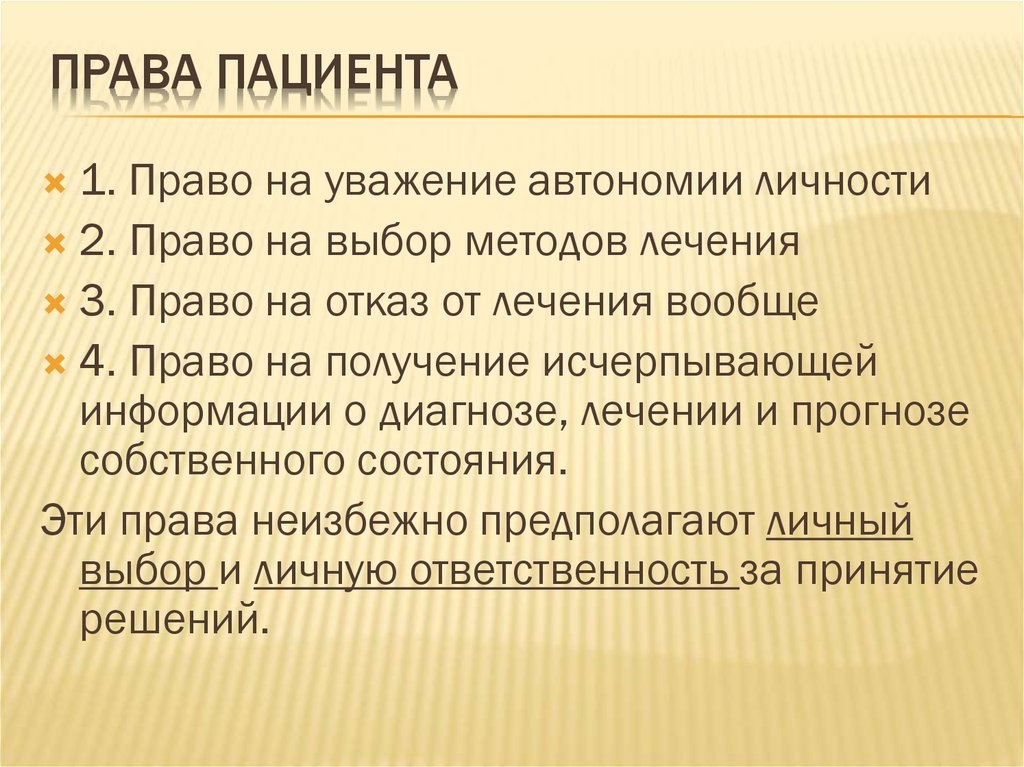 сами себя). Другими словами, на этих счетах не должно быть особых
отношения между нашими установками, конституирующими автономию, и
прошлые обстоятельства, вызвавшие такое отношение, или настоящее
обстоятельства, в ответ на которые они побуждают нас действовать.
сами себя). Другими словами, на этих счетах не должно быть особых
отношения между нашими установками, конституирующими автономию, и
прошлые обстоятельства, вызвавшие такое отношение, или настоящее
обстоятельства, в ответ на которые они побуждают нас действовать.
Другие объяснения автономии вводят условия, которые экстерналист одним или обоими из этих способов. Согласно тем
которые защищают реагирующую на причины концепцию автономного агентства,
агент на самом деле не управляет собой, если только его мотивы или умственное
процессы, их производящие, реагируют на достаточно широкий
целый ряд причин за и против того, чтобы вести себя так, как она
делает. (Фишер и Равизза, Нелькин,
Волк) [4] На счетах
агент этого типа, который не реагирует на причины
«стоять позади» или «поддерживать», определенные
мотивы, а не другие, не в том положении, чтобы уполномочить ее
собственные действия. Основаны ли соответствующие причины на фактах о
ее собственные желания и интересы, или же у них есть какие-то независимые
источник, идея состоит в том, что кто-то не имеет права управлять собой, если
она не может понять, что у нее (на самом деле) есть причины делать, или (если это
явный недостаток) не может быть движим этими причинами.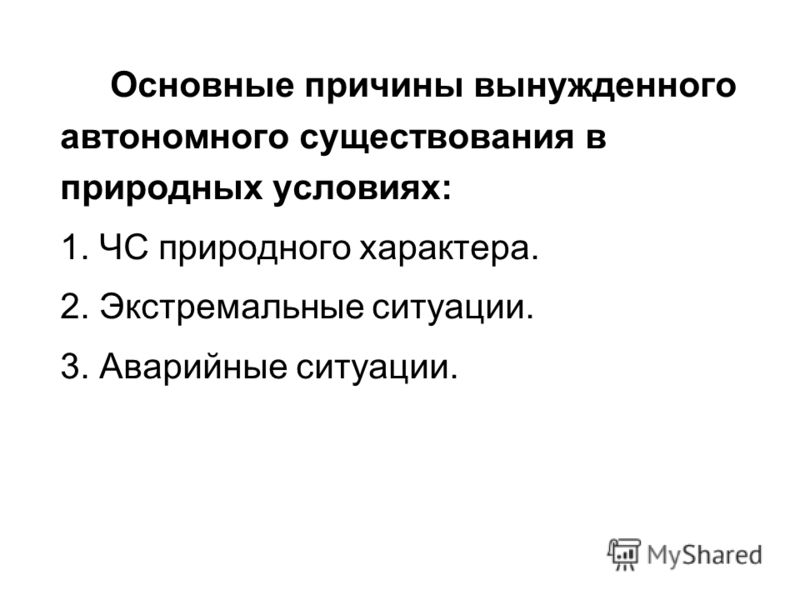 По сути, ее осуществление власти настолько непродуманно, что
не в силах придать легитимность ее мотивам.
По сути, ее осуществление власти настолько непродуманно, что
не в силах придать легитимность ее мотивам.
Особенность этих счетов, которая больше всего отличает их от
когерентистские счета — это важность, которую они придают деятельности агента.
способность оценить причины, которые у нее есть. (Как только она оценит эти
причинам, ее неспособность действовать соответственно является, по сути,
неспособность согласовать свои действия со своим собственным суждением и
соответствующее (высшего порядка) желание.) Какая именно связь
должно быть между отсутствием связи с (оценочным и/или
неоценочная) реальность и неумение управлять собой? Ясно, человек
кто не в состоянии оценить широкий спектр причин для действий, вряд ли
управлять собой хорошо : она, вероятно, сделает то, что,
в конечном счете, помешать ее собственным целям и интересам.
Таким образом, концепция автономии, основанная на реакции на причины, представляется
отражают интуицию, что когда мы делаем что-то очень плохо, мы не
реально сделать это вообще. Однако существует еще одна возможная причина
обоснование рассмотрения невежества как угрозы самоуправлению. Если
выполнение Y составляет выполнение Z , тогда, если я
позволю себе быть движимым желанием сделать Д потому что я
ошибочно полагают, что выполнение Y — это способ выполнения , а не Z , то есть очевидный смысл в котором я не
разрешил себе делать то, что я делаю сейчас, когда я движим
желание сделать Y . Итак, если у меня есть общее желание делать то, что
прав и предусмотрителен, или, еще шире, желание делать то, что я могу
оправдывать перед собой (и другими) или, еще шире, желание
реагировать на причины, то, поскольку я побуждаюсь действовать способами
которые на самом деле несовместимы с удовлетворением этих желаний, есть
в том смысле, в котором я, который стремится делать только то, что я
имеют (достаточно) веские причины для этого — не санкционировали мое
действие. В качестве альтернативы можно сказать, что в данных обстоятельствах
что-то внешнее по отношению к моей способности руководствоваться причинами
помешало мне воспользоваться этой властью, а значит, помешало мне
управляющий
сам.
Однако существует еще одна возможная причина
обоснование рассмотрения невежества как угрозы самоуправлению. Если
выполнение Y составляет выполнение Z , тогда, если я
позволю себе быть движимым желанием сделать Д потому что я
ошибочно полагают, что выполнение Y — это способ выполнения , а не Z , то есть очевидный смысл в котором я не
разрешил себе делать то, что я делаю сейчас, когда я движим
желание сделать Y . Итак, если у меня есть общее желание делать то, что
прав и предусмотрителен, или, еще шире, желание делать то, что я могу
оправдывать перед собой (и другими) или, еще шире, желание
реагировать на причины, то, поскольку я побуждаюсь действовать способами
которые на самом деле несовместимы с удовлетворением этих желаний, есть
в том смысле, в котором я, который стремится делать только то, что я
имеют (достаточно) веские причины для этого — не санкционировали мое
действие. В качестве альтернативы можно сказать, что в данных обстоятельствах
что-то внешнее по отношению к моей способности руководствоваться причинами
помешало мне воспользоваться этой властью, а значит, помешало мне
управляющий
сам. [5]
[5]
Дополнительный источник поддержки по причинам реагирования
Концепция автономии исходит из мысли, что тот, кто не может
реагировать на причины должны иметь ограниченную способность рассуждать.
Это подводит нас к третьему популярному подходу к автономным
агентство — подход, который подчеркивает важность процесса рассуждения
себя (Christman 1991, 1993 и Mele 1993,
1995). [6] Согласно с отзывчивость-рассуждения счетов, суть
самоуправление – это способность оценивать свои мотивы на основе
того, во что человек верит и чего желает, и приспособить эти мотивы
в ответ на свои оценки. Это способность различать то, что
«вытекает» из убеждений и желаний, и действовать
соответственно. Можно использовать эту способность, несмотря на ложные
убеждения всех видов о том, что у человека есть причина делать. Соответственно, на
эти учетные записи, быть автономным — это не то же самое, что быть управляемым
правильными оценочными и нормативными суждениями.
Акцент на способности автономного агента реагировать на собственные рассуждения отражают интуицию, что тот, чье образование состояло метода идеологической обработки, лишившего ее возможности звонить ее собственное отношение к вопросу будет, по сути, регулироваться ее «программисты», а не сама. Так же и тот, чей практическое рассуждение напрямую манипулировалось другими, не будет управлять себя с помощью этого рассуждения. И поэтому, кажется, у нее не было бы власть над мотивами, порожденными этим рассуждением.
Подобно когерентистам, сторонники реакции на рассуждения
отчеты считают, что ключом к автономному агентству является способность
дистанцироваться от своих взглядов и убеждений — занять
точка зрения, которая не конституируется какими бы то ни было психическими состояниями, движущимися
один действовать. Они согласны с тем, что мотивы, санкционированные этим рефлексивным
точки зрения являются внутренними для самого агента таким образом, что его другие
мотивы — нет.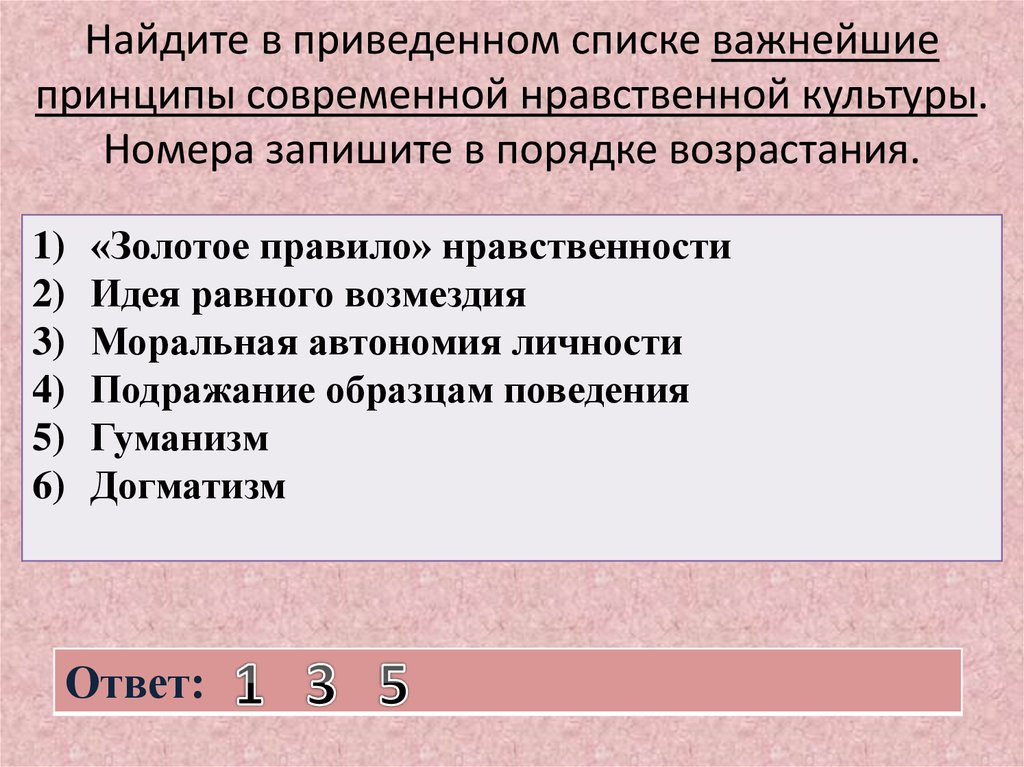 Однако, в отличие от когерентистов,
теоретики, реагирующие на рассуждения, считают, что есть нечто большее, чем
способность к саморефлексии, чем способность удерживать более высокий порядок
отношения. Авторитет наших установок более высокого порядка основан,
они утверждают, исходя из практического рассуждения, которое поддерживает
эти отношения. Таким образом, самоуправляемый агент не просто поддерживает ее
мотивы: ее одобрения — это имплицитные заявления о том, какие мотивы
поддержку ее разума.
Однако, в отличие от когерентистов,
теоретики, реагирующие на рассуждения, считают, что есть нечто большее, чем
способность к саморефлексии, чем способность удерживать более высокий порядок
отношения. Авторитет наших установок более высокого порядка основан,
они утверждают, исходя из практического рассуждения, которое поддерживает
эти отношения. Таким образом, самоуправляемый агент не просто поддерживает ее
мотивы: ее одобрения — это имплицитные заявления о том, какие мотивы
поддержку ее разума.
Этот факт тесно связан с другим. Как и многие аккаунты, которые подчеркивают
отзывчивость автономного агента на причины, отзывчивость-
отчеты о рассуждениях часто предполагают, что самоуправление требует
способность к самопреобразованию. Исходя из этого предположения, автономный
агент — это тот, кто может передумать, когда обнаружит вескую причину
сделать
так. [7] Напротив, строгие когерентисты настаивают на том, что
можно действовать автономно, движимые желаниями, которые
не только непреодолимы, когда они производят свои эффекты, но так
неотъемлемая часть чьей-либо идентичности, которой невозможно сопротивляться
их. [8]
[8]
Концепция автономной деятельности как реакции на рассуждения
явно имеет более интерналистский характер, чем концепция
автономное агентство как отзывчивость на причины: по мнению тех, кто
подчеркнуть способность автономного агента оценивать свои собственные мотивы, что
имеет значение не отношение между установками агента и внешним
реальность, но ее способность делать выводы из того, что она хочет и
верит и, тем самым, переосмыслить — рационально отразить
на других ее желаниях и убеждениях. Однако в той мере, в какой
подход, основанный на реакции на рассуждения, предполагает определенную концепцию
практических рассуждений, оно апеллирует к стандартам или принципам,
сам агент может неправильно применить или вообще не распознать.
Более того, даже если сторонники автономии как реакции на рассуждения
ничего особенного не имеют в виду, когда говорят о процессе
«рефлексия», «рациональная оценка» и т. д.,
Рассуждение — это процесс, управляемый нормами, который агент может отвергнуть из-за
причины ее собственные.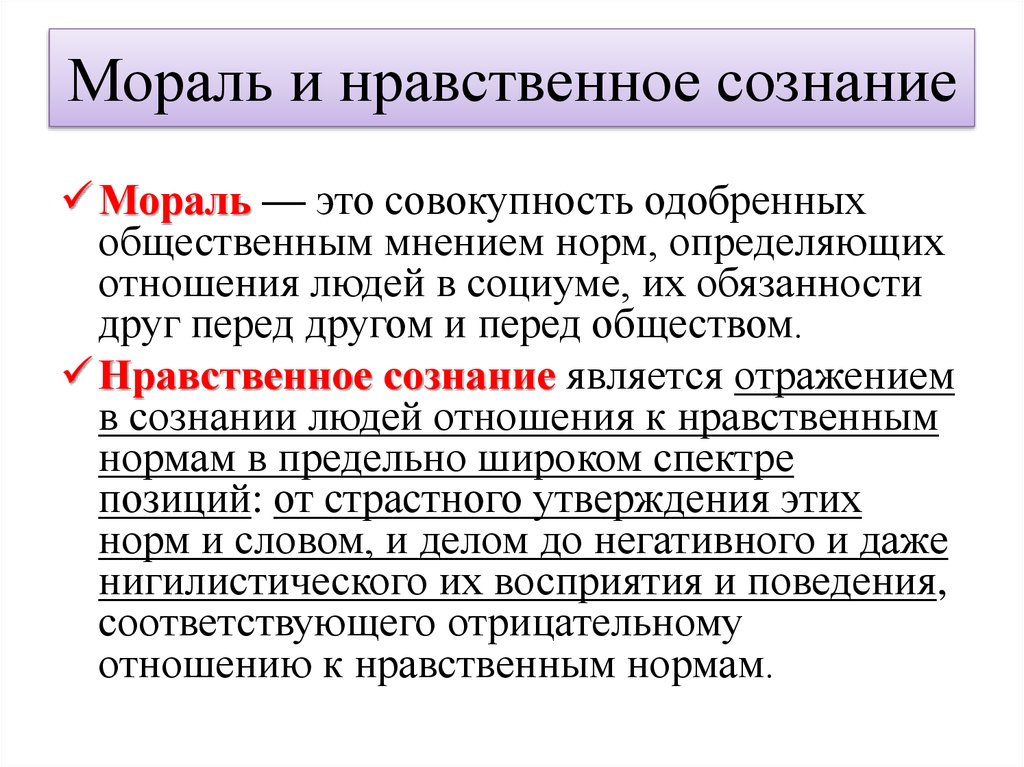 Реагирование на рассуждения, таким образом, содержит
экстерналистский элемент, который отсутствует в строгих когерентистских подходах.
Они подразумевают, что агент может ошибаться относительно того, действительно ли он
рассуждений — и так можно ошибиться относительно того, сила ли ее
мотивы отражает тот факт, что она имеет право определять ее
собственные действия.
Реагирование на рассуждения, таким образом, содержит
экстерналистский элемент, который отсутствует в строгих когерентистских подходах.
Они подразумевают, что агент может ошибаться относительно того, действительно ли он
рассуждений — и так можно ошибиться относительно того, сила ли ее
мотивы отражает тот факт, что она имеет право определять ее
собственные действия.
Этот слабый экстернализм естественным образом расширяется до более устойчивых разновидностей.
В частности, он поддерживает идею о том, что рассуждения агента
на самом деле ее способ управления своими действиями зависит от того,
силы оказывают нерациональное влияние на это рассуждение. Даже когда
идеологическая обработка и другие более или менее воображаемые формы «умственного
контроль» не мешают человеку достичь оценочного
выводы о ее собственных мотивах, они могут помешать ей думать
для нее. Так же, кажется, кто-то во власти принуждения или
наркомания может настолько доминировать над этим состоянием, что какие бы факты она ни
считает, и какие бы выводы она ни делала, не может быть правомерно
приписывается ей.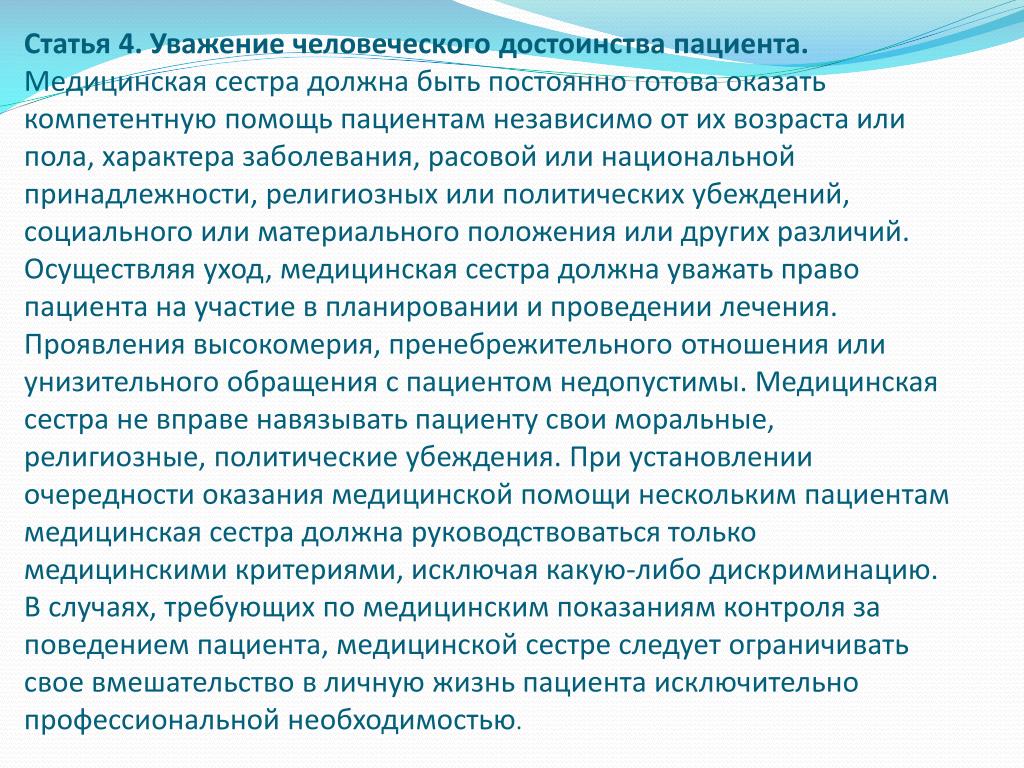 Один из способов интерпретации этих случаев состоит в том, чтобы сказать, что
рассуждения человека далеко не соответствуют нормам «рационального
отражение», что на самом деле она вовсе не рассуждает.
В качестве альтернативы можно сказать, что ее рассуждения не гарантируют ей
автономии, потому что она находится под контролем внешних сил.
Один из способов интерпретации этих случаев состоит в том, чтобы сказать, что
рассуждения человека далеко не соответствуют нормам «рационального
отражение», что на самом деле она вовсе не рассуждает.
В качестве альтернативы можно сказать, что ее рассуждения не гарантируют ей
автономии, потому что она находится под контролем внешних сил.
Поскольку объяснения автономии просто предусматривают, что определенные
влияет на процесс формирования намерения агента «мешать
с» или «извратить», этот процесс, эти аккаунты
являются неполными. Ибо они оставляют загадкой, почему определенные влияния,
а не другие, представляют угрозу для самоуправления. Один ответ на это
вызов предлагается по причинам, отвечающим счетам: в соответствии с этим
ответ, подрывающие автономию влияния — это те, которые
препятствовать тому, чтобы процесс рассуждения был достаточно чувствителен к
причины там
находятся. [9] Другой – совместимый – ответ апеллирует к
«относительные» аспекты автономии: другие агенты могут предотвратить
чье-либо рассуждение от квалификации в качестве способа самоуправления путем
препятствуя тому, чтобы рассуждающий развивал самоуважение и/или
уверенность в себе, необходимая для формирования истинно ее точки зрения
собственные (Бенсон 1994, 2000, Маккензи и Столяр, Андерсон и
Хоннет) [10] .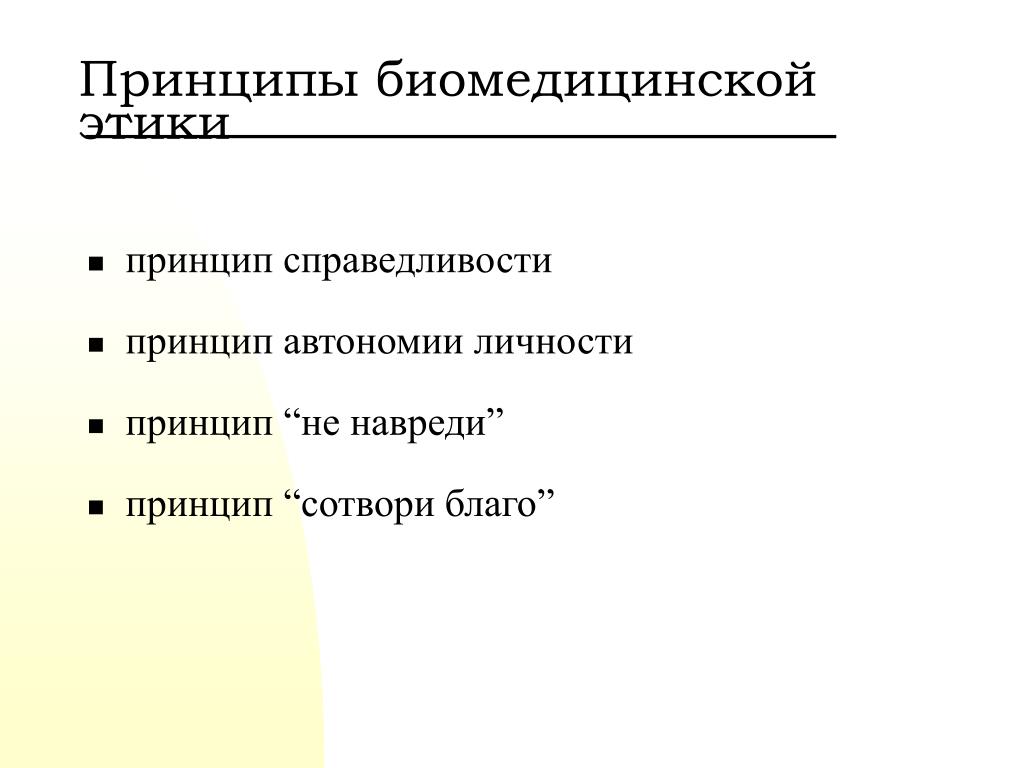 Если точка зрения агента не отражает его уважения к
собой и за ее способность ставить собственные цели и оценивать причины
имеет отношение к преследованию одних целей, а не других, то направление ее
рассуждения не могут быть отнесены к ней. (Хотя относительно
отчеты об автономии подчеркивают степень, в которой способность агента
управлять собой зависит от ее взаимодействия с другими агентами, это
Важно отметить, что самоуважение и уверенность в себе также могут
подорваны переживаниями или психологическими условиями, которые не
включают действия кого-либо еще.)
Если точка зрения агента не отражает его уважения к
собой и за ее способность ставить собственные цели и оценивать причины
имеет отношение к преследованию одних целей, а не других, то направление ее
рассуждения не могут быть отнесены к ней. (Хотя относительно
отчеты об автономии подчеркивают степень, в которой способность агента
управлять собой зависит от ее взаимодействия с другими агентами, это
Важно отметить, что самоуважение и уверенность в себе также могут
подорваны переживаниями или психологическими условиями, которые не
включают действия кого-либо еще.)
Четвертая концепция личной автономии предлагает совершенно иной подход.
ответ на вызов различения (i) определяющих причин
которые мешают агенту управлять собой, когда он нанимает
причина из (ii) причин, которые определяют, как агент управляет
сама, когда рассуждает. Согласно этому инкомпатибилист концепции каждое из этих влияний подрывает автономию агента;
случаи контроля над разумом просто обращают наше внимание на тот факт, что
всякий раз, когда наши мотивы причинно детерминированы событиями, над которыми мы
не имеют никакого контроля, их сила не отражает нашу
орган власти.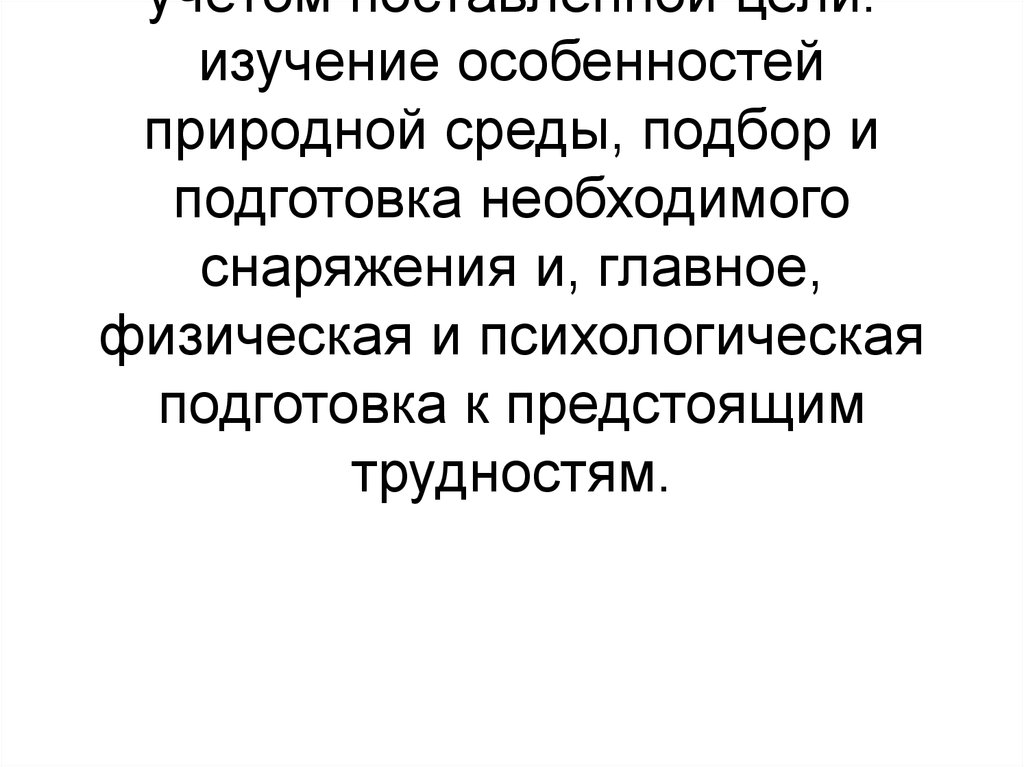 (Перебум) По мнению инкомпатибилистов, если наши действия
может быть полностью объяснено как действие причинных сил, которые
независимо от нас, то даже если наши убеждения и взгляды входят в число
эти эффекты, мы не управляем ими, и поэтому мы не управляем
себя. (Кейн 1996 и ван Инваген
1983) [11]
(Перебум) По мнению инкомпатибилистов, если наши действия
может быть полностью объяснено как действие причинных сил, которые
независимо от нас, то даже если наши убеждения и взгляды входят в число
эти эффекты, мы не управляем ими, и поэтому мы не управляем
себя. (Кейн 1996 и ван Инваген
1983) [11]
Инкомпатибилистские представления об автономии принимают множество тонко отличающихся друг от друга формы. То же самое можно сказать и о трех других (компатибилистских) версиях, упомянутых здесь. Некоторые различия отражают разногласия по поводу того, в какой степени соответствующие условия — согласованность между высшими и установки низшего порядка, отзывчивость на причины, отзывчивость на рассуждения, свободы от детерминации внешними причинами — должны на самом деле получить, когда агент определяет свою волю, или если она достаточно, чтобы при определенных определенных обстоятельствах агент будет соотноситься с ее мотивами установленным образом. Существуют также расхождения во мнениях относительно сферы применения соответствующих способности: Должен ли автономный агент быть в состоянии реагировать на широкий спектр доводов за и против ее действий? или этого достаточно ее мотивы отзывчивы к «самым сильным», «самым убедительные причины? и могут ли эти причины включать своего рода достоверные угрозы, фигурирующие в случаях принуждения? Какой диапазон отношение должен автономный агент быть в состоянии вызвать в вопрос? Насколько хорошо она должна быть способна рассуждать? Это имеет значение руководствуется ли она определенными принципами рациональности? Должно ли это быть возможность делать разные выводы на основании причины она считает? Важно ли, чтобы она могла рассмотреть вместо этого другой набор причин?
Существуют даже разногласия по поводу того, являются ли причины, по которым
самоуправляющиеся агенты реагируют, как многие полагают, практичны
размышления о том, что делать или что стоит делать.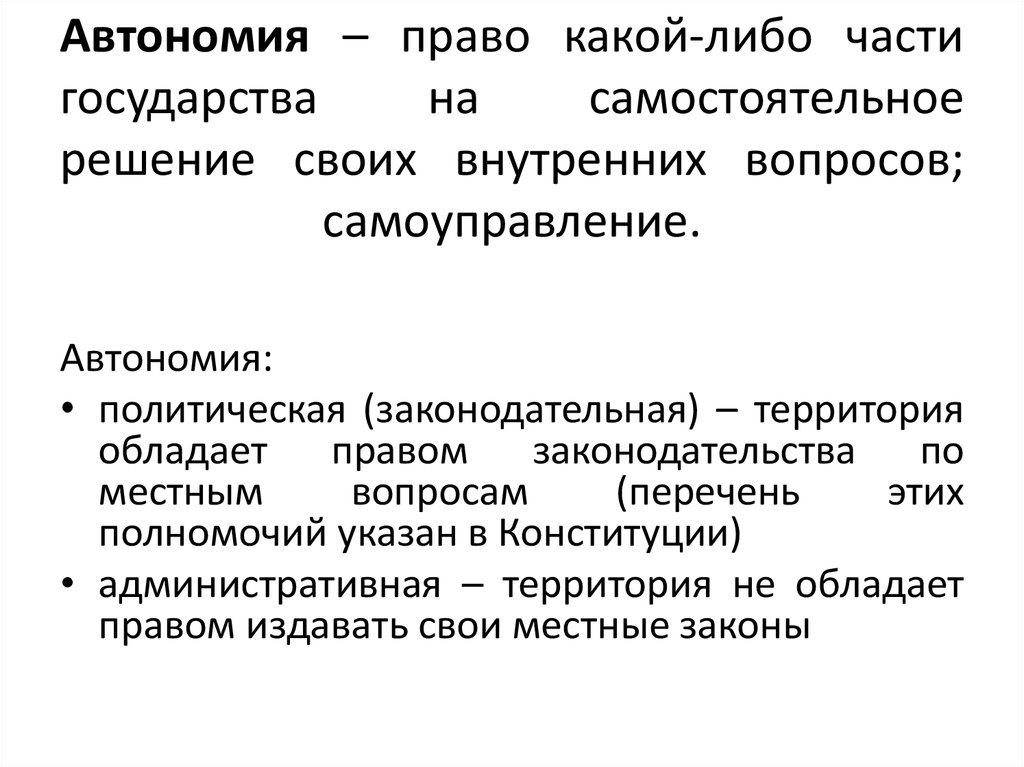 Оно имеет
предполагалось, что агенты управляют своими действиями, участвуя в
теоретические рассуждения до конца формирования убеждений о том, какие способы
поведение, которое они могли бы объяснить, учитывая их желания. (Веллеман) Это предложение
подчеркивает, в какой степени управление собой предполагает подчинение
психические требования, сила которых не зависит от авторитета человека. На этом
картине, агент осуществляет власть над тем, что он делает, только после того, как он
сталкивается с набором возможных действий, возможность которых отражает
их совместимость с причинной силой ее желаний: в предсказании
что она совершит одно из этих действий, она санкционирует это действие,
и тем самым укрепляет ее мотивы для совершения
Это. [12]
Оно имеет
предполагалось, что агенты управляют своими действиями, участвуя в
теоретические рассуждения до конца формирования убеждений о том, какие способы
поведение, которое они могли бы объяснить, учитывая их желания. (Веллеман) Это предложение
подчеркивает, в какой степени управление собой предполагает подчинение
психические требования, сила которых не зависит от авторитета человека. На этом
картине, агент осуществляет власть над тем, что он делает, только после того, как он
сталкивается с набором возможных действий, возможность которых отражает
их совместимость с причинной силой ее желаний: в предсказании
что она совершит одно из этих действий, она санкционирует это действие,
и тем самым укрепляет ее мотивы для совершения
Это. [12]
Такой способ интерпретации связи между автономным агентством и
отзывчивость на причины поднимает более серьезные вопросы о
отношения между нашими практическими импульсами и нашим разумом.
ответы на эти вопросы, а также на упомянутые выше могут быть
сочетаются самыми разными способами. Более того, каждый может не только
Таким образом, подход принимает самые разные формы, но подходы
сами могут (и часто так и делают) собираться вместе по мере необходимости или
достаточные условия в одном комплексном счете.
Более того, каждый может не только
Таким образом, подход принимает самые разные формы, но подходы
сами могут (и часто так и делают) собираться вместе по мере необходимости или
достаточные условия в одном комплексном счете.
3. Проблемы определения минимальных условий личной автономии
Все только что рассмотренные предложения способствуют нашему пониманию различных ролей, которые агенты могут играть в своих собственные действия. Они формулируют различные идеалы, которые агенты могут воплотить в жизнь. различной степени, когда они действуют. При этом они проливают свет на то, как при надлежащем воспитании очень маленький ребенок, чье почтение к авторитет ее собственных суждений немногим больше, чем форма самоуправление, может превратиться в образцового самоуправляющегося агента.
Это очень важный вклад. Тем не менее, не хватает
дать нам все, что у нас есть основания ожидать от отчета о
личная автономия. В частности, вызовы различным
подходы, обрисованные выше, предполагают, что они не разъясняют
минимальные условия, при которых лицо осуществляет власть над как она себя ведет отражает ее собственную способность определять как
она осуществляет это право .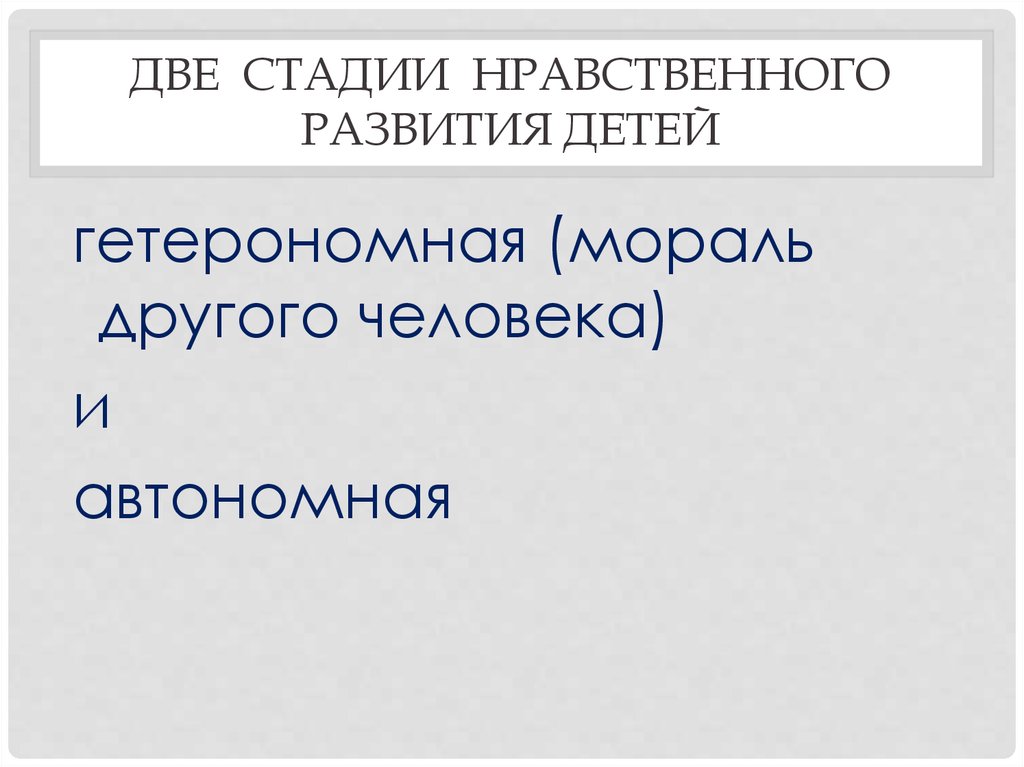 Минимальное самоуправление кажется
не требуется ни больше, ни меньше, как быть силой, стоящей за чем-либо
рассуждение непосредственно порождает поведение. И все же ни один из
отчеты, которые мы собрали здесь, кажется, отражают это важное, наиболее
основная, форма самоуправления. И, похоже, никакая комбинация
эти аккаунты.
Минимальное самоуправление кажется
не требуется ни больше, ни меньше, как быть силой, стоящей за чем-либо
рассуждение непосредственно порождает поведение. И все же ни один из
отчеты, которые мы собрали здесь, кажется, отражают это важное, наиболее
основная, форма самоуправления. И, похоже, никакая комбинация
эти аккаунты.
Беспокойство о том, что связность современных взглядов делает
недостаточно для того, чтобы даже минимальное самоуправление основывалось на
очевидная возможность того, что человеку промыли мозги или иным образом
вынуждает поддерживать данный мотив. Действительно, ее мозг мог быть
манипулируют таким образом, что каждое ее одобрение очень
реагировать на причины. Это побудило некоторых философов дополнить
когерентистские объяснения автономии с дополнительными условиями, которые ставят
ограничения на причинно-следственную историю одобрений агента,
ограничения, подобные тем, которые были выделены в
отчеты о реакции на рассуждения. Эти добавки сталкиваются с
серьезная проблема, однако: очень трудно объяснить
различие между автономией- присвоение рассуждений и
автономность- подрыв рассуждений без неявной апелляции к
сам феномен, который пытаются объяснить.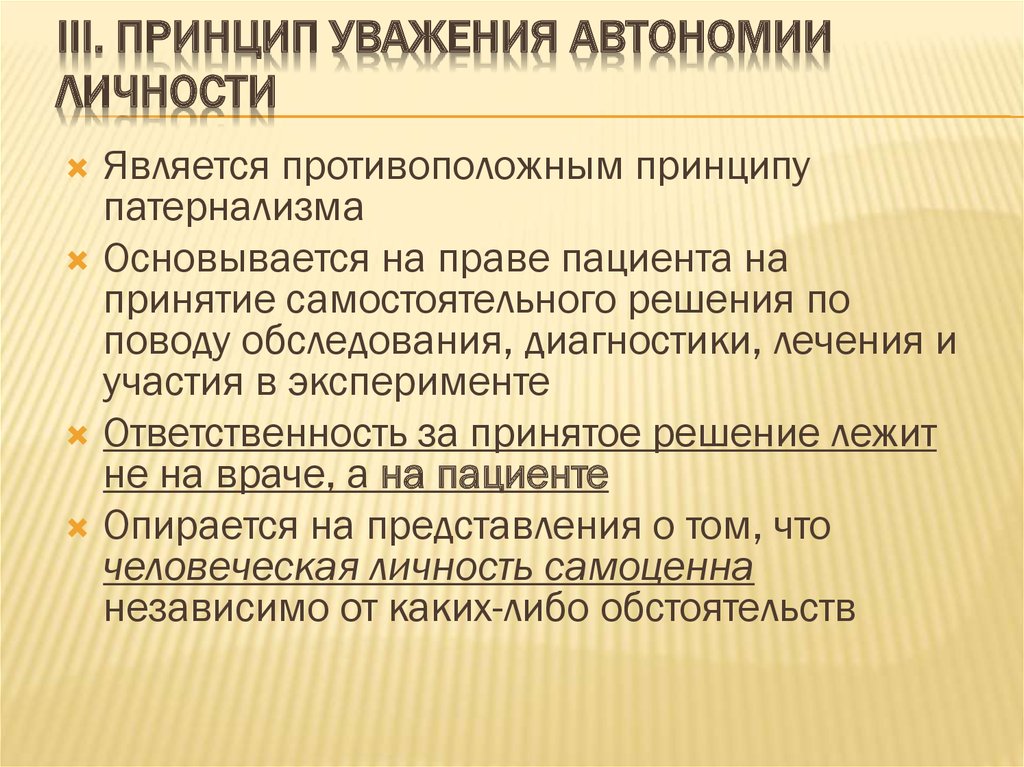
Даже если исторические подходы к автономии могут успешно преодолеть
эту трудность, они ничего не делают для решения того факта, что когерентность
даже не требуется для автономного агентства. Агенту не нужно жертвовать
ее автономии, чтобы решить действовать вопреки ее долгосрочным
обязательства и опасения; действовать «не по характеру» не
достаточное условие для неспособности управлять собой. Хотя
«безвольный» агент вряд ли можно назвать парадигмальным примером
кто-то, кто управляет собой, когда она действует, она тоже играет решающую роль
роль в относительной силе собственных мотивов; она разрешает ей
поведение, даже если она считает, что у нее есть веская причина действовать
в противном случае. Общеизвестно, что трудно понять смысл такого
осуществление
орган власти. [13] Однако для наших целей здесь
достаточно отметить, что если слабость воли есть подлинное явление,
тогда человеческие агенты обладают способностью управлять собой таким образом, чтобы
они сами считают себя неоправданными.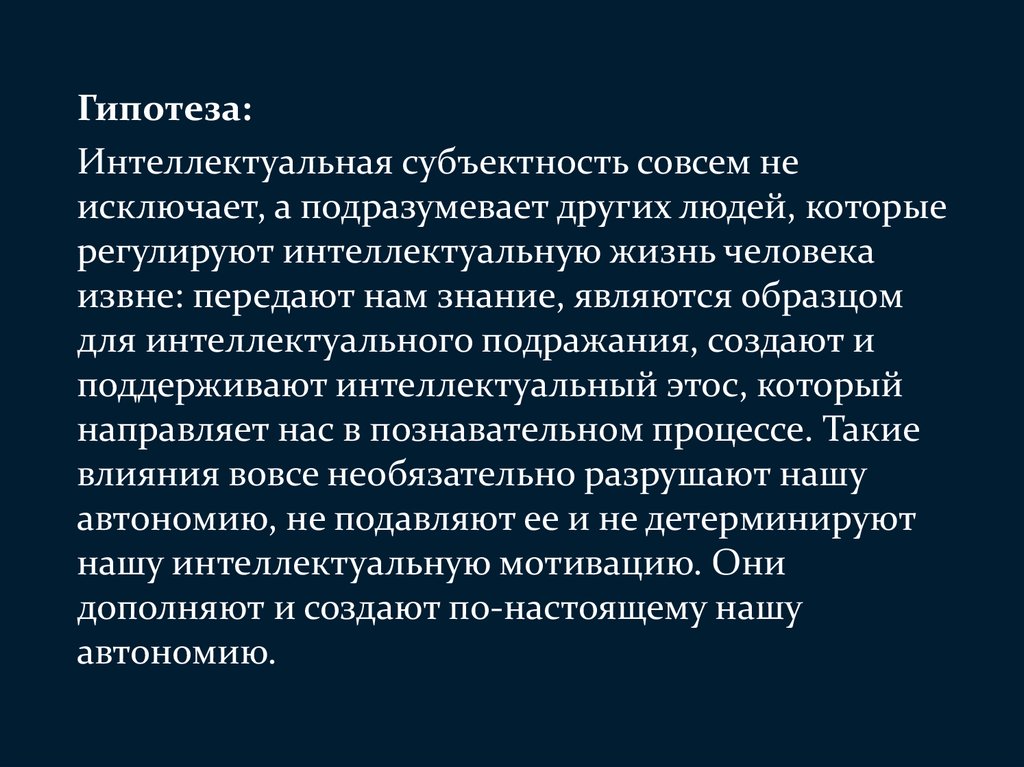 Они могут отстаивать авторитет
над собой, что бросает вызов авторитету собственного
причина.
Они могут отстаивать авторитет
над собой, что бросает вызов авторитету собственного
причина.
Конечно, тот, чье действие вызвано таким образом, не управлять собой как тщательно как человек, чья воля «сильный»; она действует по причине, которую сама считает неадекватный; и поэтому она не (адекватно) руководствуется нормами своего собственная мысль. Тем не менее даже в этих условиях желания, которые подтолкнуть ее к действию, сделать это по ее собственной инициативе. Чтобы использовать то, что, возможно, самая важная метафора в литературе о личной автономии, слабовольный агент «идентифицирует» ее мотивы в любых так, как она должна, чтобы нести ответственность за их последствия. Нет, это не так просто то, что она делает, является результатом более раннего автономного действие. Скорее, ее ответственность основана на ее современности. отношение к тому, что она делает.
Возможность слабости воли указывает на более общий факт
что утверждение агентом своих собственных мотивов не обязательно
форма суждения о том, что не лучше было бы поступить иначе.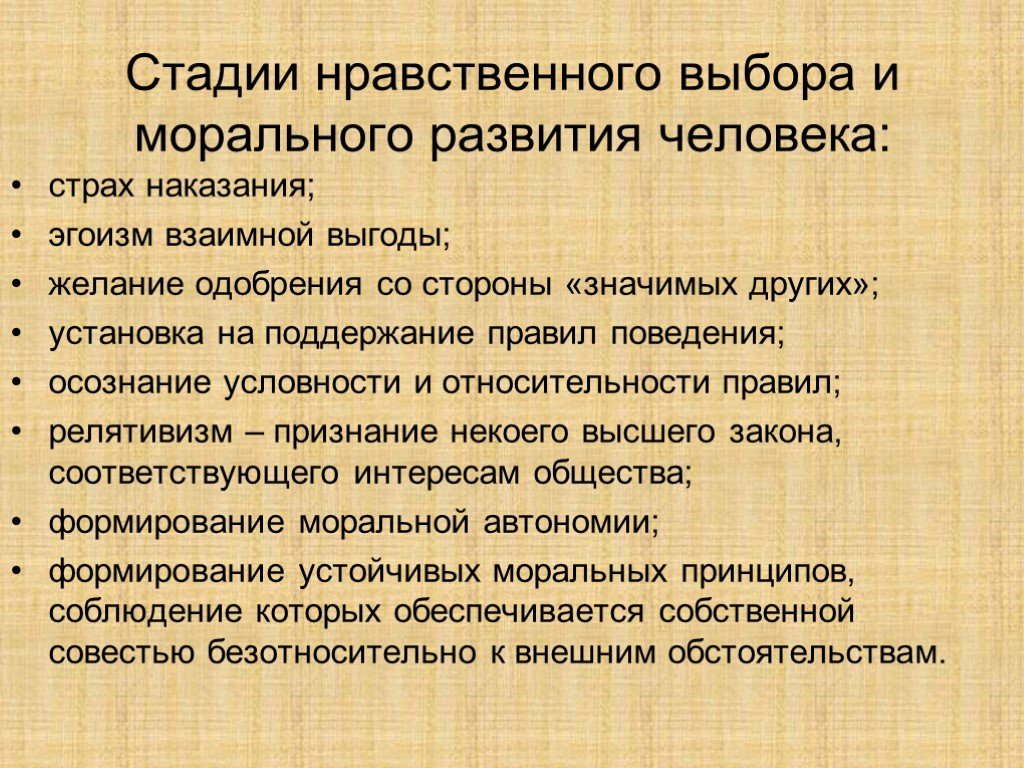 Различные формы извращенности прекрасно совместимы с автономными
агентство. Некоторые философы считают, что это возможно и для агентов.
бросать вызов своим современным нормативным вердиктам, не бросая вызов
что-то очень глубокое о себе. Женщина, например, может
прийти к выводу, что даже если у нее есть веская причина отказаться от нее
ребенка на усыновление, она не может узнать себя в этом действии, и
поэтому не может идентифицировать себя с желанием выполнять
Это. [14] Разумные люди наверняка не согласятся с тем, как лучше интерпретировать любое
конкретный пример. Но человеческий опыт, похоже, подтверждает
общий вывод: человеческая способность к саморефлексии позволяет человеку
агентов мысленно дистанцироваться от всех аспектов своей
собственные души — даже их рациональные отражения. Учитывая это
возможности, отождествление человека со своими мотивами не может быть
обналичиваются с точки зрения отношения одобрения и
неодобрение или с точки зрения рациональных размышлений, которые обычно
обосновать эти установки.
Различные формы извращенности прекрасно совместимы с автономными
агентство. Некоторые философы считают, что это возможно и для агентов.
бросать вызов своим современным нормативным вердиктам, не бросая вызов
что-то очень глубокое о себе. Женщина, например, может
прийти к выводу, что даже если у нее есть веская причина отказаться от нее
ребенка на усыновление, она не может узнать себя в этом действии, и
поэтому не может идентифицировать себя с желанием выполнять
Это. [14] Разумные люди наверняка не согласятся с тем, как лучше интерпретировать любое
конкретный пример. Но человеческий опыт, похоже, подтверждает
общий вывод: человеческая способность к саморефлексии позволяет человеку
агентов мысленно дистанцироваться от всех аспектов своей
собственные души — даже их рациональные отражения. Учитывая это
возможности, отождествление человека со своими мотивами не может быть
обналичиваются с точки зрения отношения одобрения и
неодобрение или с точки зрения рациональных размышлений, которые обычно
обосновать эти установки.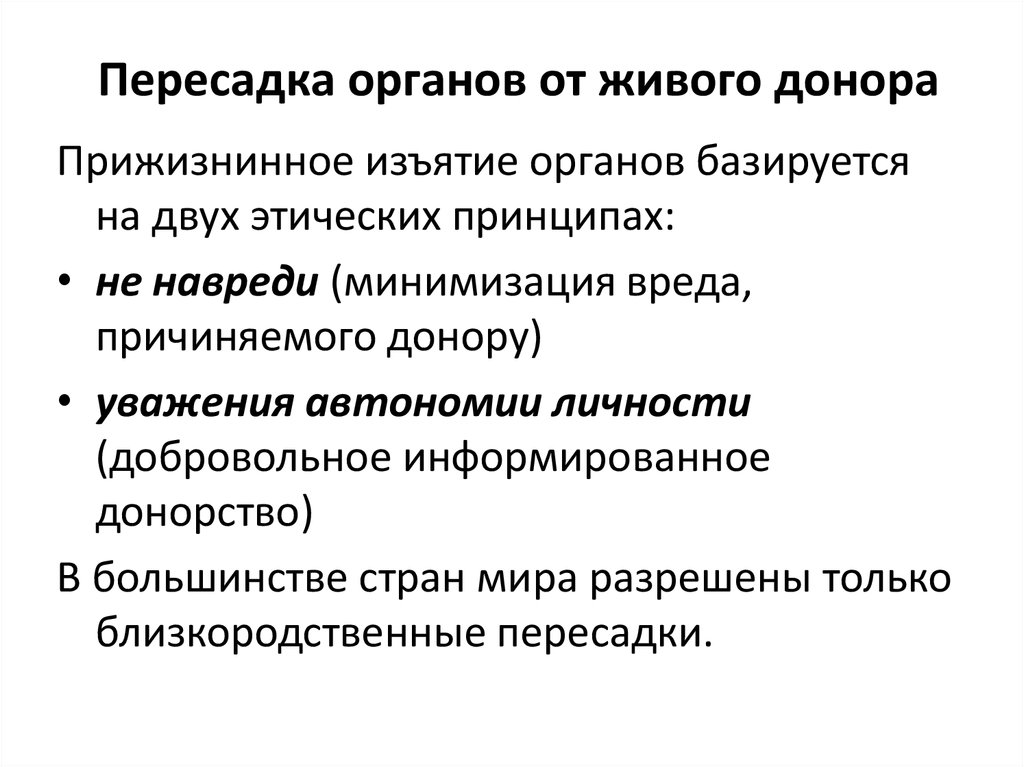
Аналогичные опасения вызывает обращение к планам. Хотя планы часто позволяют человеку осуществлять некоторый контроль над своей жизнью в целом человек может управлять собой в конкретное время даже тогда, когда бросая вызов ее прежним попыткам наложить ограничения на то, как она будет управлять собой в это время. Она может взять на себя обязательство отказаться свои планы или изменить их так, как она не ожидала, когда впервые их сделал. Она может даже отвергнуть совет долгосрочного ценности, которые обеспечивают основное обоснование этих планов.
Размышления в этом направлении привели некоторых к заключению, что мы
неизбежно будет приходить с пустыми руками, пока мы думаем об агенте
отождествление со своими мотивами как отношение к себе, за которое она несет ответственность
для обеспечения. Поскольку, пока мы придерживаемся этого подхода, мы кажемся
застрял на вопросе: при каких условиях агент управляет
ее отождествление с каким-то мотивом? каким условиям она должна удовлетворять
для того, чтобы идентифицировать себя с мотивами, которые побуждают ее идентифицировать себя с
некоторые из ее мотивов, а не другие? при каких условиях она
санкционировать установки и/или умственную деятельность, возникающие в данном
авторизация более низкого порядка? Если мы хотим избежать регресса, такого
вопросы вызывают, кажется, что должно быть отношение, которое может быть
отождествляется с точкой зрения агента просто в силу того, что является
отношение это; должна быть установка, из которой ни один агент не может
возможно быть отчужденным.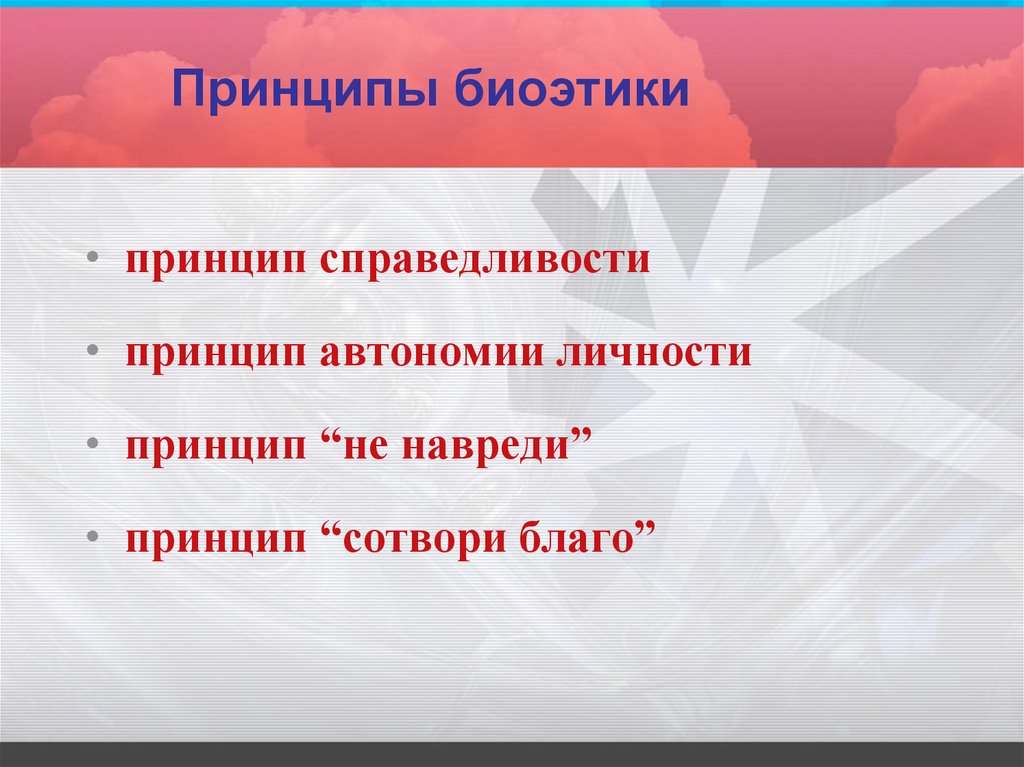 Разумеется, если, как и у большинства животных,
агенты не могли дистанцироваться от собственных мотивов,
тогда они были бы неспособны управлять собой. Самоуправление
требует двух точек зрения: точки зрения управляющей власти и точки зрения
управляемых. Тем не менее, если должен быть положен конец потенциальному
регресс идентификаций, кажется, должен быть предел и
способность к самоотчуждению.
Разумеется, если, как и у большинства животных,
агенты не могли дистанцироваться от собственных мотивов,
тогда они были бы неспособны управлять собой. Самоуправление
требует двух точек зрения: точки зрения управляющей власти и точки зрения
управляемых. Тем не менее, если должен быть положен конец потенциальному
регресс идентификаций, кажется, должен быть предел и
способность к самоотчуждению.
Как мы видели, такое ограничение, по-видимому, не применяется там, где умственное
на карту поставлено желание агента высшего порядка, оценочное
суждение, или план, или даже интегрированная комбинация таких
отношения. Единственное отношение, из которого кажется, что ни один агент не может быть
отчужденным является желание иметь достаточную власть, чтобы определять свою
собственные мотивы – стремление к самоуправлению
агент. [15] Но даже если мы оставим в стороне
вопрос о том, действительно ли это желание может быть приписано каждому
потенциально самоуправляемый агент, он не кажется адекватным
основу для выделения мотивов, силу которых можно отнести к
самого агента из мотивов, не являющихся в этом смысле внутренними.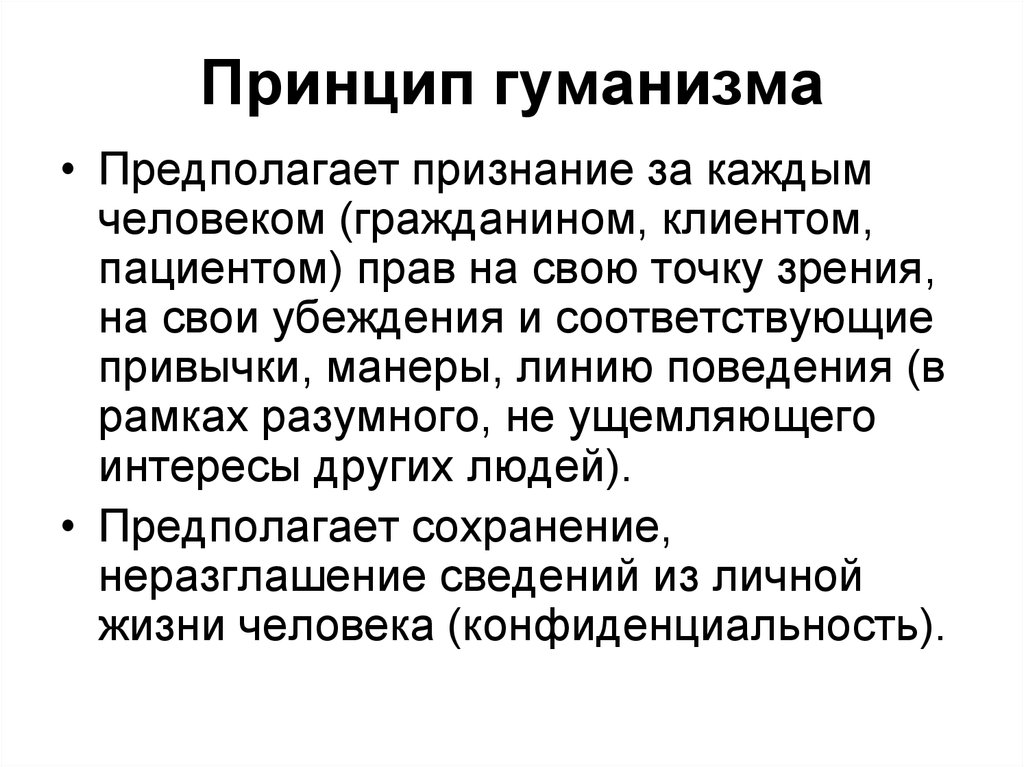 Ибо если
желание лежит каждые действий, выполняемых потенциально
самоуправляющийся агент, то он играет каузальную роль, даже когда агент
не может управлять своими мотивами минимальным образом, необходимым, чтобы быть
ответственный за них. Таким образом, это не может быть ключом к любому объяснению того, что
особенное отношение к самоуправлению
агентство [16] .
Ибо если
желание лежит каждые действий, выполняемых потенциально
самоуправляющийся агент, то он играет каузальную роль, даже когда агент
не может управлять своими мотивами минимальным образом, необходимым, чтобы быть
ответственный за них. Таким образом, это не может быть ключом к любому объяснению того, что
особенное отношение к самоуправлению
агентство [16] .
Возможно, нет такого отношения, на которое мы могли бы указать, чтобы
различать случаи, когда сила мотивов агента может
быть непосредственно отнесены к ее и дела, в которых ее полномочия
над ее мотивами является простой формальностью. Если это так, то это может показаться
причина отдать предпочтение учетным записям, которые связывают автономное агентство с агентом
отзывчивость на причины. К сожалению, однако, эти учетные записи
проблемы свои. Главное, кажется, что человек
может управлять собой, даже если она не понимает значения
Что она делает. Безусловно, если чье-то невежество совершенно
разумным, то она может и не быть виноватой, если сделает что-то не так. Но при таких обстоятельствах ее освобождает от вины тот факт, что
что у нее есть веская причина быть в неведении. Похоже, нет оснований
за предположение, что, в дополнение к отсутствию определенной соответствующей информации,
на самом деле она не является той (плохо информированной) силой, которая стоит за ее разрешением
ее действие.
Но при таких обстоятельствах ее освобождает от вины тот факт, что
что у нее есть веская причина быть в неведении. Похоже, нет оснований
за предположение, что, в дополнение к отсутствию определенной соответствующей информации,
на самом деле она не является той (плохо информированной) силой, которая стоит за ее разрешением
ее действие.
Убивая Дездемону, Отелло не достигает своей цели.
на что у него есть веские причины. Но это не мешает ему
быть автором своих действий. Он также не обязательно имел бы
был лишен возможности управлять собой, если, учитывая его характер и
обстоятельств, он был неспособен «отследить»
оценочные и неоценочные факты: он все равно был бы
ответственность за то, что он сделал, если его причина для этого была в том, что
он был слишком ревнив, или слишком упрям, или слишком тщеславен, или слишком вспыльчив
быть способным реагировать на широкий спектр причин против
полагая, что жена ему неверна, — и широкий
целый ряд причин против ее убийства, даже если она
неверный.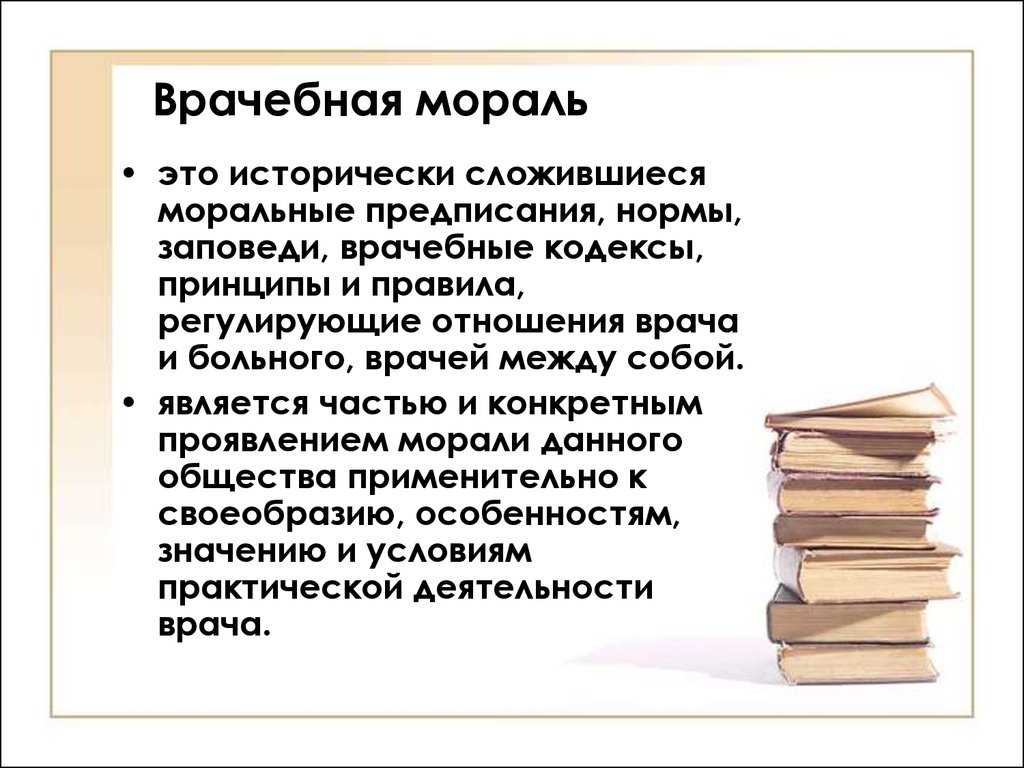 [17] Внимательнее, чтобы
настаивать на том, чтобы он , а не нёс ответственность по этим
обстоятельств, мы должны отказаться от предположения, что автономное агентство
возможно, даже если все действия в принципе могут быть объяснены в терминах
детерминистских законов природы. Другими словами, мы должны принять
инкомпатибилистский тезис о том, что если характер человека является продуктом
силы, над которыми он никогда не имел никакого контроля, и если черты его характера
определить его выбор, то даже если его мотивы реагируют на
причины , он не несет ответственности за их побудительную силу.
[17] Внимательнее, чтобы
настаивать на том, чтобы он , а не нёс ответственность по этим
обстоятельств, мы должны отказаться от предположения, что автономное агентство
возможно, даже если все действия в принципе могут быть объяснены в терминах
детерминистских законов природы. Другими словами, мы должны принять
инкомпатибилистский тезис о том, что если характер человека является продуктом
силы, над которыми он никогда не имел никакого контроля, и если черты его характера
определить его выбор, то даже если его мотивы реагируют на
причины , он не несет ответственности за их побудительную силу.
Предыдущие размышления обращают внимание на то, как трудно
отличать условия идеального самоуправления от
условия, при которых человек достаточно самоуправляем, чтобы быть
ответственность за мотивирующую силу своих желаний. Сложность
проявляется в том, что как только мы пытаемся уловить
минимальные, пороговые условия автономного агентства , нам кажется
столкнуться с условиями, необходимыми для агентство сам.
Рассмотрим, например, предполагаемый парадигмальный случай, когда агент терпит неудачу.
управлять собой: человек, который принимает наркотики, даже если она
скорее сопротивляйтесь мотивирующей силе ее зависимости. Это широко
согласился с тем, что, даже если многие люди, подходящие под это описание, просто
слабовольные, не все из них: некоторые невольные наркоманы не
самоуправление даже в минимальном смысле. По мнению когерентистов и
реакции на рассуждения, это потому, что такие наркоманы
по сути являются «пассивными наблюдателями» по отношению к своим собственным
мотивы. Но даже если бы мы могли найти удовлетворительное описание
соответствующая пассивность, этот диагноз будет проблематичным. Для этого
уподобляет наркомана кому-то, чье поведение даже не соответствует
как действие — кто-то, например, с синдромом Туретта,
чьи словесные взрывы и телодвижения не
даже добровольно . Таким образом, он не может пролить свет на условия
под которым кто-то действует — намеренно, даже
намеренно, не отвечая за то, что она делает.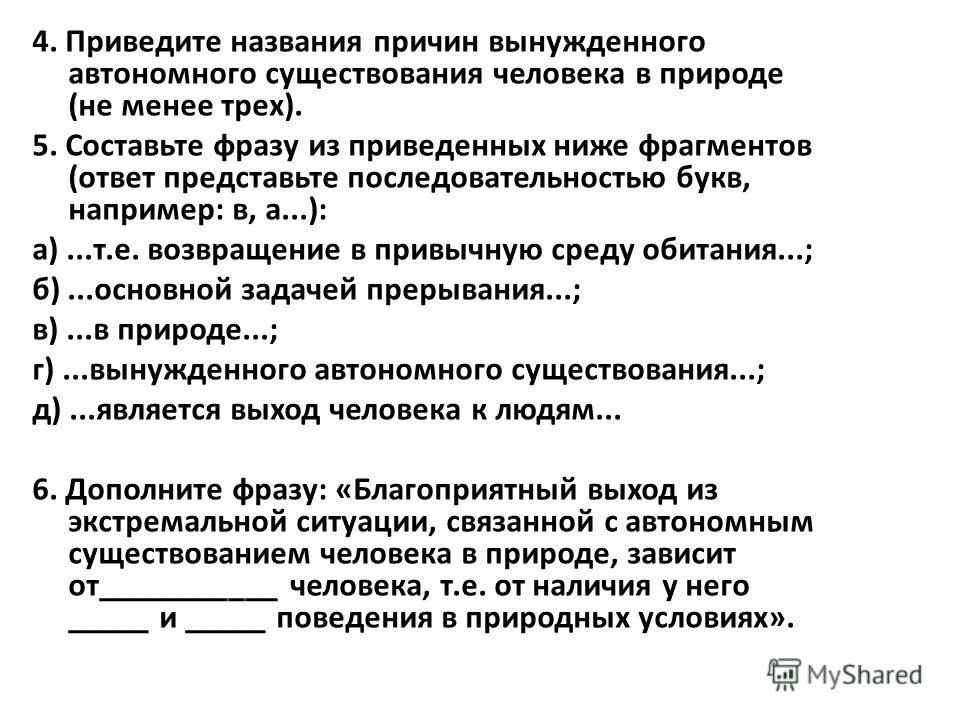 (Та же проблема
возникает из-за предположения, что автономные агенты отличаются от других
агенты в силу их особого способа понимания того, что они
вплоть до. Вне зависимости от того, руководит ли кто-то ее умышленными действиями,
она знает, что делает, не наблюдая за своим поведением.
Если бы кому-то пришлось наблюдать за ее собственным поведением, чтобы обнаружить, что
она задумала, то такое поведение не будет считаться ее действием.)
(Та же проблема
возникает из-за предположения, что автономные агенты отличаются от других
агенты в силу их особого способа понимания того, что они
вплоть до. Вне зависимости от того, руководит ли кто-то ее умышленными действиями,
она знает, что делает, не наблюдая за своим поведением.
Если бы кому-то пришлось наблюдать за ее собственным поведением, чтобы обнаружить, что
она задумала, то такое поведение не будет считаться ее действием.)
Если чьи-то мотивы прямо противоречат его попытке воспользоваться властью над ее действиями, то их власть не только не зависит от нее орган власти; они полностью обходят ее агентство. Даже если под эти условия, в которых человек может признать, что ему есть что сказать за то, как она себя ведет, она так же отчуждена от власти своей мотивы, как она есть, от силы физиологических состояний, которые производить ее рефлекторные движения. Она не является автономным агентом, потому что она не агент в все [18] .
Конечно, есть смысл, в котором наркоман, но не жертва
синдрома Туретта, реагирует на причины. Но даже если бы мы могли расшифровать
это различие удовлетворительным образом, мы все еще сталкиваемся с проблемой
объясняя, почему способность агента реагировать на внешнюю реальность
отношение к ее способности управлять собой. И есть другие
проблемы тоже. Если, например, бездействие отличается от действия в силу
невосприимчивости к причинам, то следует, что нерациональное
животные никогда не действуют по-настоящему, или что действие инстинкта есть действие ради
причины. Непонятно, какие соображения могли бы преодолеть
неправдоподобность этих выводов.
Но даже если бы мы могли расшифровать
это различие удовлетворительным образом, мы все еще сталкиваемся с проблемой
объясняя, почему способность агента реагировать на внешнюю реальность
отношение к ее способности управлять собой. И есть другие
проблемы тоже. Если, например, бездействие отличается от действия в силу
невосприимчивости к причинам, то следует, что нерациональное
животные никогда не действуют по-настоящему, или что действие инстинкта есть действие ради
причины. Непонятно, какие соображения могли бы преодолеть
неправдоподобность этих выводов.
4. Агенты как причины и практическая точка зрения
Даже неавтономных рациональных агентов санкционируют мотивацию.
сила желаний, побуждающих их к действию. И все же есть важное
смысле, в котором сила, стоящая за их разрешениями, не принадлежит им.
К чему относится релевантная импотенция? Инкомпатибилисты, мы
пила, имеет готовый ответ: агенту запрещается выполнять какие-либо
власть над своим поведением, когда ее разрешение на это поведение может быть
прослеживается в определяющем влиянии внешних сил.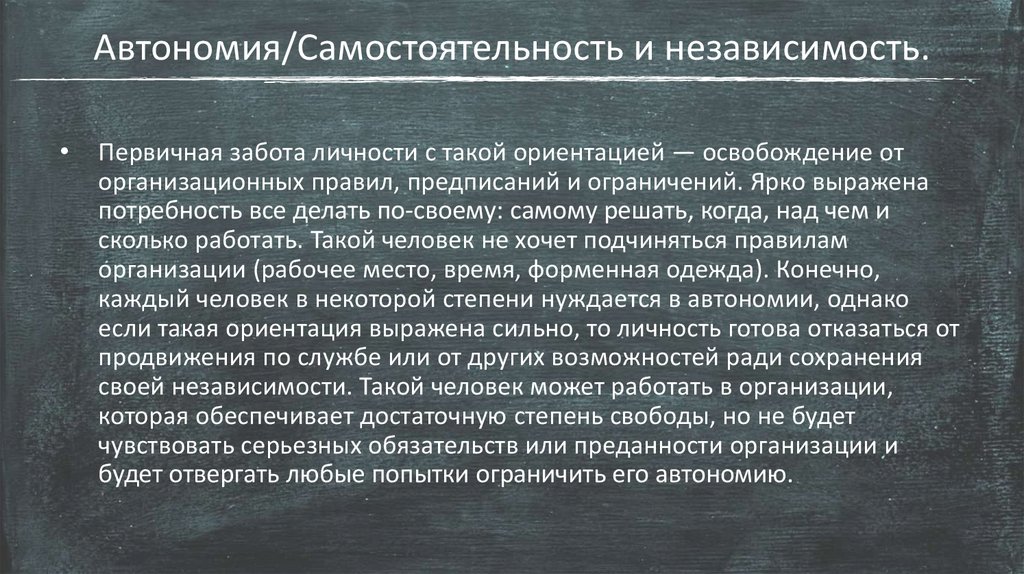 Согласно с
инкомпатибилист, если невольная наркоманка не может управлять собой,
это потому, что ее мотивы определяются прошлым положением дел
над которыми она не имеет (и никогда не имела) никакого контроля. И если желание мотивы наркомана имеют схожий генезис, то она,
также не отвечает за их мотивирующую силу.
Согласно с
инкомпатибилист, если невольная наркоманка не может управлять собой,
это потому, что ее мотивы определяются прошлым положением дел
над которыми она не имеет (и никогда не имела) никакого контроля. И если желание мотивы наркомана имеют схожий генезис, то она,
также не отвечает за их мотивирующую силу.
Знакомая проблема с этим ответом заключается в том, что, похоже, нет никакого способа
для агента, чтобы получить дополнительную меру контроля над своими мотивами
просто путем приобретения установок, суждений или других психических состояний, которые
ничем другим не определяются. Если чье-то отношение к ней
мотивы не определяются каким-либо более ранним положением вещей, чем то, как
можно ли определить ее ? Этот вопрос сталкивает некоторых с
инкомпатибилистские интуиции приписывают особую причинную силу
агенты — агентская сила, которая не сводится к эффекту
одно событие на другое. С этой точки зрения человек может
«агент-причина» — определенная реакция на более ранние события в
способ, который сам по себе не является следствием этих более ранних событий.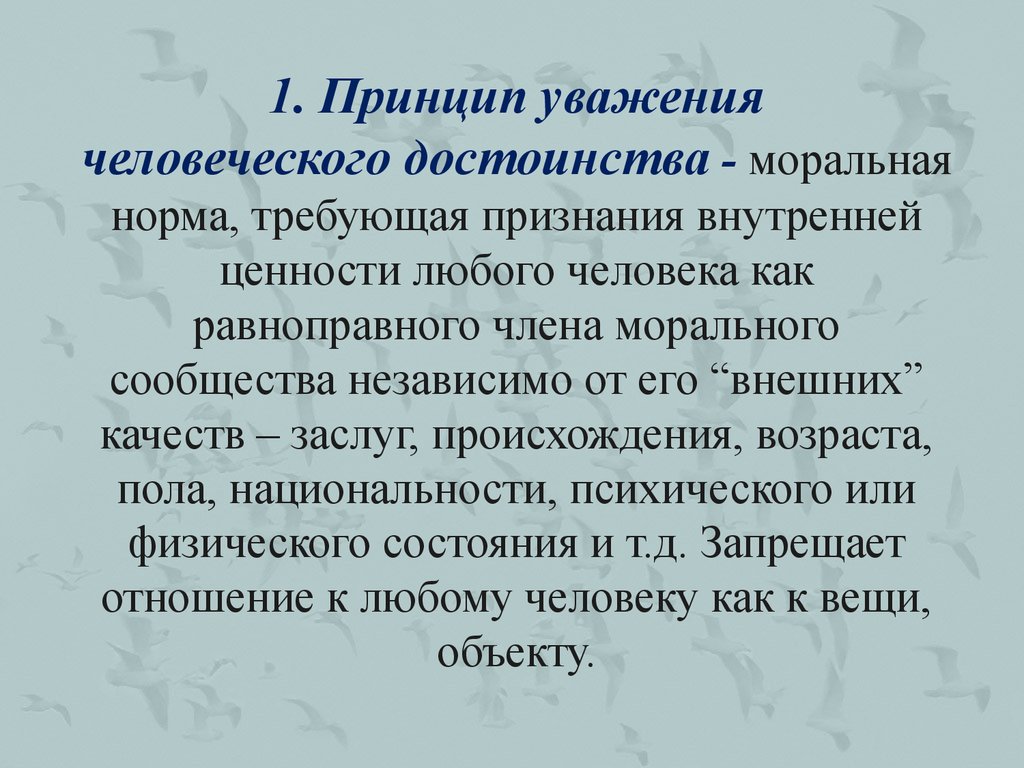 (Чизхолм,
Кларк, О’Коннор, Тейлор, Р.) Она может добиться того, что она
мотивирована определенным образом, но ничто не побуждает ее к этому.
Таким образом, ее власть над своими действиями не может быть сведена к власти
внешняя мотивация
сил. [19]
(Чизхолм,
Кларк, О’Коннор, Тейлор, Р.) Она может добиться того, что она
мотивирована определенным образом, но ничто не побуждает ее к этому.
Таким образом, ее власть над своими действиями не может быть сведена к власти
внешняя мотивация
сил. [19]
Такие отчеты об автономном агентстве серьезно относятся к необходимости отличать силу агента от силы психических сил, которые толкать и тянуть ее. Тем не менее неясности особого рода причинности они вызывают, достаточно, чтобы помешать большинству философов принять это концепция автономного агентства. Упомянем лишь несколько знакомых проблемы: если агент, вызывающий событие, не требует каких-либо действий чтобы событие произошло, то каким образом агент оказывает ее причинная сила? и почему эта сила действует сразу время, а не другое? Если, с другой стороны, агент должен сделать что-то для того, чтобы агент-вызвал действие, то разве это не требует что она претерпит некоторые изменения? и не является ли само это изменение состояния мероприятие?
На основании этих и других трудностей многие делают вывод, что
апелляция к агент-причинности дает не больше понимания автономии, чем
простое утверждение, что иногда мы можем управлять каузальной действенностью
наших собственных мотивов.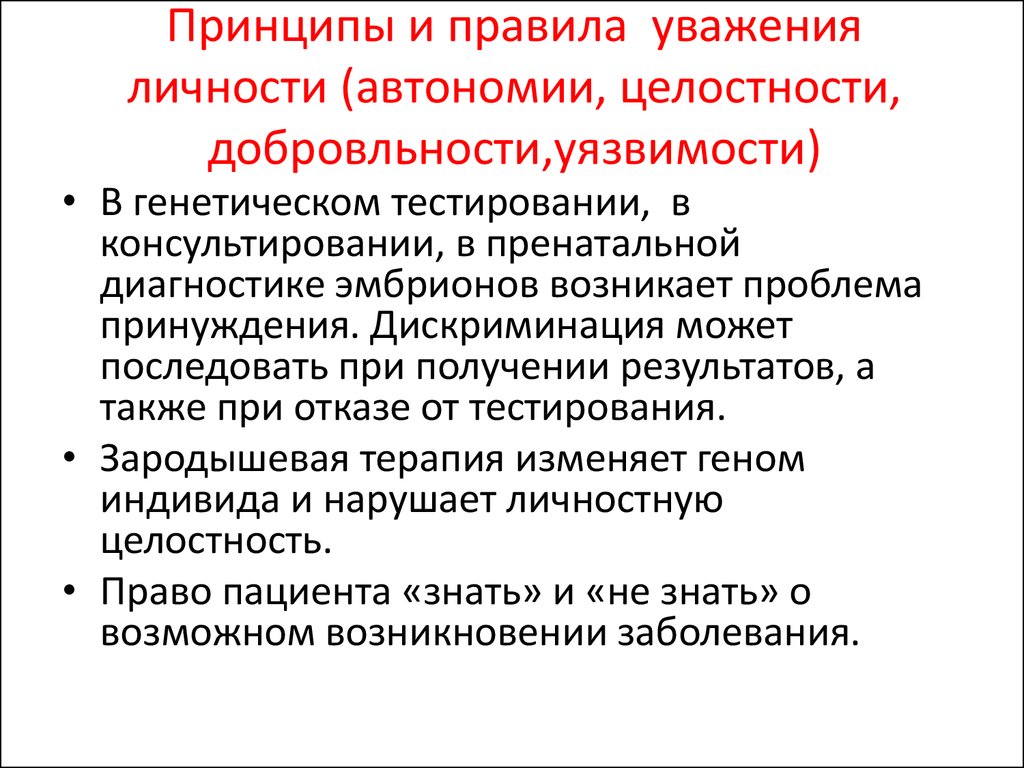 Инкомпатибилисты, сочувствующие этому
жалобы тем не менее настаивают на том, что даже если каузальная сила агента должна
понимать с точки зрения причинно-следственных связей между событиями, автономными
деятельность возможна лишь при наличии условий, непосредственно порождающих
намерение агента не обязательно должно быть достаточным для его производства. Если, утверждают они,
агент не может санкционировать данное действие, не будучи настроен на это
силами, неподвластными ей, то автономная деятельность является иллюзией. Если
каждое наше действие является событием в детерминированной причинно-следственной цепи, то мы
санкционировать наши действия только в том смысле, в каком санкционирует подставное лицо
решения, которые она вынуждена подписывать. Действительно, в отличие от политической марионетки,
у нас даже нет возможности
неповиновение [20] .
Инкомпатибилисты, сочувствующие этому
жалобы тем не менее настаивают на том, что даже если каузальная сила агента должна
понимать с точки зрения причинно-следственных связей между событиями, автономными
деятельность возможна лишь при наличии условий, непосредственно порождающих
намерение агента не обязательно должно быть достаточным для его производства. Если, утверждают они,
агент не может санкционировать данное действие, не будучи настроен на это
силами, неподвластными ей, то автономная деятельность является иллюзией. Если
каждое наше действие является событием в детерминированной причинно-следственной цепи, то мы
санкционировать наши действия только в том смысле, в каком санкционирует подставное лицо
решения, которые она вынуждена подписывать. Действительно, в отличие от политической марионетки,
у нас даже нет возможности
неповиновение [20] .
Однако другие видят вещи иначе. Они утверждают, что
инкомпатибилистский вывод отражает непонимание самого
природа рациональной деятельности.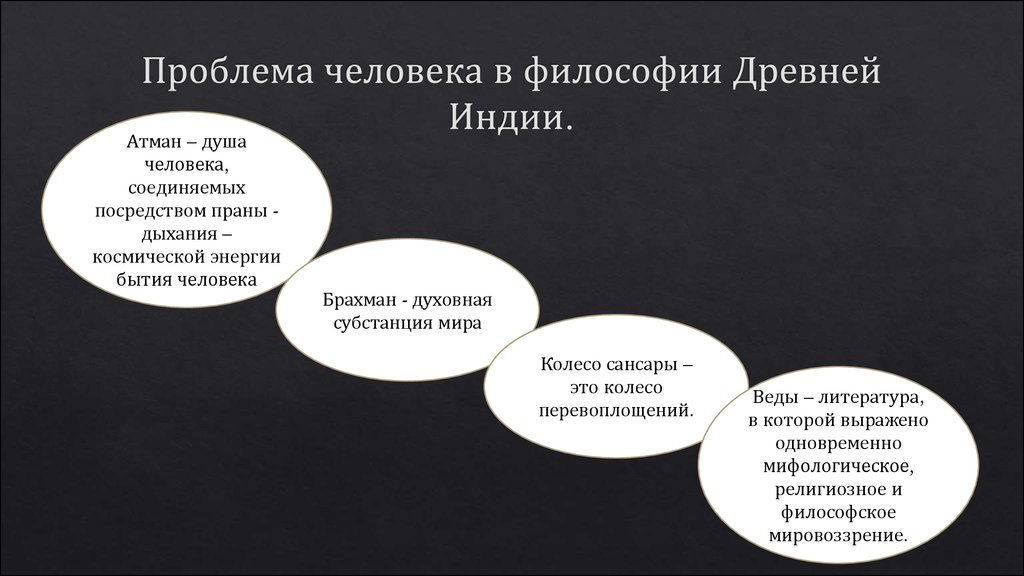 Делая свое дело, они берут на себя инициативу
от философа, внесшего больше, чем кто-либо другой, в нашу
понимание автономии. Кант, отмечают они, подчеркивает глубокое
различия между двумя точками зрения, с которых мы можем думать
о нас и наших
Мир. [21] Мы занимаемся теоретический точки зрения, чтобы получить знания о
характер действительности, и на этом основании делать предсказания о том, какие
следствия вытекают из каких причин. Когда мы хотим помириться
мысли о том, что делать, однако, мы беремся за практических точка зрения. С этой точки зрения мы также рассматриваем факты, которые
имеют отношение к нашим решениям. Но поскольку ни один из этих фактов, взятых
по отдельности или вместе, по своей сути являются направляющими действиями, они не могут освободить
нас от задачи делать собственные выводы о том, что мы имеем
причина сделать. (Корсгаард, Бок)
Делая свое дело, они берут на себя инициативу
от философа, внесшего больше, чем кто-либо другой, в нашу
понимание автономии. Кант, отмечают они, подчеркивает глубокое
различия между двумя точками зрения, с которых мы можем думать
о нас и наших
Мир. [21] Мы занимаемся теоретический точки зрения, чтобы получить знания о
характер действительности, и на этом основании делать предсказания о том, какие
следствия вытекают из каких причин. Когда мы хотим помириться
мысли о том, что делать, однако, мы беремся за практических точка зрения. С этой точки зрения мы также рассматриваем факты, которые
имеют отношение к нашим решениям. Но поскольку ни один из этих фактов, взятых
по отдельности или вместе, по своей сути являются направляющими действиями, они не могут освободить
нас от задачи делать собственные выводы о том, что мы имеем
причина сделать. (Корсгаард, Бок)
Это верно, указывают неокантианцы, даже если наши решения
действие причинных сил, над которыми мы не имеем никакого контроля. Так как нет
факты, о которых мы могли бы узнать, могут заставить нас приписать
какое-либо особое значение для них, и поскольку для того, чтобы решить, что
чтобы сделать, мы должны придавать некоторое значение фактам, которые мы
осознавать (даже если это означает, что они не имеют никакого значения в
все), наши решения «зависят от нас». По словам тех, кто нажимает на это
линии аргументации, наша власть над собственными действиями не была бы
иллюзорным, даже если бы наш способ его осуществления был причинно детерминирован
события или положения дел, над которыми мы не имеем никакого контроля. Даже под
этих обстоятельствах никакие события или положения дел не имели бы
власть определять, что у нас есть причина сделать. Так что даже под
В этих обстоятельствах мы должны прийти к нашим собственным выводам по этому вопросу.
и действовать соответственно. (Обратите внимание, что, поскольку этот аргумент опирается на
связь между определением того, что у нас есть основания делать, и
определяя, что мы будем делать, это также может быть одобрено теми, кто
которые предпринимают действия по причинам, связанным с реагированием на теоретические
причины.
Так как нет
факты, о которых мы могли бы узнать, могут заставить нас приписать
какое-либо особое значение для них, и поскольку для того, чтобы решить, что
чтобы сделать, мы должны придавать некоторое значение фактам, которые мы
осознавать (даже если это означает, что они не имеют никакого значения в
все), наши решения «зависят от нас». По словам тех, кто нажимает на это
линии аргументации, наша власть над собственными действиями не была бы
иллюзорным, даже если бы наш способ его осуществления был причинно детерминирован
события или положения дел, над которыми мы не имеем никакого контроля. Даже под
этих обстоятельствах никакие события или положения дел не имели бы
власть определять, что у нас есть причина сделать. Так что даже под
В этих обстоятельствах мы должны прийти к нашим собственным выводам по этому вопросу.
и действовать соответственно. (Обратите внимание, что, поскольку этот аргумент опирается на
связь между определением того, что у нас есть основания делать, и
определяя, что мы будем делать, это также может быть одобрено теми, кто
которые предпринимают действия по причинам, связанным с реагированием на теоретические
причины.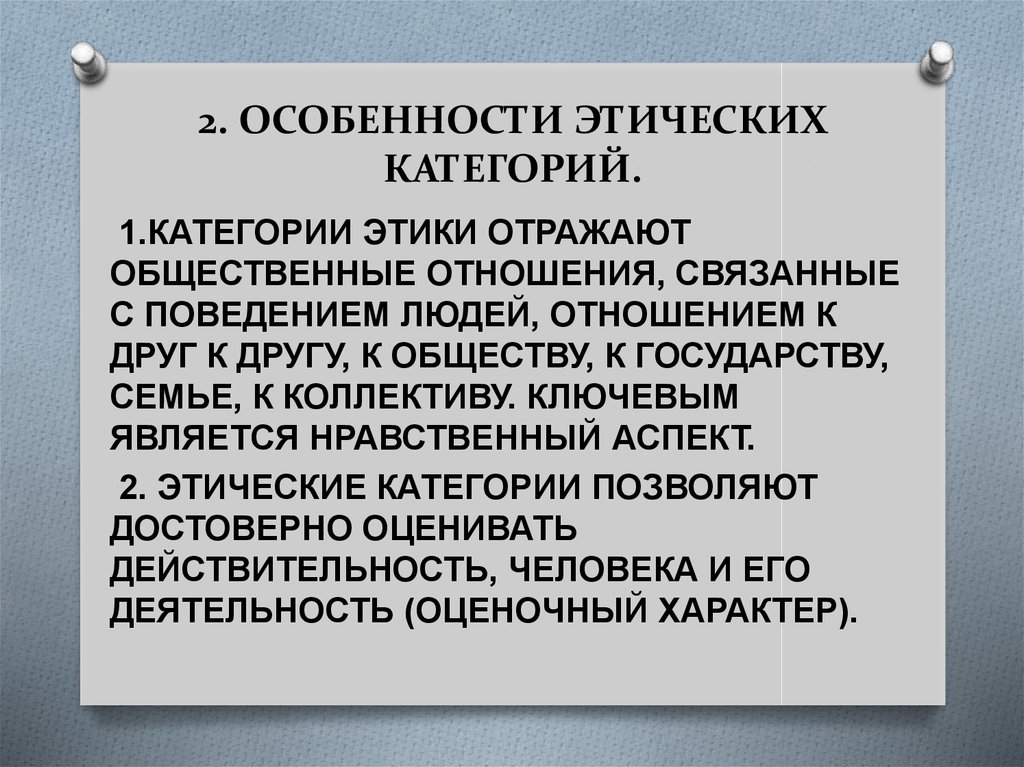 В самом деле, существует расплывчатый смысл, в котором точка зрения агента
точка зрения является «практической», пока правдивы ее предсказания.
зависит от того, что она их делает.)
В самом деле, существует расплывчатый смысл, в котором точка зрения агента
точка зрения является «практической», пока правдивы ее предсказания.
зависит от того, что она их делает.)
5. Заключение
Эти последние наблюдения возвращают нас к тому, с чего мы начали.
политическое требование разрешить управлять собой основано на
метафизика агентности: любой агент, перед которым стоит задача «придумать
ее разум» имеет право определять, как она будет действовать. На
в большинстве случаев то, что делает агент, является прямым следствием его действий.
этого авторитета. Тем не менее, есть также достаточно доказательств того, что способность
ибо самоуправление уязвимо для любых посягательств; агента
власть над ее действиями не является гарантией того, что она имеет право
определить, как она осуществляет эту власть. Агенты могут быть лишены
их автономность из-за промывания мозгов, депрессии, беспокойства, усталости; они могут
поддаваться навязчивым идеям и зависимостям. К чему именно мы призываем
внимание, когда мы говорим, что в этих условиях агент не
управлять собой, даже если она поступает так, потому что думает, что
достаточных оснований для этого, даже если она (тщательно) обдумала
плюсы и минусы ее вариантов, и одобрил ее поведение на этом
основе, и даже если бы она действовала иначе, если бы
веская причина для этого? Большинство агентов, способных задать этот
вопрос уверены, что они являются авторами большинства своих
действия и, таким образом, несут ответственность за большую часть того, что они делают. Тем не менее, как
этот краткий обзор показывает, что самоотношение, которое они таким образом приписывают
к себе крайне сложно приколоть
вниз. [22]
Тем не менее, как
этот краткий обзор показывает, что самоотношение, которое они таким образом приписывают
к себе крайне сложно приколоть
вниз. [22]
автономия | этика и политическая философия
- Похожие темы:
- свобода воли
См. весь связанный контент →
автономия , в западной этике и политической философии, состояние или условие самоуправления или ведения жизни в соответствии с причинами, ценностями или желаниями, которые действительно являются собственными. Хотя автономия является древним понятием (термин происходит от древнегреческих слов autos , что означает «я», и nomos , что означает «правило»), наиболее влиятельные концепции автономии являются современными, возникшими в 18 и 19 веках в философии, соответственно, Иммануила Канта и Джона Стюарта. Мельница
Кантианская автономия
По Канту, человек автономен только в том случае, если на его выбор и действия не влияют факторы, которые являются внешними или несущественными по отношению к нему самому. Таким образом, человеку не хватает автономии или он гетерономен в той мере, в какой на его выбор или действия влияют такие факторы, как условность, давление сверстников, юридическая или религиозная власть, воспринимаемая воля Бога или даже его собственные желания. О том, что желания несущественны для «я», свидетельствует тот факт, что, в отличие от «я», они зависят от ситуации, в которой человек находится (например, у человека, живущего в 18 веке, не было бы желания иметь персональный компьютер, и у человека, живущего в 21 веке, не возникнет — по крайней мере, обычно — желания использовать ночной горшок). Однако человек, положение и желания которого меняются, не становится от этого другим человеком. Даже если рассматриваемые желания не являются продуктом социальной среды человека, а возникают из его физиологии, они все равно несущественны для человека, у которого они есть. Человек, который любит икру, но не любит омаров, не стал бы другим человеком, если бы он приобрел вкус к омарам и потерял вкус к икре.
Таким образом, человеку не хватает автономии или он гетерономен в той мере, в какой на его выбор или действия влияют такие факторы, как условность, давление сверстников, юридическая или религиозная власть, воспринимаемая воля Бога или даже его собственные желания. О том, что желания несущественны для «я», свидетельствует тот факт, что, в отличие от «я», они зависят от ситуации, в которой человек находится (например, у человека, живущего в 18 веке, не было бы желания иметь персональный компьютер, и у человека, живущего в 21 веке, не возникнет — по крайней мере, обычно — желания использовать ночной горшок). Однако человек, положение и желания которого меняются, не становится от этого другим человеком. Даже если рассматриваемые желания не являются продуктом социальной среды человека, а возникают из его физиологии, они все равно несущественны для человека, у которого они есть. Человек, который любит икру, но не любит омаров, не стал бы другим человеком, если бы он приобрел вкус к омарам и потерял вкус к икре.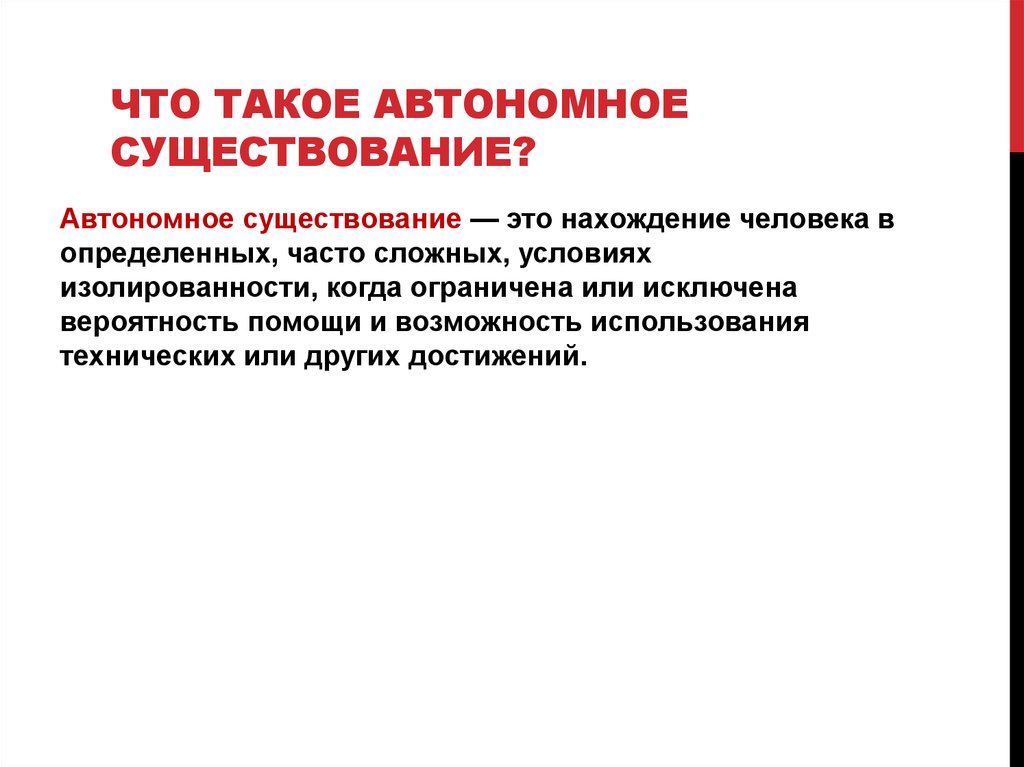
Рациональность, напротив, по Канту, является существенной чертой личности. Таким образом, человек будет автономен в отношении своего выбора и действий, если они направляются исключительно его рациональностью. Канту ясно, что это не означает, что человек автономен, если он действует рационально для достижения какой-то внешней цели (например, для удовлетворения желания съесть икру). Поступать таким образом — значит просто действовать в соответствии с тем, что Кант называл «гипотетическим императивом» — правилом в форме «Если вы хотите достичь X , вы должны сделать Y ». Поскольку действия, направляемые гипотетическими императивами, мотивированы желаниями, они не могут выполняться автономно. Следовательно, чтобы действовать рационально в том смысле, который обосновывает автономию, человек должен действовать в соответствии с правилом, которое было бы действительным для всех разумных агентов, находящихся в одинаковом положении, независимо от их желаний. Это требование в общих чертах выражено в «категорическом императиве» Канта, один из вариантов которого: «Поступай только в соответствии с той максимой, по которой ты можешь в то же время желать, чтобы она стала всеобщим [моральным] законом», т.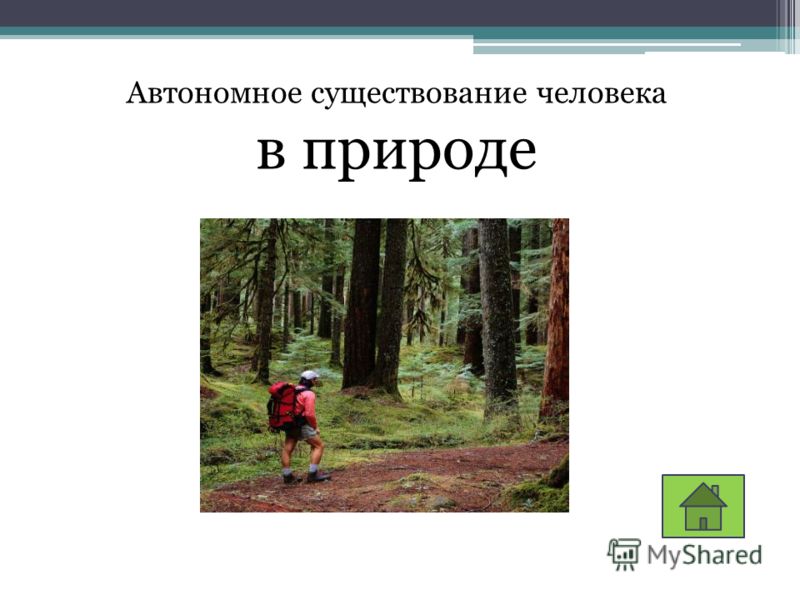 е. закон, которому должен следовать каждый разумный агент, находящийся в аналогичном положении. Человек, чьи действия руководствовались категорическим императивом, не мог лгать, например, для получения выгоды, потому что он не мог последовательно желать, чтобы все следовали правилу: «Ври, когда тебе это выгодно». Если бы все следовали этому правилу, то никто не доверял бы чужому слову, и никто, в том числе и человек, созерцающий ложь, не смог бы пожинать плоды лжи.
е. закон, которому должен следовать каждый разумный агент, находящийся в аналогичном положении. Человек, чьи действия руководствовались категорическим императивом, не мог лгать, например, для получения выгоды, потому что он не мог последовательно желать, чтобы все следовали правилу: «Ври, когда тебе это выгодно». Если бы все следовали этому правилу, то никто не доверял бы чужому слову, и никто, в том числе и человек, созерцающий ложь, не смог бы пожинать плоды лжи.
Автономия, таким образом, влечет за собой действие в соответствии с категорическим императивом. Более того, поскольку автономный агент признает свою внутреннюю ценность как рационального существа, он должен также признать внутреннюю ценность всех других разумных существ, потому что между его разумной деятельностью и деятельностью других нет релевантной разницы. Таким образом, автономный агент всегда будет относиться к рациональным существам как к самоцелям (т. е. как к внутренне ценным), а не просто как к средствам (т.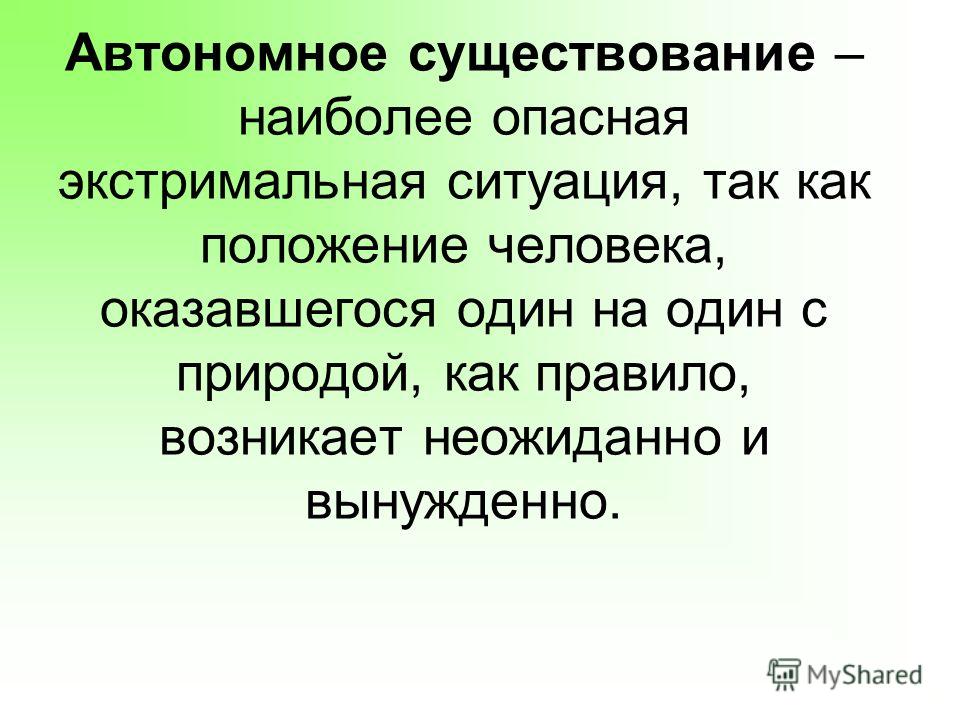 е. как к инструментально ценным). Этот вывод Кант выразил во втором варианте категорического императива, который он считал равноценным первому: «Поступай же так, чтобы относиться к человечеству, будь то в своем лице или в другом, всегда как к цели, а никогда только как к цели». означает.»
е. как к инструментально ценным). Этот вывод Кант выразил во втором варианте категорического императива, который он считал равноценным первому: «Поступай же так, чтобы относиться к человечеству, будь то в своем лице или в другом, всегда как к цели, а никогда только как к цели». означает.»
Миллианские и иерархические счета автономии
Согласно миллианскому взгляду на автономию, человек автономен в той мере, в какой он направляет свои действия в соответствии со своими собственными ценностями, желаниями и наклонностями. Таким образом, точка зрения Милля отличается от точки зрения Канта тем, что она не утверждает, что автономные личности не могут быть мотивированы желаниями; все, что для этого требуется, это чтобы желания были их собственными. Тогда решающим вопросом становится то, что значит сказать, что данная причина, ценность или желание действительно принадлежат человеку.
Миллианское объяснение автономии получило более широкое распространение в прикладной этике, чем кантианское, отчасти потому, что оно кажется более реалистичным. Очень немногие, если вообще есть, люди намеренно действуют в соответствии хотя бы с первой версией категорического императива, тем не менее автономия не кажется редким явлением. Кроме того, взгляд Миллиана получил плодотворное и интересное развитие с 1970-х годов в так называемом иерархическом анализе автономии, который был представлен американским философом Гарри Франкфуртом в его основополагающей статье «Свобода воли и концепция личности». (1971).
Очень немногие, если вообще есть, люди намеренно действуют в соответствии хотя бы с первой версией категорического императива, тем не менее автономия не кажется редким явлением. Кроме того, взгляд Миллиана получил плодотворное и интересное развитие с 1970-х годов в так называемом иерархическом анализе автономии, который был представлен американским философом Гарри Франкфуртом в его основополагающей статье «Свобода воли и концепция личности». (1971).
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
Франкфуртское раннее иерархическое описание автономии обращалось, среди прочих проблем, к интуитивно правдоподобному утверждению о том, что существуют случаи, когда человек может действовать в соответствии со своими собственными желаниями, но не действовать автономно. У наркомана, например, есть желание принять наркотик, к которому он пристрастился. Но действует ли он автономно, когда принимает наркотик? Можно утверждать, что это не так.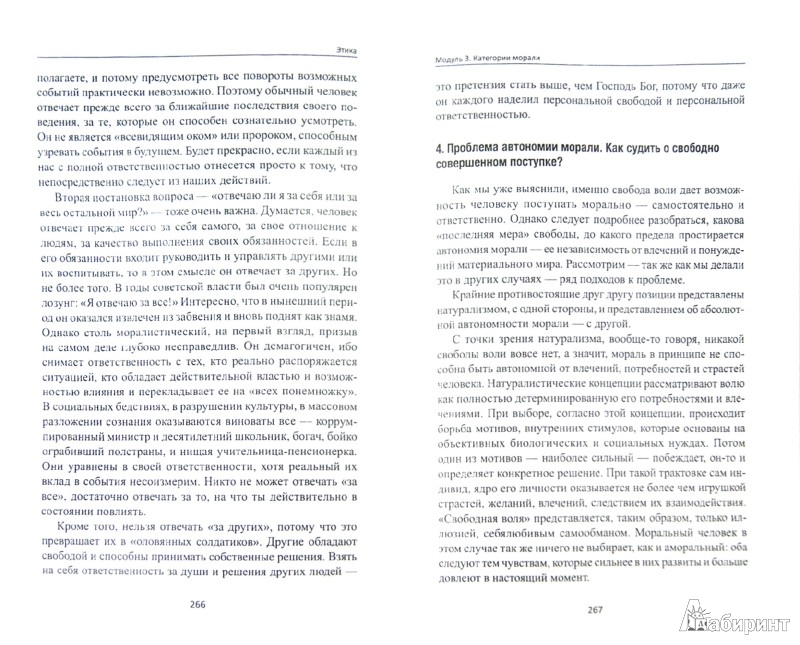 Если также предположить, что наркоман желает, чтобы у него не было зависимости, т. е. он желает, чтобы у него не было желания принимать наркотик, то становится еще более правдоподобным утверждение, что он не действует автономно. Чтобы учесть такие случаи, Франкфурт утверждал, что для того, чтобы человек мог выполнить действие автономно, он должен не только иметь желание выполнить действие, но и рефлективно одобрить свое желание совершить это действие. Для Франкфурта одобрение желания состоит в наличии желания второго порядка иметь это желание. Таким образом, чтобы быть автономным в отношении приема наркотиков, наркоман должен обладать как желанием принять наркотик, так и желанием иметь желание принять наркотик. Однако даже если у наркомана было бы такое желание второго порядка, он все равно не мог бы быть автономным в отношении приема наркотика, потому что он мог бы хотеть иметь желание наркотика первого порядка, но не желать, чтобы оно побудило его к действию. . (Например, он может захотеть узнать, каково это быть зависимым от наркотика, но не принимать наркотик, от которого он чувствовал бы себя зависимым).
Если также предположить, что наркоман желает, чтобы у него не было зависимости, т. е. он желает, чтобы у него не было желания принимать наркотик, то становится еще более правдоподобным утверждение, что он не действует автономно. Чтобы учесть такие случаи, Франкфурт утверждал, что для того, чтобы человек мог выполнить действие автономно, он должен не только иметь желание выполнить действие, но и рефлективно одобрить свое желание совершить это действие. Для Франкфурта одобрение желания состоит в наличии желания второго порядка иметь это желание. Таким образом, чтобы быть автономным в отношении приема наркотиков, наркоман должен обладать как желанием принять наркотик, так и желанием иметь желание принять наркотик. Однако даже если у наркомана было бы такое желание второго порядка, он все равно не мог бы быть автономным в отношении приема наркотика, потому что он мог бы хотеть иметь желание наркотика первого порядка, но не желать, чтобы оно побудило его к действию. . (Например, он может захотеть узнать, каково это быть зависимым от наркотика, но не принимать наркотик, от которого он чувствовал бы себя зависимым). наркотик, желание желания принять наркотик и желание, чтобы его желание первого порядка побудило его к действию.
наркотик, желание желания принять наркотик и желание, чтобы его желание первого порядка побудило его к действию.
Франкфурта подвергся трем критическим замечаниям. Первый касается критериев установления того, что данное желание является подлинным или действительно собственным. Учитывая, что подлинность желаний первого порядка гарантируется наличием определенных желаний второго порядка, что гарантирует подлинность желаний второго порядка? Если ответом является обладание определенными желаниями третьего порядка, то объяснение ведет к бесконечному регрессу (тот же вопрос можно было бы задать относительно желаний третьего порядка, желаний четвертого порядка и т. д.) и, следовательно, к отсутствию реального объяснения. Но если ответ какой-то другой, то отчет Франкфурта серьезно неполный.
Вторая критика заключается в том, что объяснение Франкфурта, по-видимому, подразумевает, что желания человека второго или более высокого порядка в некотором смысле более подлинны, чем его желания первого или более низкого порядка.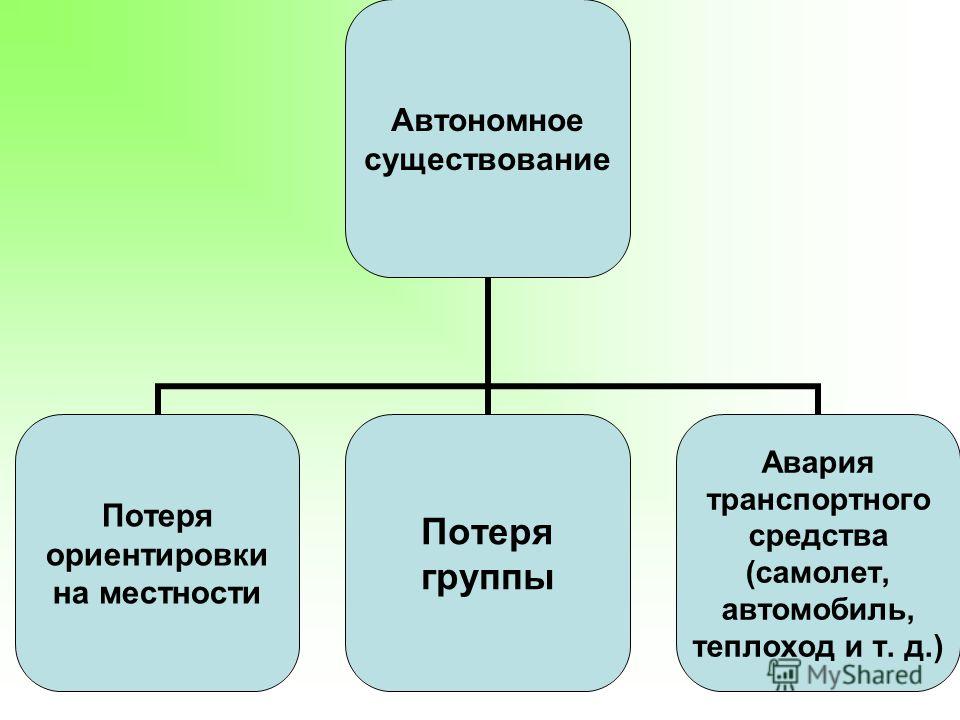 Только благодаря этой большей степени подлинности желания второго порядка должны быть способны гарантировать подлинность желаний более низкого порядка. Но непонятно, почему это должно быть так. Обратное может быть более правдоподобным. Например, у подростка может сформироваться желание второго порядка стать курильщиком из-за давления сверстников или других форм социализации. Это желание кажется менее подлинным, менее его собственным, чем его особенное и острое желание закурить, которое он в конце концов испытывает в результате пристрастия к никотину.
Только благодаря этой большей степени подлинности желания второго порядка должны быть способны гарантировать подлинность желаний более низкого порядка. Но непонятно, почему это должно быть так. Обратное может быть более правдоподобным. Например, у подростка может сформироваться желание второго порядка стать курильщиком из-за давления сверстников или других форм социализации. Это желание кажется менее подлинным, менее его собственным, чем его особенное и острое желание закурить, которое он в конце концов испытывает в результате пристрастия к никотину.
Наконец, концепция автономии Франкфурта кажется уязвимой для мысленного эксперимента, известного как проблема манипуляции. Любым из различных способов (например, гипнотическим внушением) человеку без его ведома могло быть имплантировано желание первого порядка и соответствующее ему желание второго порядка. С точки зрения Франкфурта, нет никакой очевидной причины не считать оба желания подлинными (желание первого порядка, потому что оно подтверждается желанием второго порядка, желание второго порядка, потому что оно является желанием второго порядка).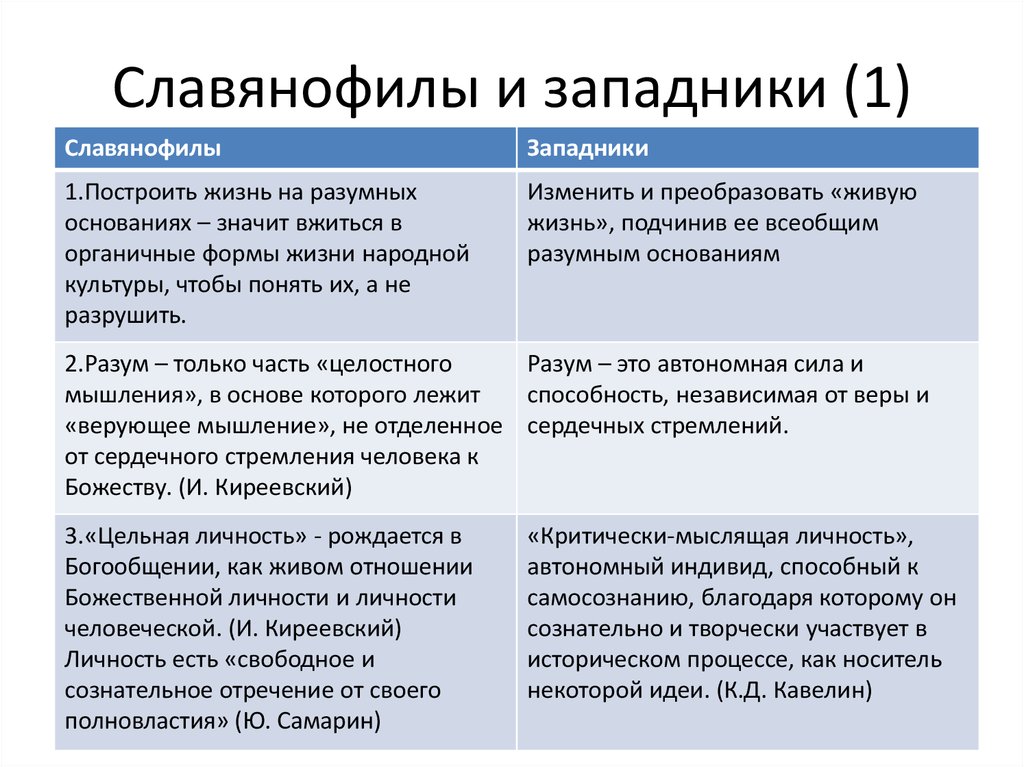 Но это кажется неправдоподобным.
Но это кажется неправдоподобным.
Франкфурт попытался ответить на эти и другие возражения при последующих пересмотрах своей точки зрения, но, по мнению некоторых критиков, его усилия не увенчались успехом. С 1980-х годов некоторые философы разработали вариации теории Франкфурта, призванные преодолеть такие возражения, в то время как другие придерживались совершенно иных подходов, основанных на состояниях или характеристиках, отличных от желания, таких как ценности, личные или характерные черты и отношения с другими.
Джеймс Стейси Тейлор Редакторы Британской энциклопедииАвтономия морали | Отзывы | Философские обзоры Нотр-Дама
Чарльз Лармор уже давно признан крупной фигурой в моральной и политической мысли, его репутация подтверждена двумя томами: Patterns of Moral Complexity (1987) и The Morals of Modern (1996). , замечательные своим развитием взглядов разрозненных философских традиций. В The Autonomy of Morality он собрал вместе девять более ранних эссе, опубликованных между 1999 и 2004 г.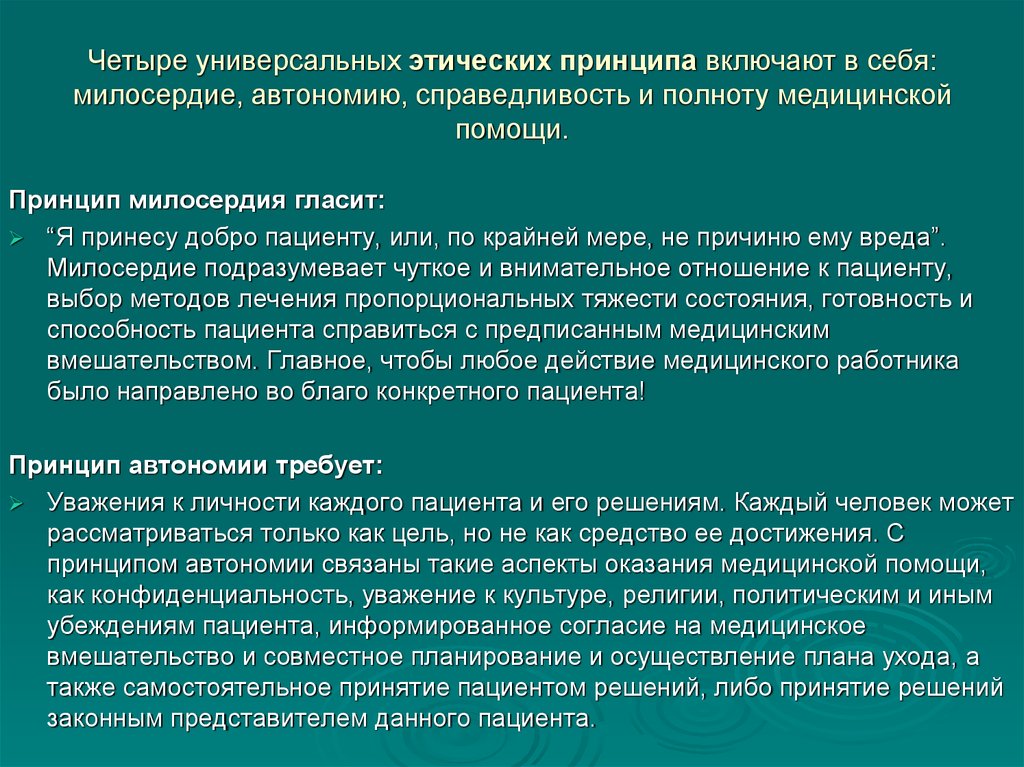 и добавил длинную новую главу по теме, которая придает всему тому смысл и название. Под «автономией морали» он имеет в виду передать идею о том, что моральные причины не зависят в своем авторитете ни от чего, кроме них самих, — ни от отдельного мыслителя, ни от морального сообщества, ни от других причин. Мораль «говорит сама за себя» (88) и «своим голосом» (8), как он часто любит выражаться.
и добавил длинную новую главу по теме, которая придает всему тому смысл и название. Под «автономией морали» он имеет в виду передать идею о том, что моральные причины не зависят в своем авторитете ни от чего, кроме них самих, — ни от отдельного мыслителя, ни от морального сообщества, ни от других причин. Мораль «говорит сама за себя» (88) и «своим голосом» (8), как он часто любит выражаться.
Лармор встраивает эту идею в структуру, которая истолковывает причины как составную часть обстановки мира, столь же реальную, как разум и материя. Таким образом, он противопоставляет себя тезису, который он считает одним из столпов кантовской этической мысли, о том, что мораль не находится «где-то там», а является продуктом свободных, рациональных, совместно размышляющих агентов. Тем не менее, главным героем этого сборника является выдающийся кантианский философ-моралист нашего времени: Джон Ролз. Но Лармор утверждает, что то, что Ролз почерпнул из Канта, ослабило или затемнило основные идеи более позднего мыслителя.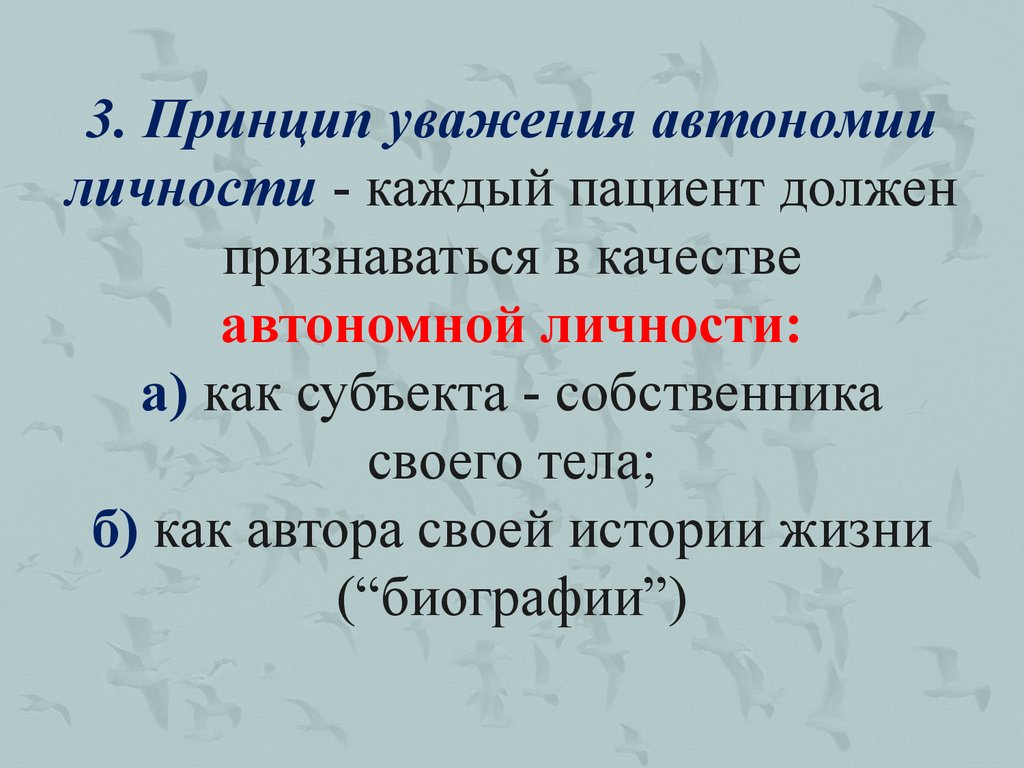 Он полагает, что глубочайший вклад Ролза в политическую философию — это идея публичного разума, основанная на непродуманной ценности уважения ко всем людям, а также доступное современным мыслителям, но недоступное более ранней философской традиции понимание того, что свободное люди не могут не различаться глубоко в отношении хорошо. Главный недостаток Ролза, по мнению Лармора, заключается в том, что он под влиянием Канта отвернулся от твердого реализма, обнаруживаемого в «рациональном интуиционизме» (как его называл Ролз) таких фигур, как Кларк, Причард и Росс.
Он полагает, что глубочайший вклад Ролза в политическую философию — это идея публичного разума, основанная на непродуманной ценности уважения ко всем людям, а также доступное современным мыслителям, но недоступное более ранней философской традиции понимание того, что свободное люди не могут не различаться глубоко в отношении хорошо. Главный недостаток Ролза, по мнению Лармора, заключается в том, что он под влиянием Канта отвернулся от твердого реализма, обнаруживаемого в «рациональном интуиционизме» (как его называл Ролз) таких фигур, как Кларк, Причард и Росс.
В своей главе «История и истина» Лармор принимает тезис, центральный для философского мировоззрения Ричарда Рорти, о том, что когнитивная структура человека всегда формируется историческими случайностями, но возражает против него, что «мир остается объектом нашего мышления» и что интеллектуальное исследование есть процесс, в котором мы «приближаемся к истине» (25). В «Назад к Канту? Ни за что» обсуждение книги Карла Америкса « Кант и судьба автономии , он настаивает на том, что Кант и вдохновленная им традиция заблуждаются, не различая между самоуправлением и самоуправлением: самоуправляющийся человек способен формировать свои желания и действия, чтобы отразить независимый порядок причин, тогда как самозаконодатель возводит авторитет норм к их происхождению в человеческом разуме.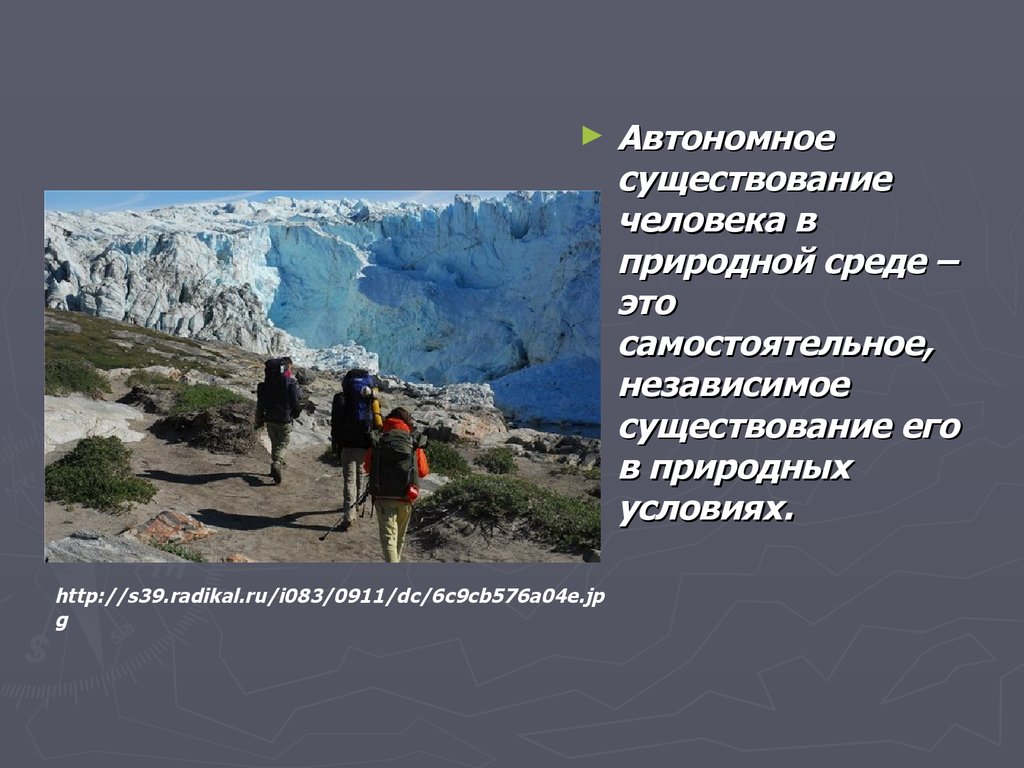 Против американцев Лармор считает, что именно идеал самоуправления, а не антиреалистический идеал самозаконодательства, составляет истинное понимание Канта. Кантианское представление о разуме как создателе норм должно быть заменено представлением о разуме как о существенной рецептивной способности — способности прислушиваться к тому, что имеет независимую значимость. «Разум как раз и есть наша отзывчивость на причины», — как он позже скажет (135).
Против американцев Лармор считает, что именно идеал самоуправления, а не антиреалистический идеал самозаконодательства, составляет истинное понимание Канта. Кантианское представление о разуме как создателе норм должно быть заменено представлением о разуме как о существенной рецептивной способности — способности прислушиваться к тому, что имеет независимую значимость. «Разум как раз и есть наша отзывчивость на причины», — как он позже скажет (135).
«Внимание к причинам» представляет собой критику витгенштейновского квиетизма Джона Макдауэлла « Разум и мир ». Лармор приветствует акцент Макдауэлла на «второй природе» как на «средстве, с помощью которого разум реагирует на причины» (51) и поддерживает тезис о том, что причины (по словам Макдауэлла) «все равно существуют» как возможные объекты познания. Тем не менее, сетует Лармор, Макдауэлл так и не признал, что его картина отношения разума к миру представляет собой метафизическую программу, пронизанную своими особыми философскими затруднениями.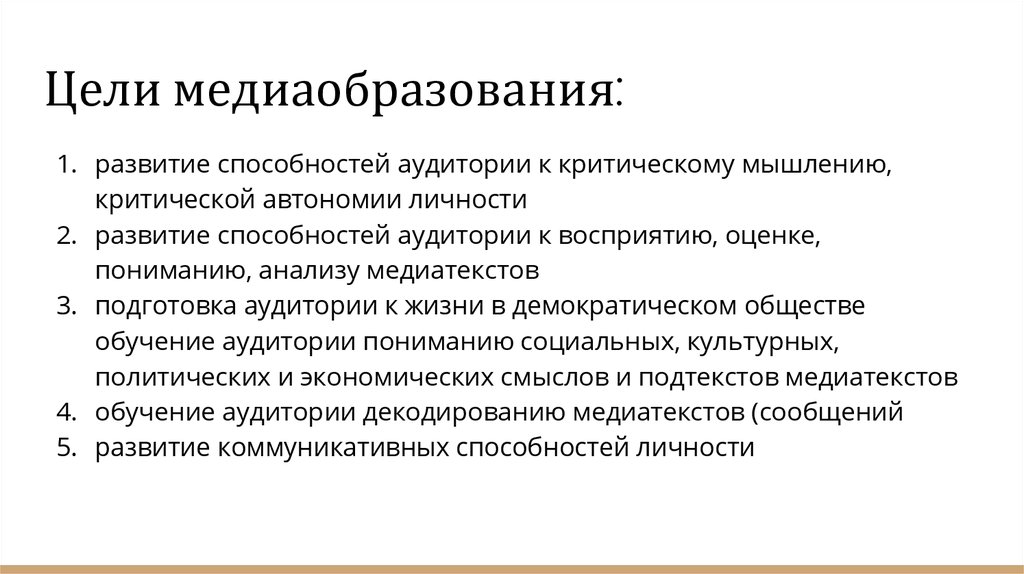 Главная проблема, которой, по его мнению, Макдауэлл избежал, заключается в том, как нормативные объекты (причины) могут быть частью реальности. Так и есть, настаивает Лармор, и здесь он соглашается с ведущей идеей Дж. Л. Маки.0015 Изобретение правильного и неправильного — своеобразные сущности, оскорбляющие натурализм современного мировоззрения, постулирующего материю и разум как все, что есть. Лармор утверждает, что когда разум схватывает причины или отвечает на них, третья часть реальности — нормативные сущности мира — воздействуют на него, как если бы между ними существовала «естественная симпатия или предустановленная гармония». 55). Как причины могут быть причинами, Лармор не может ответить на этот вопрос; его обвинение против Макдауэлла состоит в том, что он отказывается признать это философской проблемой.
Главная проблема, которой, по его мнению, Макдауэлл избежал, заключается в том, как нормативные объекты (причины) могут быть частью реальности. Так и есть, настаивает Лармор, и здесь он соглашается с ведущей идеей Дж. Л. Маки.0015 Изобретение правильного и неправильного — своеобразные сущности, оскорбляющие натурализм современного мировоззрения, постулирующего материю и разум как все, что есть. Лармор утверждает, что когда разум схватывает причины или отвечает на них, третья часть реальности — нормативные сущности мира — воздействуют на него, как если бы между ними существовала «естественная симпатия или предустановленная гармония». 55). Как причины могут быть причинами, Лармор не может ответить на этот вопрос; его обвинение против Макдауэлла состоит в том, что он отказывается признать это философской проблемой.
«Джон Роулз и моральная философия», который является результатом обзора в The New Republic лекций Ролза по истории моральной философии , начинает репетировать темы, которые занимают Лармора в последующих главах.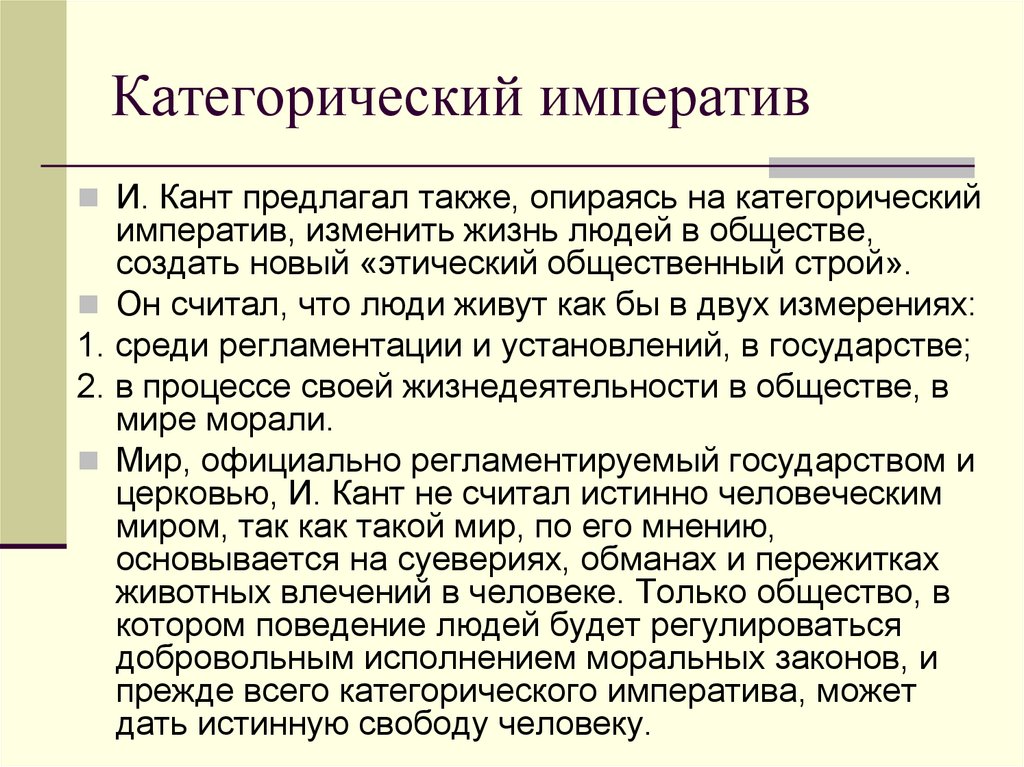 Лармор утверждает, что конструктивизм Ролза основан на более глубоком моральном реализме и, следовательно, имеет некантианские корни, которые Ролз не оценил должным образом. Современная политическая жизнь, согласно Лармору, должна признать, как настаивал Роулз, существенную оспариваемость наших самых глубоких идеалов. Либеральный порядок — это такой, при котором мы реагируем на объективную (и, следовательно, непродуманную) ценность отношения друг к другу в соответствии с тем, что Ролз назвал «либеральным принципом легитимности», который требует, чтобы фундаментальные предпосылки гражданского мышления были доступны противнику. точки зрения всех разумных граждан.
Лармор утверждает, что конструктивизм Ролза основан на более глубоком моральном реализме и, следовательно, имеет некантианские корни, которые Ролз не оценил должным образом. Современная политическая жизнь, согласно Лармору, должна признать, как настаивал Роулз, существенную оспариваемость наших самых глубоких идеалов. Либеральный порядок — это такой, при котором мы реагируем на объективную (и, следовательно, непродуманную) ценность отношения друг к другу в соответствии с тем, что Ролз назвал «либеральным принципом легитимности», который требует, чтобы фундаментальные предпосылки гражданского мышления были доступны противнику. точки зрения всех разумных граждан.
Заглавное эссе тома (и его самое длинное) помещено рядом и оформлено как защита одной из основных тем книги Г.А. Причарда, а именно, что моральные причины не могут и не должны подтверждаться чем-либо внешним по отношению к ним. Быть нравственным человеком, считает Лармор, значит видеть благо другого как непосредственное и законное требование к себе (73, 88).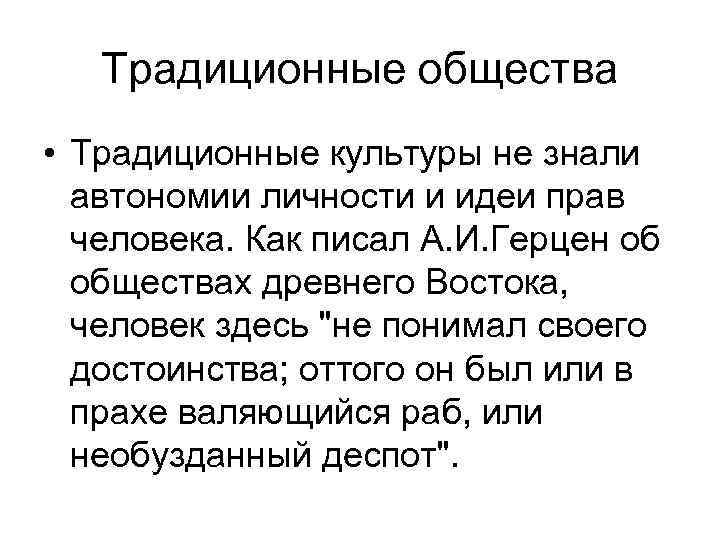 Следовательно, любая попытка обосновать это требование личным интересом или рациональной свободой разрушает его непосредственный статус. Что наиболее провокационно в этом эссе, так это расширенное обсуждение неудач Гоббса, Канта и их современных последователей (главным образом Дэвида Готье и Кристин Корсгаард), чтобы оценить точку зрения Причарда о том, что вопрос «зачем быть нравственным?» непродуманно. Кантианцы, по Лармору, конечно, не эгоисты, но тем не менее они совершают ту же ошибку, что и эгоисты: они стремятся обосновать авторитет моральных доводов чем-то помимо самих этих доводов.
Следовательно, любая попытка обосновать это требование личным интересом или рациональной свободой разрушает его непосредственный статус. Что наиболее провокационно в этом эссе, так это расширенное обсуждение неудач Гоббса, Канта и их современных последователей (главным образом Дэвида Готье и Кристин Корсгаард), чтобы оценить точку зрения Причарда о том, что вопрос «зачем быть нравственным?» непродуманно. Кантианцы, по Лармору, конечно, не эгоисты, но тем не менее они совершают ту же ошибку, что и эгоисты: они стремятся обосновать авторитет моральных доводов чем-то помимо самих этих доводов.
Оставшиеся в томе эссе развивают многие из только что изложенных тем и связывают их с ведущими идеями других философов, которыми Лармор очень восхищается, в частности Юргена Хабермаса, Филиппа Петтита и Фредерика Ницше. Наконец, в последнем эссе тома Лармор возвращается к Ролзу и предлагает последнюю критику его моральной философии: теория добра, представленная в Теория справедливости , Лармор утверждает, должна быть отвергнута, потому что она основана на широко распространенное в истории моральной философии предположение о том, что человек должен жить по плану.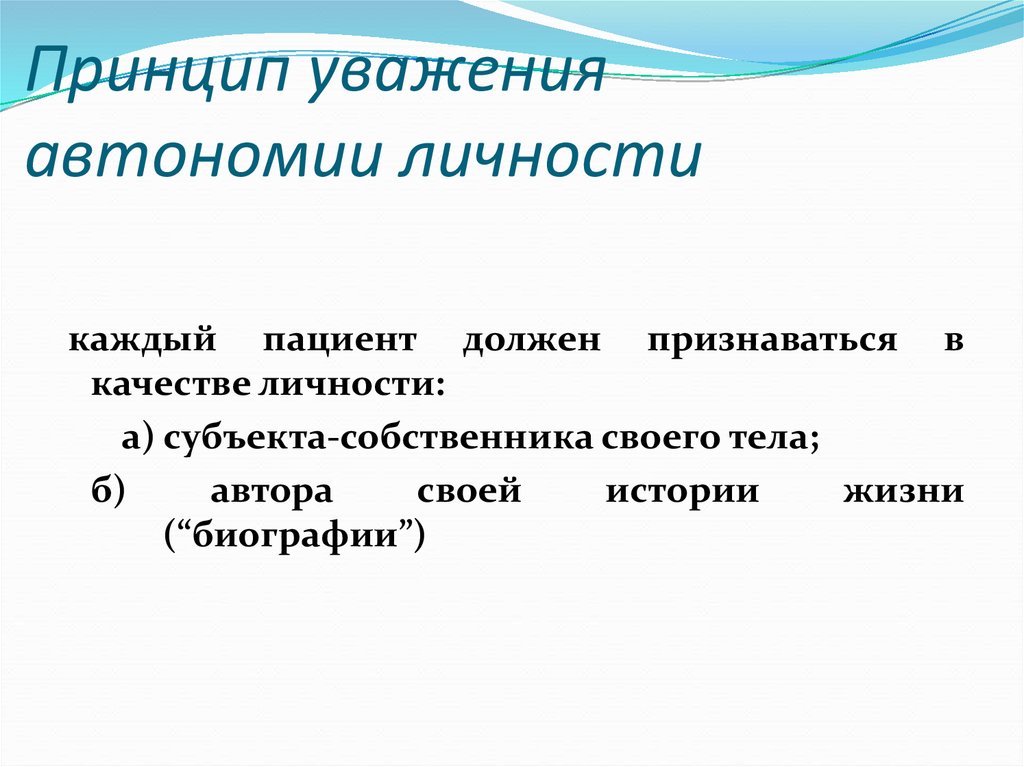 Это предположение, утверждает Лармор, упускает из виду фундаментальный момент, заключающийся в том, что многие важные блага застают нас врасплох, потому что они становятся хорошими благодаря будущим фактам, которые неизбежно ускользают от нашей способности планировать.
Это предположение, утверждает Лармор, упускает из виду фундаментальный момент, заключающийся в том, что многие важные блага застают нас врасплох, потому что они становятся хорошими благодаря будущим фактам, которые неизбежно ускользают от нашей способности планировать.
1. Причины как жуткий третий мир
«Что такое причина и как могут существовать, независимо от наших представлений о них, такого рода нормативные сущности?» (51). Ответ Лармора состоит в том, что «причины по существу нормативны и сопротивляются отождествлению с чем-либо физическим или психологическим» (59). «Порядок причин, — говорит он, — есть «третье онтологическое измерение мира» (63).
То, что «основания по своей сути нормативны», является тавтологией, поскольку мы говорим о разуме, который оказывает поддержку ( pro tanto или решающий) к выводу о том, во что кто-то должен верить, желать или делать. Но кто-то может не согласиться с дальнейшим утверждением Лармора о том, что причины «сопротивляются отождествлению с чем-либо физическим».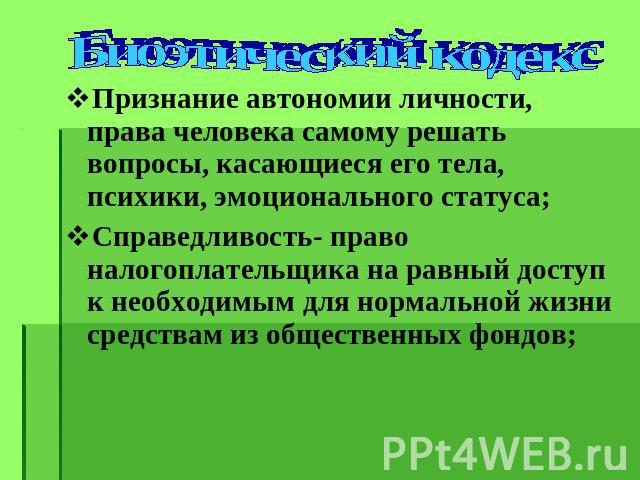 В конце концов, способность раскаленной кочерги обжигать вас, что, безусловно, является одной из ее физических особенностей, является причиной, по которой вам следует держаться от нее подальше. Точно так же причины верить в современные геологические теории находятся где-то в мире, разбросанном по внутренним слоям земной коры.
В конце концов, способность раскаленной кочерги обжигать вас, что, безусловно, является одной из ее физических особенностей, является причиной, по которой вам следует держаться от нее подальше. Точно так же причины верить в современные геологические теории находятся где-то в мире, разбросанном по внутренним слоям земной коры.
Возможно, тогда Лармор имеет в виду, что , будучи причиной, не является физическим (или ментальным) отношением. Это, несомненно, правильно. Но было бы заблуждением или, что еще хуже, говорить, как он это делает, что в дополнение к физическим объектам и разумам существует третье измерение реальности, а именно причины. Причины — это не странные личности, оказывающие призрачное каузальное влияние на те умы, которым посчастливилось настроиться на них. Скорее, определенные физические и психологические особенности нашего окружения (способность раскаленных кочерг обжигать нас, страдания наших соседей) несут в себе разумное отношение к нашим намерениям, убеждениям и желаниям.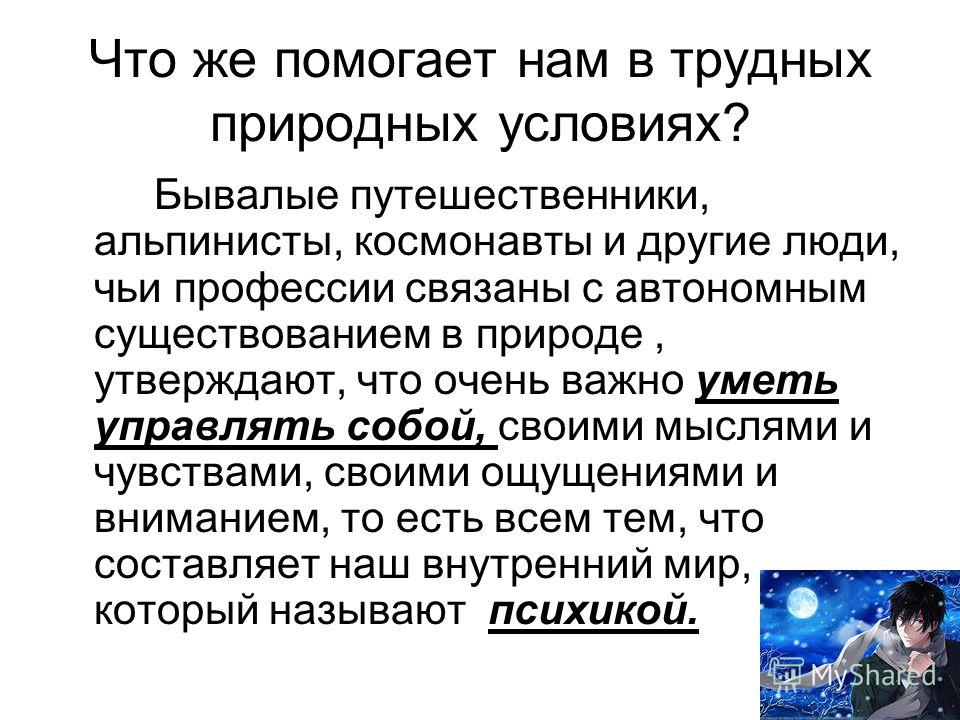 Эти знакомые черты реальности дают нам основания полагать, что мы должны вести себя определенным образом, и формировать намерения поступать так. Физические и психологические аспекты окружающего нас мира имеют отношение к нашему разуму по принципу «почему-один-должно».
Эти знакомые черты реальности дают нам основания полагать, что мы должны вести себя определенным образом, и формировать намерения поступать так. Физические и психологические аспекты окружающего нас мира имеют отношение к нашему разуму по принципу «почему-один-должно».
Если кого-то сбивает с толку то, что должны существовать другие отношения, кроме физических, а именно причины, то, кроме того, его должно сбивать с толку и многое другое. Например, логическое следствие — это не физическая связь между предложениями. Предложение, составленное мелом, может весить больше, чем такое же предложение, составленное из тех же самых слов, написанное чернилами; но физические особенности этих надписей не имеют значения для отношений следствия, которые несут эти предложения. Другой пример: овес и лошади суть физические сущности, но отношение между ними — полезность овса для лошадей — есть оценочное, а не физическое отношение. Быть хорошим для живого существа — это не таинственный третий тип 9.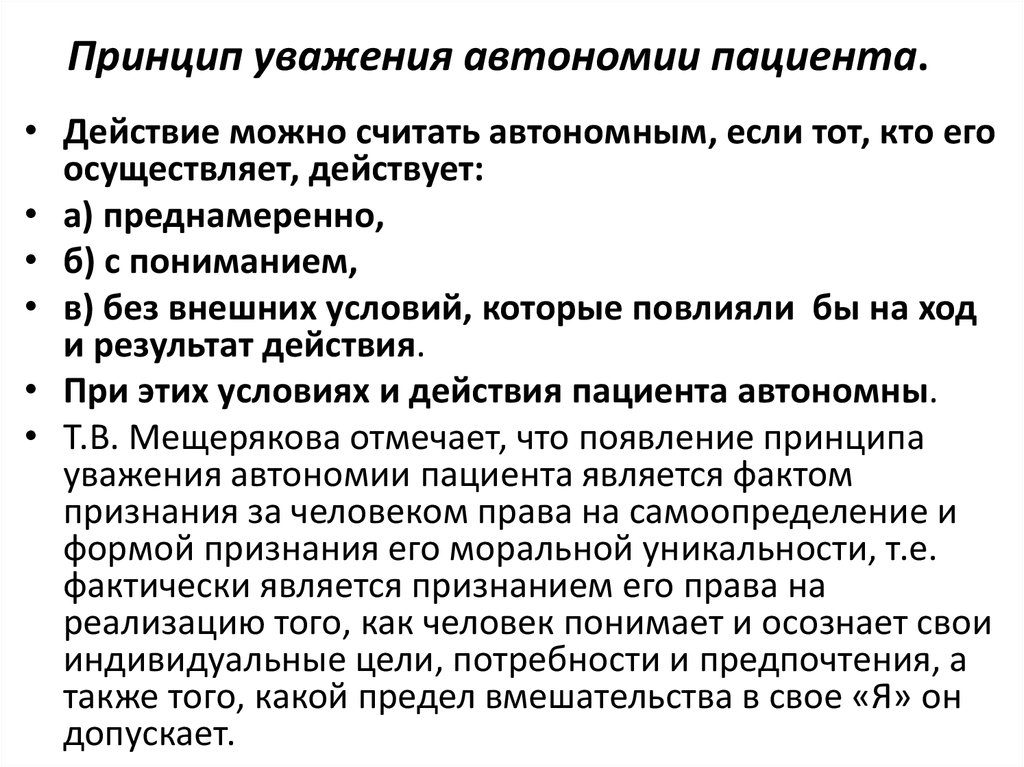 0015 человек , а также живые существа и полезные для них продукты питания. Это отношение между физическими объектами, хотя и не такое физическое отношение, как наличие большей массы или температуры.
0015 человек , а также живые существа и полезные для них продукты питания. Это отношение между физическими объектами, хотя и не такое физическое отношение, как наличие большей массы или температуры.
2. Разум как реакция на причины
Лармор спрашивает: «Каким образом причины действуют на нас, когда мы схватываем их или реагируем на них?» (65, н. 28). Ответ, который он дает, состоит в том, что у нас есть способность рассуждать, а «разум — это просто наша реакция на причины» (135). Он разделяет «убеждение Макдауэлла в том, что в опыте мир запечатлевается в нас как познаваемый мир, которым он является» (55). Разум не строит каким-то образом из своих собственных ресурсов причины, которыми мы руководствуемся; скорее, он находится на принимающем конце силы, проявляемой чем-то, к чему его исторически укоренившееся состояние предоставило ему доступ. Лармор, по-видимому, рассматривает разум как воскоподобную сущность, на которую внешние объекты производят впечатление: когда это происходит, он ничего не делает, кроме как открывается третьему миру причин, который причинно отпечатывается на нем.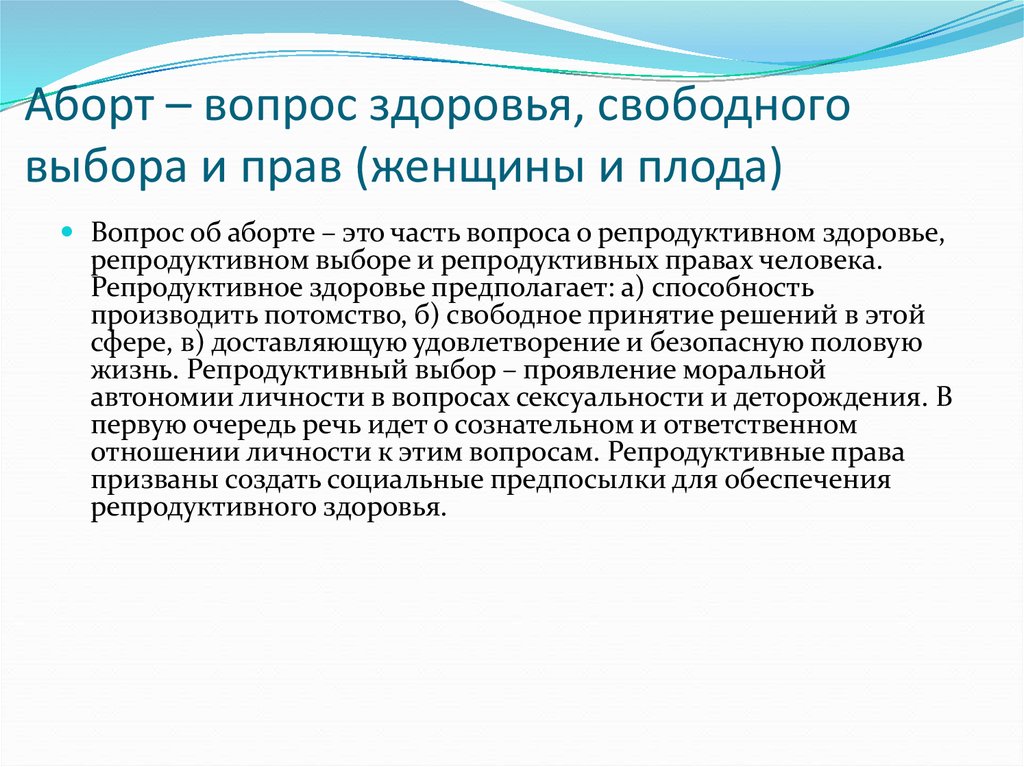
Но тезис о том, что «разум — это просто наша реакция на причины», безусловно, слишком прост, потому что это не тот случай, когда единственная сила, которой может обладать компетентная способность рассуждать, — это пассивная способность признавать убедительность разума, который имеет как-то привлечь его внимание. Мы активно выясняем, какие есть причины верить в ту или иную теорию или предпринимать тот или иной образ действий. Мы используем разум для построения теорий о мире, и некоторые из этих теорий содержат гипотезы о том, когда определенные особенности мира дают нам основания. Когда мы реагируем на причины — например. когда мы принимаем видимое страдание человека как повод помочь ему, — мы делаем это потому, что наша конфронтация с окружающей средой управляется теорией, пусть даже фрагментарной, о том, на что мы, как разумные существа, должны обращать внимание. Другими словами, наша восприимчивость к причинам не является полностью пассивным делом, а является продуктом нашего активного участия в процессе изучения того, как мы должны формировать наши намерения, убеждения и желания.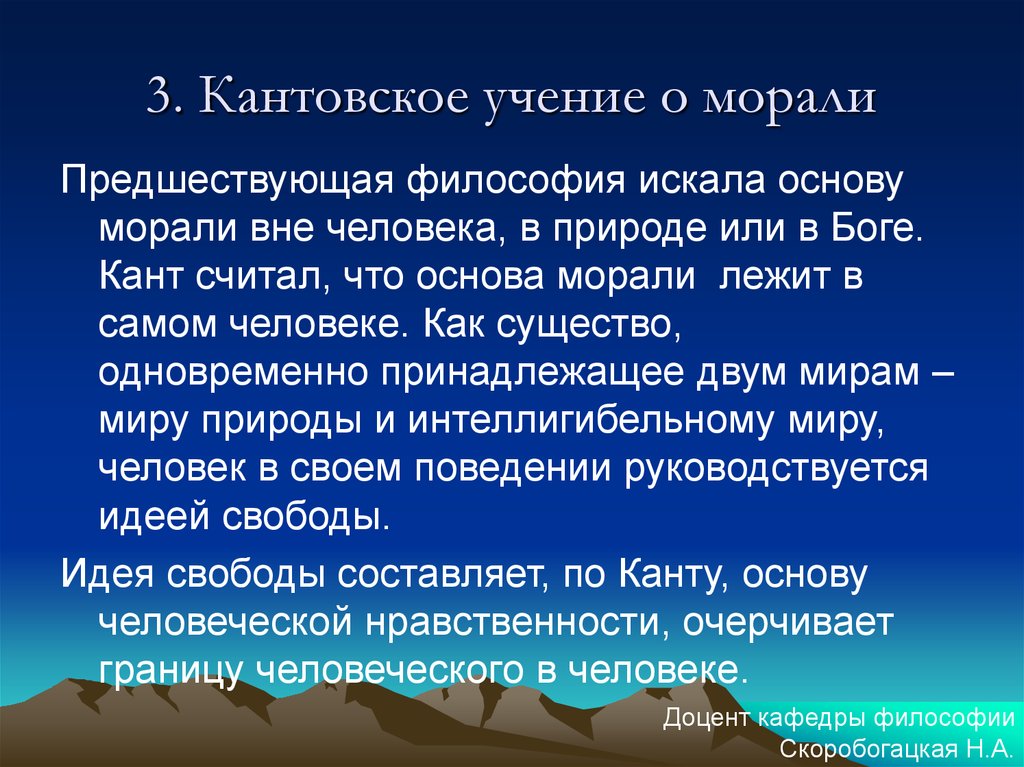 Подобно тому, как тренированные глаза в музее знают, что искать, а не просто пассивно воспринимают красоту его картин, так и практический разум является не просто восприимчивой способностью, но всегда играет активную роль в формировании своей собственной теории, о которой факторы составляют причины.
Подобно тому, как тренированные глаза в музее знают, что искать, а не просто пассивно воспринимают красоту его картин, так и практический разум является не просто восприимчивой способностью, но всегда играет активную роль в формировании своей собственной теории, о которой факторы составляют причины.
3. Мораль «говорит своим собственным голосом»
Лармор следует знаменитому эссе Причарда «Опирается ли моральная философия на ошибку?» в поиске вопроса: «Зачем быть нравственным?» непродуманным, поскольку предполагает, что моральные причины требуют проверки из источника, внешнего по отношению к моральной точке зрения. Мы просто должны быть восприимчивы к моральным причинам, потому что они сами по себе ведут к выводам о том, что мы должны делать, учитывая все обстоятельства. Конечно, Лармор допускает, что в ходе нравственной жизни можно задаться вопросом, следует ли приносить жертвы, которых иногда требуют нравственные требования. Но если кто-то задается вопросом, в каком-то конкретном случае, почему он должен платить за то, чтобы быть нравственным, единственный возможный ответ на его затруднение состоит в том, чтобы еще раз отрепетировать убедительность причин для того, чтобы делать то, что мораль теперь требует от него.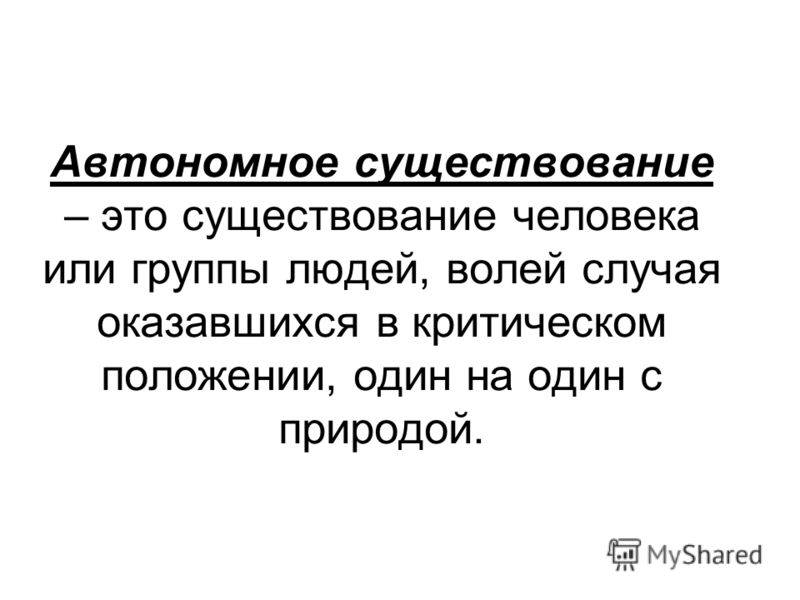 Философия не может помочь ему, обеспечивая дальнейшее обоснование моральных соображений чем-то внешним по отношению к морали, например, человеческой свободой или личным интересом. Он может попросить его признать, что моральные соображения уже сами по себе имеют нормативную силу. Это, как утверждает Лармор, является пунктом, затемненным или отрицаемым всей традицией кантианской моральной философии.
Философия не может помочь ему, обеспечивая дальнейшее обоснование моральных соображений чем-то внешним по отношению к морали, например, человеческой свободой или личным интересом. Он может попросить его признать, что моральные соображения уже сами по себе имеют нормативную силу. Это, как утверждает Лармор, является пунктом, затемненным или отрицаемым всей традицией кантианской моральной философии.
Когда Лармор утверждает автономию морали, он имеет в виду, что принцип универсальной и беспристрастной заботы о благе других имеет самостоятельный вес в качестве причины. «Моральная точка зрения… состоит в заинтересованности в чужом благе, столь же непосредственном, в такой же неопосредованной скрытыми соображениями, как и заинтересованность, которую мы естественным образом проявляем в своем собственном» (89). Это чрезвычайно требовательная концепция того, что мораль требует от нас, поскольку Лармор ясно дает понять, что благо каждого другого человека требует от меня такого же внимания, как и мое собственное (89).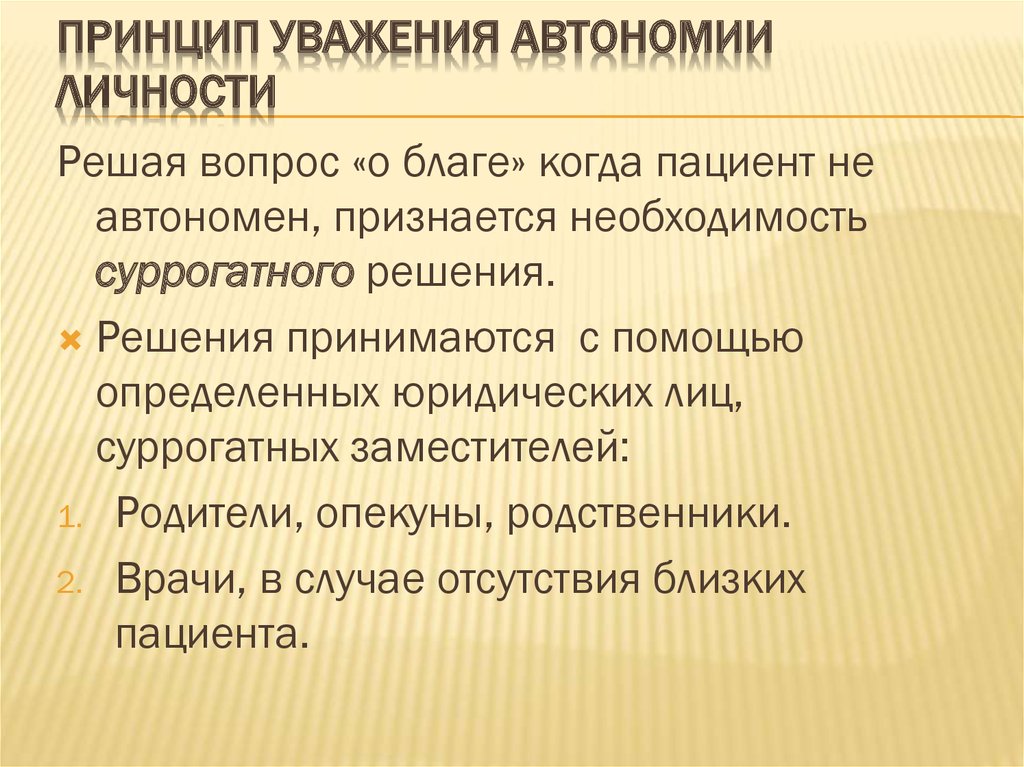 ), и, по-видимому, он считает, что мое собственное благо, по сути, является моей большой заботой. Чтобы быть полностью нравственным, я должен заботиться о каждом другом члене человеческого рода так же, как и о себе.
), и, по-видимому, он считает, что мое собственное благо, по сути, является моей большой заботой. Чтобы быть полностью нравственным, я должен заботиться о каждом другом члене человеческого рода так же, как и о себе.
А как насчет таких моральных требований здравого смысла, как выполнение обещаний, выплата долгов, правдивость, воздержание от воровства и прелюбодеяния и т. д.? Имеют ли эти моральные правила также самостоятельный вес или они представляют собой причины только в той мере, в какой помогают нам обеспечивать благо других? Следует ли, например, лгать, если это лучше всего служит благу других? Что, если выполнение обещания никому не принесет пользы? Лармор не занимается этими вопросами, но его положение шатко. Если он отрицает какой-либо самостоятельный вес этих принципов, то в некотором смысле он отрицает, что мораль — или, во всяком случае, значительная часть морали здравого смысла — «говорит своим собственным голосом». С другой стороны, если он безоговорочно одобряет всю совокупность моральных правил здравого смысла, то он не предлагает критической оценки социальных норм, действующих в чьем-либо обществе.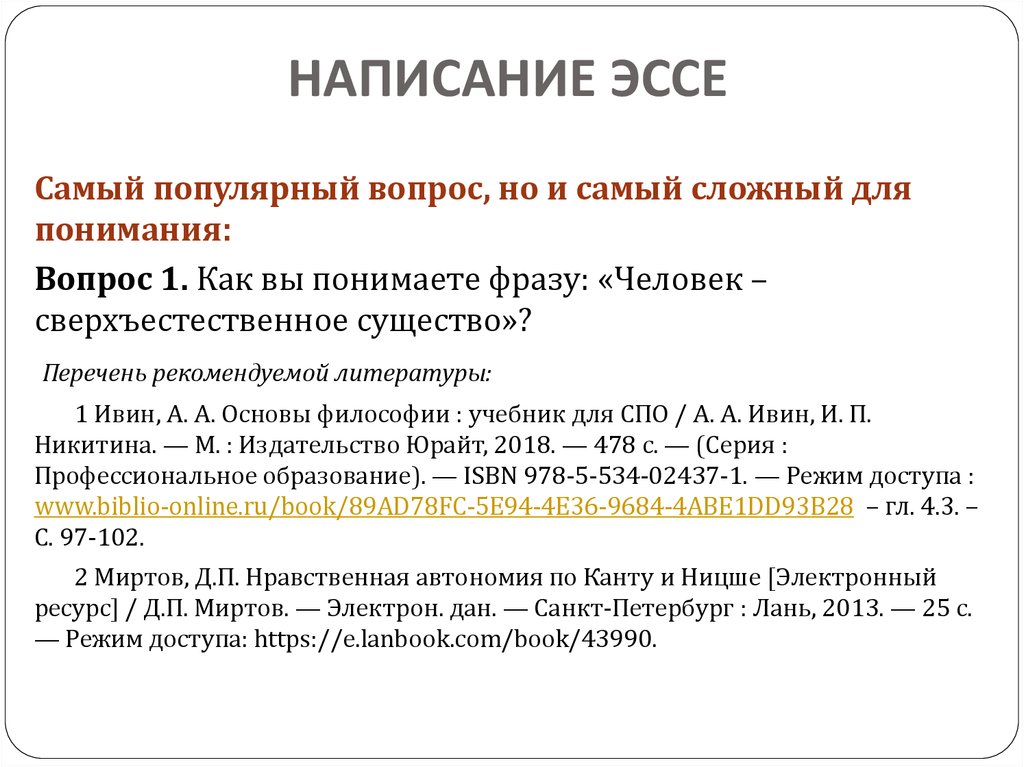
Когда Лармор говорит об интересе, который мы морально обязаны проявлять к благу «другого», я полагаю, что он говорит эллиптически: он имеет в виду благо другого человеческого существа , а не благо другого человека. все живые существа вообще. Но необходимо некоторое объяснение того, почему мораль требует такой пристрастности. Ведь есть такое понятие, как благо растений и животных. Итак, что оправдывает меньшую заботу или отсутствие заботы об их благополучии? Ответ, которому отдают предпочтение многие кантианцы, заключается в том, что человеческие существа обладают способностью, выходящей за рамки простой восприимчивости; в конце концов, животные и растения восприимчивы к миру всевозможными чудесными способами, впитывая его тепло, свет и звуки и используя окружающую их среду в свете информации, которую доставляют их чувства. Мы возвышаемся над остальной природой, потому что мы не только восприимчивы к миру, но и имеем свободу соблюдать законы, которые мы сами придумали.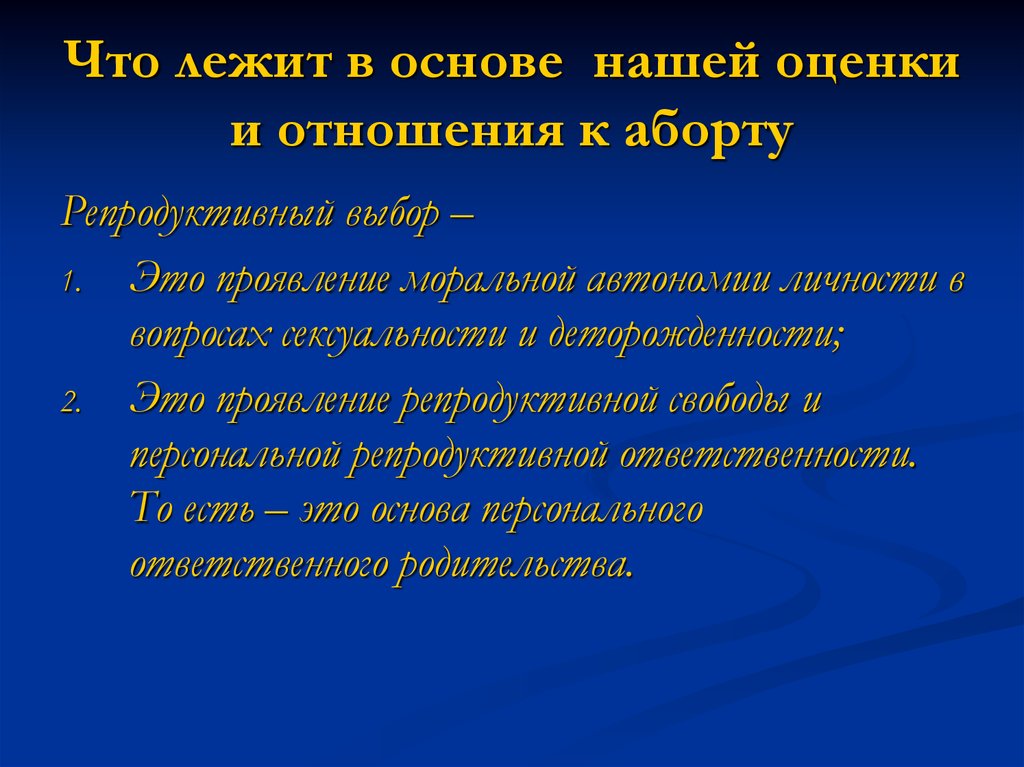 Лармор, конечно, не может дать такого ответа. Вместо этого он должен сказать, что мораль требует, чтобы мы заботились о человечестве (а не о многих других живых существах), потому что люди восприимчивы к причинам. Но почему восприимчивость существа к причинам, а не его восприимчивость ко многим другим чертам мира, имеет такое большое значение? В самом деле, можно правдоподобно утверждать, что многие животные являются восприимчивыми к причинам: сильный жар, который ощущает лев, когда он приближается к огню, является причиной, по которой он меняет курс, и поэтому его реакция на этот сигнал является реакцией на причину. Конечно, у льва нет понятия разума, но и у детей тоже.
Лармор, конечно, не может дать такого ответа. Вместо этого он должен сказать, что мораль требует, чтобы мы заботились о человечестве (а не о многих других живых существах), потому что люди восприимчивы к причинам. Но почему восприимчивость существа к причинам, а не его восприимчивость ко многим другим чертам мира, имеет такое большое значение? В самом деле, можно правдоподобно утверждать, что многие животные являются восприимчивыми к причинам: сильный жар, который ощущает лев, когда он приближается к огню, является причиной, по которой он меняет курс, и поэтому его реакция на этот сигнал является реакцией на причину. Конечно, у льва нет понятия разума, но и у детей тоже.
Лармор говорит в одном месте, не вдаваясь в подробности, что «требования морали не всегда должны быть первостепенными» (89). Если я правильно понимаю, значит, моральные принципы дают нам pro tanto причин, но что они могут быть отвергнуты, по крайней мере при определенных обстоятельствах, неморальными соображениями, имеющими большее значение. Если мораль говорит своим голосом, то и притязания на корысть тоже. Собственное благо не должно быть основано на каком-то другом соображении, чтобы приводить основания. Вероятно, то же самое можно сказать и о благе семьи, друзей, сограждан и т.д. Но такой образ мышления разрушил бы принцип Лармора, согласно которому благо каждого человеческого существа в равной степени требует внимания. Мораль, считает он, требует, чтобы я видел благо каждого человека как дающее мне некую причину — и столь же вескую причину — для действия. Но корысть также дает мне pro tanto причин, как и мои особые отношения с различными социальными кругами, к которым я принадлежу; и когда к этой смеси добавятся эти дополнительные pro tanto причин, мне будет почти нечего делать для других людей просто в силу их человечности. Мораль, как ее обычно понимают, не может быть тихим голосом среди огромной толпы. Оно перестает быть тем, за что притворяется, если слишком легко уступает место конкурирующим соображениям.
Если мораль говорит своим голосом, то и притязания на корысть тоже. Собственное благо не должно быть основано на каком-то другом соображении, чтобы приводить основания. Вероятно, то же самое можно сказать и о благе семьи, друзей, сограждан и т.д. Но такой образ мышления разрушил бы принцип Лармора, согласно которому благо каждого человеческого существа в равной степени требует внимания. Мораль, считает он, требует, чтобы я видел благо каждого человека как дающее мне некую причину — и столь же вескую причину — для действия. Но корысть также дает мне pro tanto причин, как и мои особые отношения с различными социальными кругами, к которым я принадлежу; и когда к этой смеси добавятся эти дополнительные pro tanto причин, мне будет почти нечего делать для других людей просто в силу их человечности. Мораль, как ее обычно понимают, не может быть тихим голосом среди огромной толпы. Оно перестает быть тем, за что притворяется, если слишком легко уступает место конкурирующим соображениям.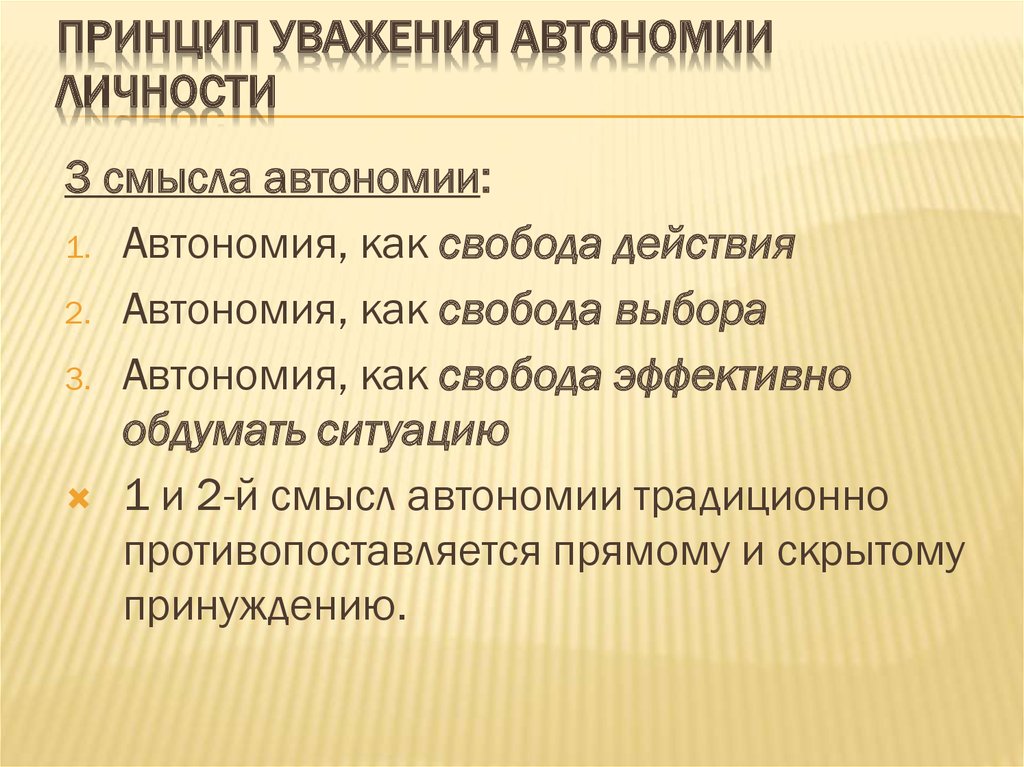 Одна из задач философской этики, которую Причард упускает из виду, состоит в том, чтобы объяснить, что вообще дает морали право на этот особый статус. Лармор не справляется с этой задачей.
Одна из задач философской этики, которую Причард упускает из виду, состоит в том, чтобы объяснить, что вообще дает морали право на этот особый статус. Лармор не справляется с этой задачей.
Ролз отвергает рациональный интуитивизм, потому что у него слишком тонкое представление о личности. Мур, например, предполагает, что можно получить существенное руководство по практическим вопросам, просто достигнув концептуальной ясности в отношении концепции добра; кроме того, не нужно никакого понимания человеческой природы или проблем социальной организации. Точно так же Лармор считает, что разум при благоприятных обстоятельствах восприимчив к тому факту, что мораль требует равной заботы о благе всех. Но точно так же, как Ролз вслед за Юмом признает, что справедливость овладевает нами только из-за умеренного дефицита и других фоновых условий, так и мы должны понимать, что наши общие обязательства перед человечеством имеют смысл только потому, что мы живем в определенном социальном мире. Люди обычно нуждаются в помощи других представителей своего вида, включая людей, с которыми у них нет кровного родства.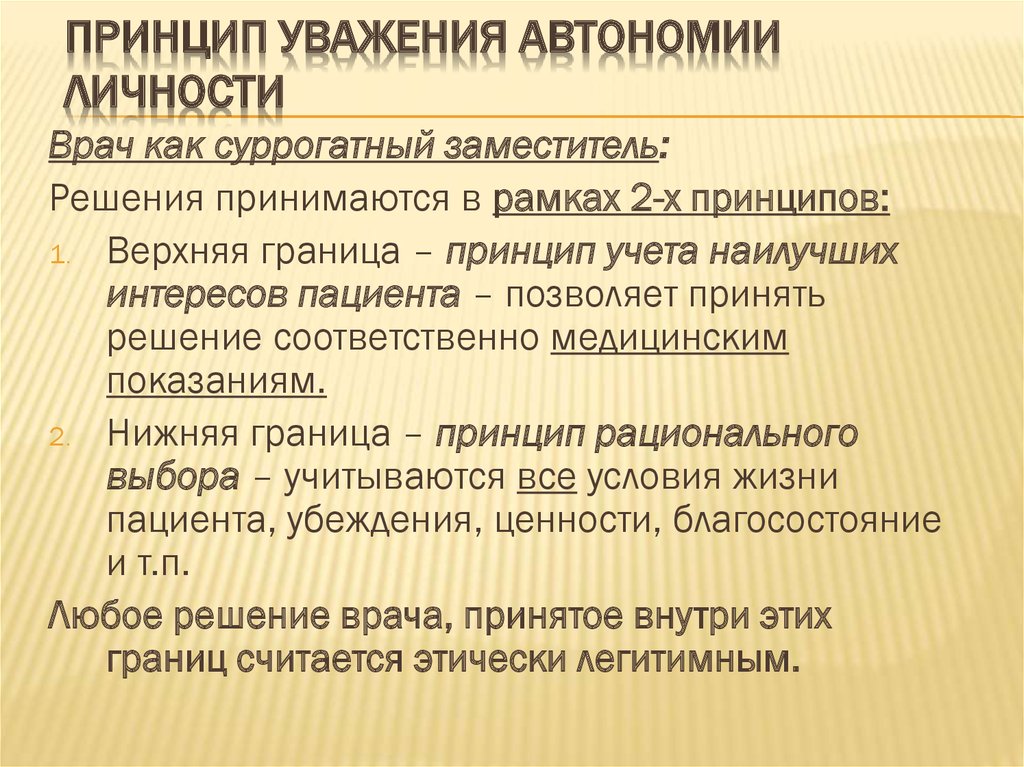 Они часто эффективны в восприятии потребностей других и в их удовлетворении. Они способны отплатить добром за добро и склонны мстить за жестокое обращение. И так далее.
Они часто эффективны в восприятии потребностей других и в их удовлетворении. Они способны отплатить добром за добро и склонны мстить за жестокое обращение. И так далее.
Легко упустить из виду эти эмпирические факты и предположить, что моральные причины имеют свою силу в отрыве от них. В этом опасность таких формулировок, как «мораль говорит сама за себя». Было бы лучше сказать, что когда моральные соображения имеют нормативную силу, они делают это потому, что им сопутствует множество других соображений. Мораль не имела бы над нами власти, если бы она часто противоречила требованиям рациональности, или если бы она постоянно и обычно требовала крайних жертв ради благополучия, или если бы она обычно приводила к результатам, увеличивающим человеческие страдания или подрывающим наши физические и психологические качества. силы. При правильном понимании оно, конечно, не истощается ни одним из этих способов. Наоборот, человеческая раса в целом находится в лучшем положении, потому что ее члены способны к моральным рассуждениям.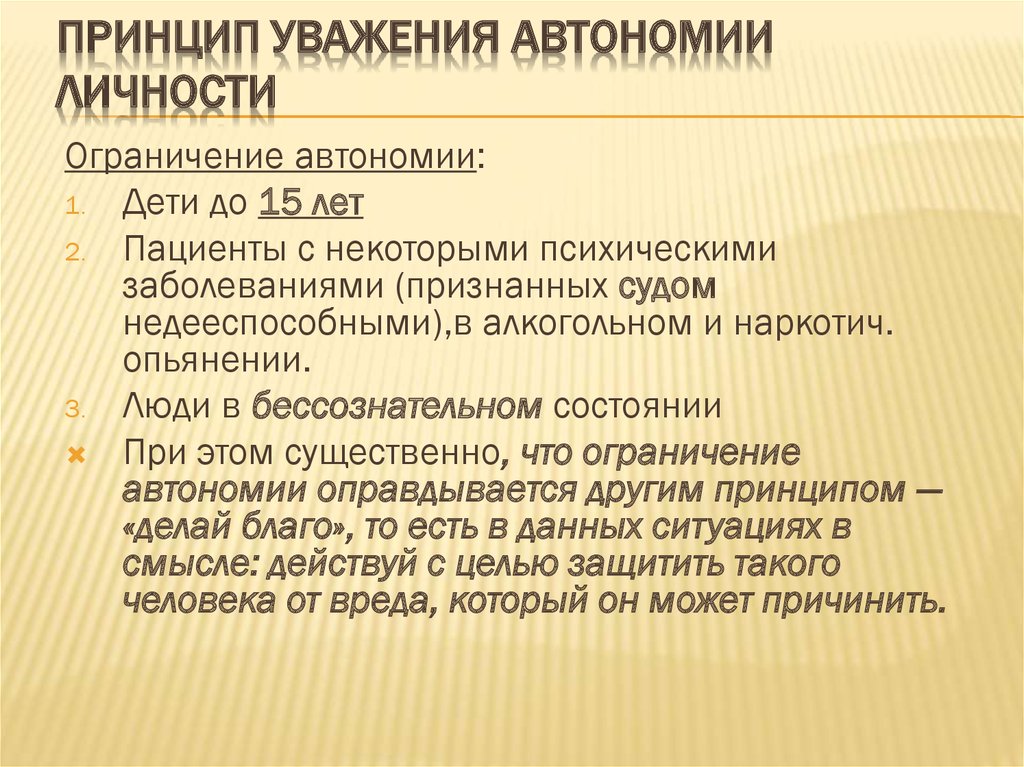 Но обратите внимание, как далека эта мысль от идеи Лармора о том, что мораль образует автономное царство доводов, запечатлевающихся в умах, которым посчастливилось их получить. Для него тот факт, что действие морально необходимо, — это все, что нам нужно знать о нем, чтобы понять, почему есть причина для его совершения. Нам не нужно встраивать этот факт в большую эмпирическую и оценочную сеть фактов. Нам не нужно спрашивать, правда ли, как я только что утверждал, что мы, как правило, живем лучше, потому что можем реагировать на моральные соображения. Ролз был прав, когда дистанцировался от этого строго узкого подхода к моральной философии. Неспособность Лармора понять причины отказа Ролза от рационального интуитивизма является слепым пятном в его концепции этики.
Но обратите внимание, как далека эта мысль от идеи Лармора о том, что мораль образует автономное царство доводов, запечатлевающихся в умах, которым посчастливилось их получить. Для него тот факт, что действие морально необходимо, — это все, что нам нужно знать о нем, чтобы понять, почему есть причина для его совершения. Нам не нужно встраивать этот факт в большую эмпирическую и оценочную сеть фактов. Нам не нужно спрашивать, правда ли, как я только что утверждал, что мы, как правило, живем лучше, потому что можем реагировать на моральные соображения. Ролз был прав, когда дистанцировался от этого строго узкого подхода к моральной философии. Неспособность Лармора понять причины отказа Ролза от рационального интуитивизма является слепым пятном в его концепции этики.
В каком-то смысле странно, что Лармор загнал себя в этот угол, потому что он определяет мораль как нечто, имеющее отношение к добру: «Мораль вообще предполагает, что чужое добро является основанием для действия с моей стороны» ( 88). К сожалению, он не выдвигает никаких взглядов на то, как понимать «чужое благо». Всегда ли мораль говорит в пользу того, чтобы делать то, что хорошо для другого человека, то есть то, что ему выгодно? Не часто ли он говорит точно против такое вмешательство в чужую жизнь? Или «чужое благо» следует понимать шире, охватывая все, что может сделать другой человек, на что есть причина? Должен ли я перед моими ближними просто в силу того, что они такие же люди, помочь им достичь того, что они считают хорошим, как бы они ни заблуждались? Это вряд ли кажется правдоподобным. Но не менее неправдоподобно предположить, что то, что я должен другим, это то, что я должен Я считаю хорошим. Возможно, тогда то, чем мы обязаны другому человеку, — это некоторое внимание к тому, что действительно является благом этого человека, а не к тому, что просто кажется (мне или ему) таковым. Но это будет пустым требованием, если оно не будет соединено с описанием того, что хорошо.
К сожалению, он не выдвигает никаких взглядов на то, как понимать «чужое благо». Всегда ли мораль говорит в пользу того, чтобы делать то, что хорошо для другого человека, то есть то, что ему выгодно? Не часто ли он говорит точно против такое вмешательство в чужую жизнь? Или «чужое благо» следует понимать шире, охватывая все, что может сделать другой человек, на что есть причина? Должен ли я перед моими ближними просто в силу того, что они такие же люди, помочь им достичь того, что они считают хорошим, как бы они ни заблуждались? Это вряд ли кажется правдоподобным. Но не менее неправдоподобно предположить, что то, что я должен другим, это то, что я должен Я считаю хорошим. Возможно, тогда то, чем мы обязаны другому человеку, — это некоторое внимание к тому, что действительно является благом этого человека, а не к тому, что просто кажется (мне или ему) таковым. Но это будет пустым требованием, если оно не будет соединено с описанием того, что хорошо.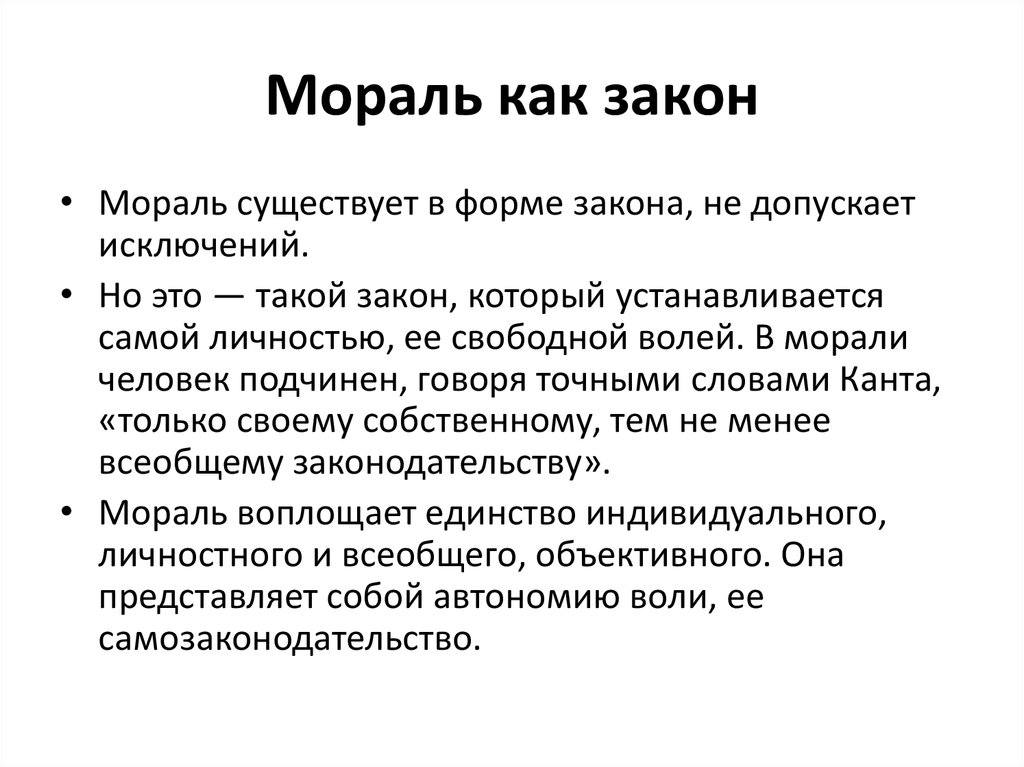 В отсутствие такого объяснения слова Лармора — «мораль предполагает, что чужое добро является основанием для действия» — не несут ничего существенного. Ему остается только тавтология, что мораль требует, чтобы мы относились к другим так, как должны.
В отсутствие такого объяснения слова Лармора — «мораль предполагает, что чужое добро является основанием для действия» — не несут ничего существенного. Ему остается только тавтология, что мораль требует, чтобы мы относились к другим так, как должны.
Один из способов избежать трудностей, с которыми столкнулся подход Лармора, состоит в том, чтобы заново взглянуть на возможность, которую он отбрасывает, а именно на то, что один из способов объяснить, почему определенные причины являются причинами, состоит в том, чтобы признать, как социальные институты сами могут создавать причины. Может быть, другими словами, нормативные причины не все из них «все равно существуют», т. е. независимы от человеческой деятельности; возможно, некоторые из них являются продуктами человеческих ожиданий и практик. Предположим, например, что у нас есть базовое обязательство подчиняться действующим правовым правилам нашего сообщества; в этом случае причиной того, что у одного гражданина есть причина обращаться с другим гражданином определенным образом, является то, что закон требует от него этого. Есть ли у нас обязанность подчиняться закону, конечно, спорный вопрос, но нет ничего бессвязно в идее, что иногда причиной того, что у кого-то есть причина, является социальная практика.
Есть ли у нас обязанность подчиняться закону, конечно, спорный вопрос, но нет ничего бессвязно в идее, что иногда причиной того, что у кого-то есть причина, является социальная практика.
Из этого не следует, что все причин являются, таким образом, общественными творениями. То, что является благом для человека, по-видимому, фиксируется фактами, не зависящими от социальных институтов; но то, что является морально обязательным , может, как и то, что требуется по закону, определяться чертами, явными или неявными, в господствующих нормах, которые управляют индивидуумом, на которого ложится обязательство. (Например, вы должны сдержать это конкретное обещание, потому что, согласно преобладающим социальным нормам, действие, которое вы совершили, представляло собой bona fide обещание, и никто не стал бы считать ваши нынешние обстоятельства обстоятельствами, освобождающими вас от ваших обязательств.) Если бы это было так, то процесс, посредством которого мы узнаем, какие моральные причины у нас есть, по крайней мере в некоторых случаях, быть сродни процессу, посредством которого компетентный судья учится толковать закон. Навык морального рассудителя будет приобретаться за счет сложной комбинации интерпретирующих, творческих и совещательных социальных навыков. Это кажется мне правдоподобной картиной того, как мы на самом деле становимся познающими мораль (когда нам это удается). Он избегает идеи, которую Лармор считает первородным грехом кантовской традиции, что акты чистой коллективной воли, не основанные на внешних по отношению к воле причинах, могут сами по себе привести к возникновению моральных причин. Причины могут быть социальными продуктами, но не произвольными постулатами.
Навык морального рассудителя будет приобретаться за счет сложной комбинации интерпретирующих, творческих и совещательных социальных навыков. Это кажется мне правдоподобной картиной того, как мы на самом деле становимся познающими мораль (когда нам это удается). Он избегает идеи, которую Лармор считает первородным грехом кантовской традиции, что акты чистой коллективной воли, не основанные на внешних по отношению к воле причинах, могут сами по себе привести к возникновению моральных причин. Причины могут быть социальными продуктами, но не произвольными постулатами.
4. Ролз
Лармора не привлекает использование Ролзом традиции общественного договора. «Контрактная идиома, возможно, была ошибкой, поскольку сама идея контракта кажется излишней и запутанной» (75). Таким образом, не аппарат исходной позиции вдохновляет его на верность концепции Ролза, а идея о том, что в легитимном государстве самые фундаментальные принципы должны быть сформулированы в терминах, прозрачных для разума всех граждан, как бы глубоко они ни разделялись.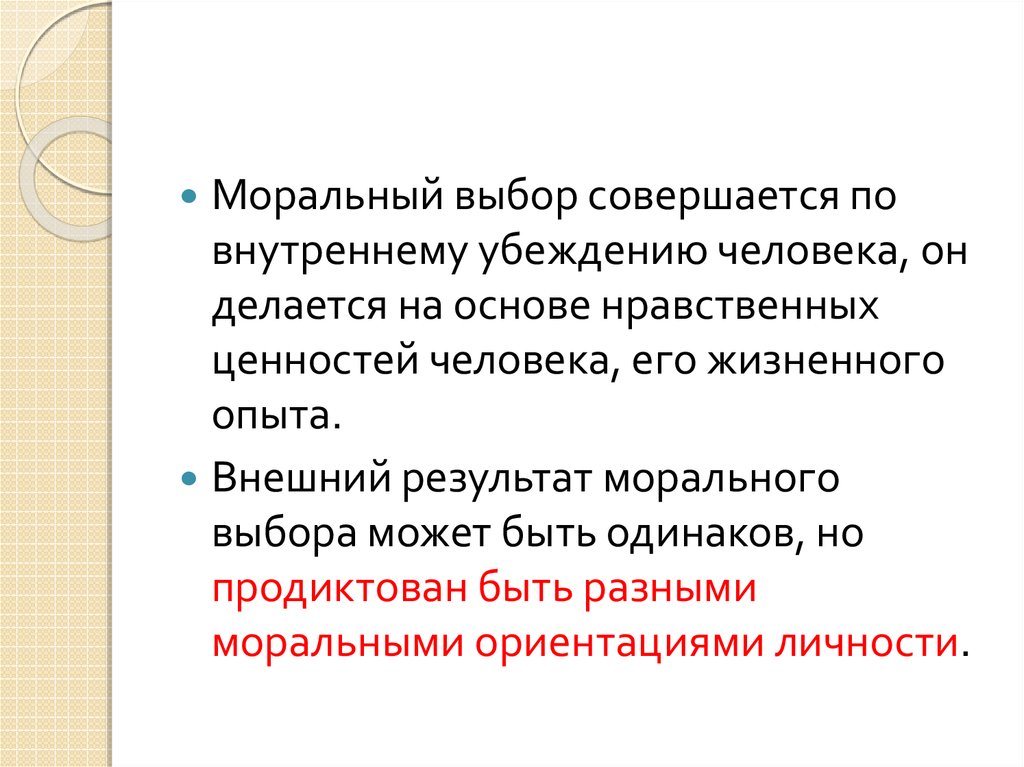 они касаются моральных и религиозных вопросов (как мы можем ожидать от них, когда они живут в условиях свободы). Ключевым моментом для Лармора является то, что законы государства имеют принудительную силу, и неправильно угрожать людям наказанием, если закон, который они будут нарушать, является законом, оправдание которого недоступно их разуму.
они касаются моральных и религиозных вопросов (как мы можем ожидать от них, когда они живут в условиях свободы). Ключевым моментом для Лармора является то, что законы государства имеют принудительную силу, и неправильно угрожать людям наказанием, если закон, который они будут нарушать, является законом, оправдание которого недоступно их разуму.
Он делает вывод, что фундаментальная структура государства «должна оставаться нейтральной по отношению к всеобъемлющим идеалам человеческого блага, с которыми граждане, естественно, склонны не соглашаться» (194). Но есть большая разница между (а) утверждением, что государство утратит свою легитимность, если оно будет угрожать гражданам наказанием за несоблюдение (например) догматов католицизма, и (б) утверждением, что конституция легитимного государства не может создавать институты, предназначенные для убеждения граждан в истинности католического учения. Даже если мы принимаем (а), это само по себе не является причиной для принятия (б). Какая же тогда причина принимать идею, играющую столь важную роль в либерализме Ролза, что основные термины политики не должны быть взяты из той или иной религиозной или моральной традиции? Если мы не скептически относимся к способности человеческого разума приходить к истине об основных моральных вопросах — а ни Ролз, ни Лармор не выражают такого скептицизма, потому что это подорвало бы их собственные идеи, — то почему такие истины не должны преподаваться кем бы то ни было? институты наиболее эффективны в их обучении? Конечно, есть причины сомневаться в том, что государство может быть компетентным и эффективным учителем религиозной истины. Но неизбежно ли такое ослабление правительств — это эмпирический вопрос. Ролз и Лармор считают, что даже если бы государство могло заставить детей понять и принять религиозные (или этические) истины, оно не должно этого делать. Но Лармор слишком близок к мышлению Ролза, чтобы понять, что на этот вопрос в трудах Ролза нет хорошего ответа.
Какая же тогда причина принимать идею, играющую столь важную роль в либерализме Ролза, что основные термины политики не должны быть взяты из той или иной религиозной или моральной традиции? Если мы не скептически относимся к способности человеческого разума приходить к истине об основных моральных вопросах — а ни Ролз, ни Лармор не выражают такого скептицизма, потому что это подорвало бы их собственные идеи, — то почему такие истины не должны преподаваться кем бы то ни было? институты наиболее эффективны в их обучении? Конечно, есть причины сомневаться в том, что государство может быть компетентным и эффективным учителем религиозной истины. Но неизбежно ли такое ослабление правительств — это эмпирический вопрос. Ролз и Лармор считают, что даже если бы государство могло заставить детей понять и принять религиозные (или этические) истины, оно не должно этого делать. Но Лармор слишком близок к мышлению Ролза, чтобы понять, что на этот вопрос в трудах Ролза нет хорошего ответа.
Помимо того, что Лармор подвергает сомнению контрактуализм и неприятие Ролзом реализма моральных интуитивистов, Лармор возражает против конкретной теории блага, разработанной в главе VII книги «Теория справедливости» , а затем адаптированной с изменениями в Политический либерализм .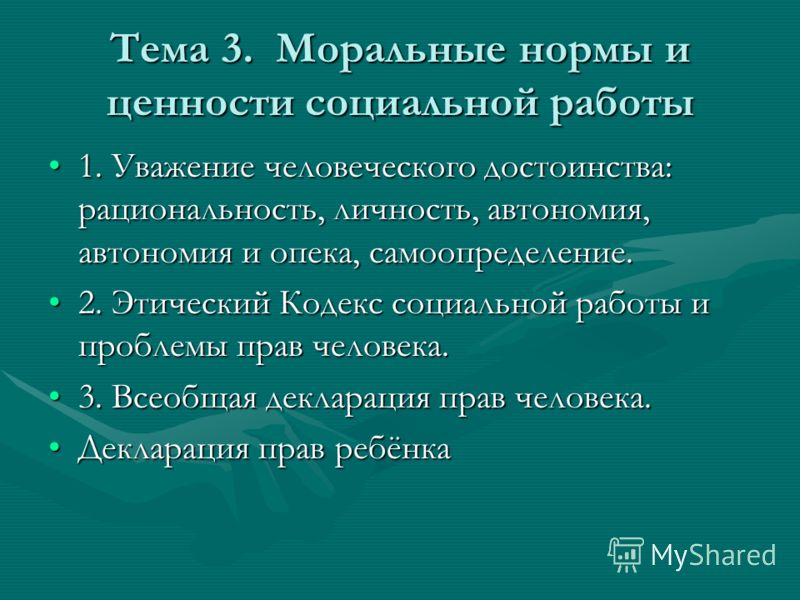 Любопытно, что он не поднимает очевидного вопроса, который возник бы у любого политического философа Ролза, принявшего ларморовскую критику «добра как рациональности» (как Роулз называет свою теорию): если бы что не является теорией добра, которая должна определять фундаментальные предположения политического дискурса, тогда что? Есть ли какая-нибудь лучшая теория добра, которую можно было бы использовать в политических целях? Или политический дискурс вообще не должен основываться на каких-либо предположениях о добре, как полагал Ролз? В The Autonomy of Morality нет указаний на то, как следует решать эти вопросы.
Любопытно, что он не поднимает очевидного вопроса, который возник бы у любого политического философа Ролза, принявшего ларморовскую критику «добра как рациональности» (как Роулз называет свою теорию): если бы что не является теорией добра, которая должна определять фундаментальные предположения политического дискурса, тогда что? Есть ли какая-нибудь лучшая теория добра, которую можно было бы использовать в политических целях? Или политический дискурс вообще не должен основываться на каких-либо предположениях о добре, как полагал Ролз? В The Autonomy of Morality нет указаний на то, как следует решать эти вопросы.
Насколько убедительна критика Лармором добра как рациональности? Его главная мысль состоит в том, что все благо человека не может быть охвачено разумным планом жизни, потому что некоторые блага по самой своей природе удивительны — они случаются с нами неожиданно. И даже то, что некоторые блага первого порядка возникают таким образом, является даже благом второго порядка, ибо «наша жизнь была бы беднее, если бы наше счастье развивалось совершенно по плану» (252).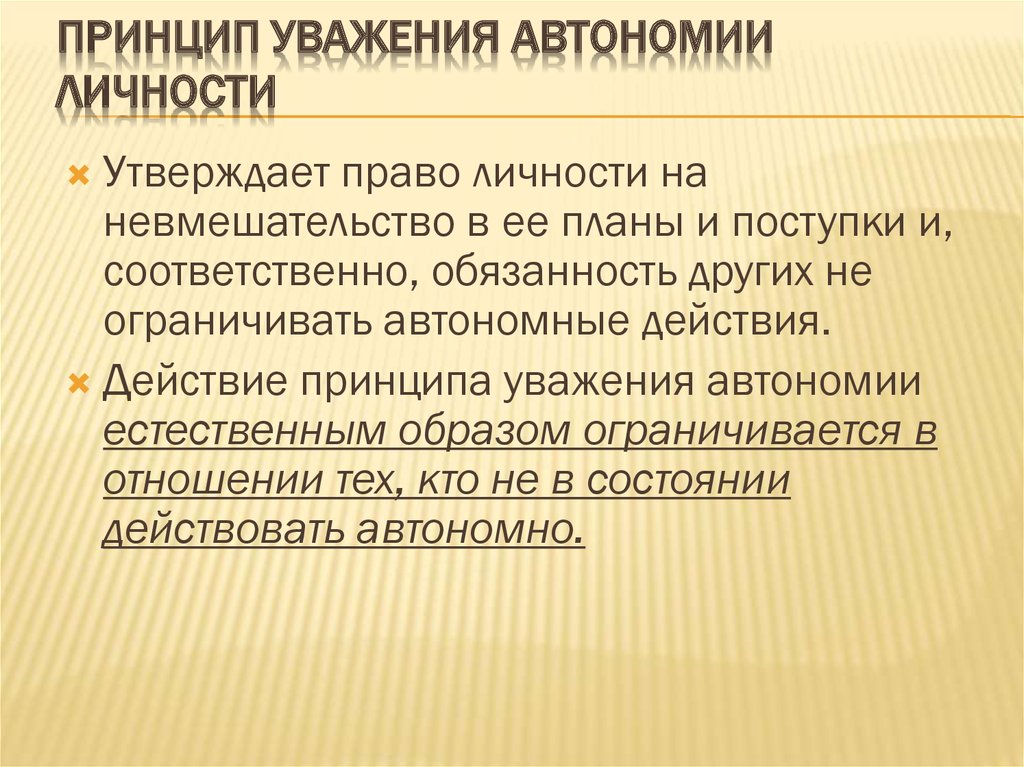 Я согласен. Родители, например, не должны хотеть знать во всех подробностях, какими будут их дети, когда они станут взрослыми. Часть удовольствия от воспитания детей оказывается для них неожиданностью. Точно так же, когда мы планируем посетить город, которого раньше не видели, мы должны радоваться не только тому, что ожидаем найти, но и любым непредсказуемым достопримечательностям, имеющим для нас личное значение.
Я согласен. Родители, например, не должны хотеть знать во всех подробностях, какими будут их дети, когда они станут взрослыми. Часть удовольствия от воспитания детей оказывается для них неожиданностью. Точно так же, когда мы планируем посетить город, которого раньше не видели, мы должны радоваться не только тому, что ожидаем найти, но и любым непредсказуемым достопримечательностям, имеющим для нас личное значение.
Однако не очевидно, что этот пункт создает серьезную трудность для Ролза, потому что он не утверждает, что хорошо только выполнение действительного плана; скорее, хорошо то, что кто-то « выбрал бы с обдуманной рациональностью» (« Теория справедливости» , 2-е изд., 366, курсив мой). Когда мы приятно удивляемся тому, что непредсказуемо, мы не выбирали события, которые происходят, но даже в этом случае мы бы выбрали их. Конкретные пути развития наших детей не были чем-то, что мы планировали, но теперь, когда эти события произошли, мы можем сказать, что мы планировали их, если бы мы их предвидели и если бы было необходимо формирование плана для обеспечения их наступления. Мы можем радоваться, что не все хорошее на самом деле нуждается в нашем предварительном знании и подготовке. Идея Ролза, однако, состоит не в том, что все хорошее требует предварительной подготовки, а в том, что все хорошее является чем-то, что мы должны планировать, если планирование необходимо для его достижения.
Мы можем радоваться, что не все хорошее на самом деле нуждается в нашем предварительном знании и подготовке. Идея Ролза, однако, состоит не в том, что все хорошее требует предварительной подготовки, а в том, что все хорошее является чем-то, что мы должны планировать, если планирование необходимо для его достижения.
5. Заключение
Аргументы Лармора нуждаются в разработке и более полной защите, если высказанная здесь критика имеет хоть какое-то обоснование. Тем не менее, любой читатель книги Автономия морали признает ее фундаментальным вкладом в моральную и политическую философию. Он решает самые глубокие этические вопросы с впечатляющей оригинальностью и смелостью; в политической философии он оценивает как отрицательно, так и положительно основные идеи мыслителя, который больше всех среди писателей двадцатого века сделал для возрождения и обогащения этой области. Эссе Лармора замечательны не только своей смелостью и глубиной, но и элегантностью и точностью, с которой они написаны.