определение и типы — Санкт-Петербургский государственный университет!
TY — JOUR
T1 — Нравственная культура: определение и типы
AU — Артемов, Георгий Петрович
PY — 2016
Y1 — 2016
N2 — В статье рассматриваются различные трактовки понятия «нравственная культура», существующие в современной научной литературе. На основе сравнительного анализа этих трактовок предлагается теоретическая модель, в рамках которой нравственная культура социального сообщества определяется как способ поддержания отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми, а нравственная культура личности – как способность отдельных членов социального сообщества поддерживать отношения взаимного доверия, уважения и взаимопомощи друг с другом. В статье также выделяются различные типы нравственной культуры, соответствующие основным стадиям исторического развития общества: доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной. В соответствии с доминирующими на этих стадиях историческими видами морали (традиционный, рациональный и пострациональный) в статье предлагается выделить три типа нравственной культуры: культуру подражания, культуру подчинения и культуру убеждения. В реальном нравственном поведении представителей различных социальных сообществ перечисленные типы нравственной культуры проявляются в разных пропорциях, но их объединяет то, что все они в той или иной степени способствуют поддержанию отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми. В то же время эти типы нравственной культуры в различной степени препятствуют распространению взаимной подозрительности, пренебрежения и безразличия в социальном взаимодействии людей.
AB — В статье рассматриваются различные трактовки понятия «нравственная культура», существующие в современной научной литературе. На основе сравнительного анализа этих трактовок предлагается теоретическая модель, в рамках которой нравственная культура социального сообщества определяется как способ поддержания отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми, а нравственная культура личности – как способность отдельных членов социального сообщества поддерживать отношения взаимного доверия, уважения и взаимопомощи друг с другом. В статье также выделяются различные типы нравственной культуры, соответствующие основным стадиям исторического развития общества: доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной. В соответствии с доминирующими на этих стадиях историческими видами морали (традиционный, рациональный и пострациональный) в статье предлагается выделить три типа нравственной культуры: культуру подражания, культуру подчинения и культуру убеждения. В реальном нравственном поведении представителей различных социальных сообществ перечисленные типы нравственной культуры проявляются в разных пропорциях, но их объединяет то, что все они в той или иной степени способствуют поддержанию отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми. В то же время эти типы нравственной культуры в различной степени препятствуют распространению взаимной подозрительности, пренебрежения и безразличия в социальном взаимодействии людей.
В статье также выделяются различные типы нравственной культуры, соответствующие основным стадиям исторического развития общества: доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной. В соответствии с доминирующими на этих стадиях историческими видами морали (традиционный, рациональный и пострациональный) в статье предлагается выделить три типа нравственной культуры: культуру подражания, культуру подчинения и культуру убеждения. В реальном нравственном поведении представителей различных социальных сообществ перечисленные типы нравственной культуры проявляются в разных пропорциях, но их объединяет то, что все они в той или иной степени способствуют поддержанию отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми. В то же время эти типы нравственной культуры в различной степени препятствуют распространению взаимной подозрительности, пренебрежения и безразличия в социальном взаимодействии людей.
KW — мораль, нравственная культура, типы нравственной культуры
M3 — статья
VL — 1
SP — 75
EP — 91
JO — Дискурсы этики
JF — Дискурсы этики
SN — 2306-9430
IS — 12
ER —
Нравственная культура как ценностно-смысловая система Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»
ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2012 Философия. Психология. Социология Выпуск 3 (11)
УДК 008
НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СИСТЕМА
Е.Н. Яркова
Предложена оригинальная типология нравственной культуры как ценностно-смысловой системы. Ключевые слова: нравственная культура; типология; традиционализм; утилитаризм; креативизм.
В широком — феноменальном — смысле нравственную культуру можно определить как форму культуры, объединяющую такие культурные феномены, как обычаи, нравы, мораль, этика, этикет, этос, т. е. как совокупность культурных институтов, призванных выполнять прямо или косвенно функцию нормативной регуляции общества.
е. как совокупность культурных институтов, призванных выполнять прямо или косвенно функцию нормативной регуляции общества.
В узком — ноуменальном — смысле нравственная культура предстает как система ценностей и смыслов, составляющих нормативнорегулятивный уровень культуры и соответственно сущностное основание этики, морали, нравственности и т.д.
Существенная особенность нравственной культуры — ее аттрактивная роль в культуре. Едва ли не общим местом в культурологической литературе является квалификация нравственной культуры как ведущей формы культуры. Например, Ахиезер рассматривает нравственность как определяющий аспект культуры, как форму культуры, дающую основание человеческой деятельности от личности до общества, от малой группы до всего человечества [1, с. 299-300]. Нечто похожее находим у Швейцера, утверждающего, что «среди сил, формирующих действительность, нравственность является первой» [23, с. 115]. В чем причина лидирующей роли нравственной культуры относительно иных форм культуры?
Очевидно в том, что нравственная культура вездесуща, она выступает как некий вечный спутник человеческой деятельности вне зависимости от ее сферы. При этом нравственная культура не просто атрибутивное свойство человеческого действия, она его компас и главный ориентир. Нравственная культура — ядро
культуры, вокруг которого вращаются другие формы культуры — политическая, экономическая, научная, художественная.
Высокая значимость нравственной культуры рождает такое достаточно широко бытующее в культурологическом знании явление, как редукция культуры как таковой к нравственной культуре. Такого рода мыслительная процедура осуществляется посредством отождествления нравственности с культурой и трактовки безнравственных явлений как некультуры или антикультуры.
Важен еще один момент — нравственная культура есть форма культуры, в которой ценностно-смысловые основания культуры предстают в наиболее обнаженном, «чистом» виде. Более того, этика, мораль — культурные феномены, в рамках которых артикулируются аксиологические основания культуры, ее сущностное содержание. Этику как важнейший элемент нравственной культуры можно рассматривать как самосознание культуры, ее внутреннюю саморефлексию. Поэтому, как представляется, наиболее короткий путь выявления специфики той или иной исторически сложившейся культуры-цивилизации — анализ ее нравст-
Яркова Елена Николаевна — доктор философских наук, профессор кафедры философии; Тюменский государственный университет; 625003, Тюмень, ул. Семакова, 10; fellowsoldier86@mail.ru.
венного содержания, нравственных идеалов и норм.
В структурном плане нравственная культура представляет собой сложную конструкцию, которую можно рассматривать с разных позиций, выделяя разные ее уровни и элементы.
Исходной позицией структурного анализа нравственной культуры, очевидно, должна выступать позиция феноменализма, выделяющая в пространстве нравственной культуры различные ее формы, социальные, этнические и т.д. модификации. Как представляется, нравственная культура являет собой единство трех основных ее форм, отличающихся по степени рефлексивного осмысления бытующих нравственных норм: обыденную нравственность, мораль и этику.
Исторически наиболее ранней формой нравственной культуры, по общему убеждению историков, культурологов, антропологов, являются прорастающие на почве архаики обыденные нравы. История их возникновения уходит корнями в эпоху палеолита. Ю.М. Бородай полагает, что тайна превращения биологического стада в простейший общественный организм заключается в постепенном становлении сверхбиологических принципов объединения, нравственных самоограничений — табу [5, с. 85].
Мораль как начальный уровень рефлексивного осмысления бытующих нравственных норм, как «отцеженная, уплотненная и засохшая в нормы и предписания форма нравственности» (Библер) возникает значительно позднее обыденных нравов. Рождение в человеческом сознании способности критического отношения к сущему и противопоставления ему некоторого идеального должного порядка
О.Г. Дробницкий связывает с периодом расшатывания родо-общинных отношений [9, с. 80].
Позднее морали возникает этика. Будучи одним из продуктов культуры «осевого времени», она появляется вследствие актуализации
абстрактно-логического, рационалистического, критического по своему духу мышления. Этика — «неспокойная совесть морали» (Т.В. Адорно) — формируется как рефлексия второго порядка, теория морали, объясняющая, аргументирующая и систематизирующая моральные принципы. Действительно, с определенного момента мораль начинает нуждаться в обосновании разумом, ей становится необходима санкция разума на то, чтобы называться моралью.
Помимо нравственности, морали и этики как основных форм нравственной культуры, существуют и иные формы. В частности, этос, который современные авторы рассматривают как промежуточный уровень между изменчивыми, пестрыми нравами и собственно моралью, между «сущим» и «должным», как «полу-мораль», «полунравы», «полуэтика» [2, с. 3740]; и этикет, традиционно определяемый как формализованная нравственность.
Разумеется, феноменалистический план структурного анализа нравственной культуры не ограничен выделением основных ее форм. Нравственная культура являет собой необычайное богатство культурных феноменов. Можно дифференцировать и специфицировать нравственную культуру исходя из ее принадлежности к определенному социальному сегменту, религиозной традиции, профессиональной группе, этнической общности, личности и т.д.
В ноуменальном плане нравственная культура представляется как система ценностей и смыслов, лежащих в основании любой, безотносительно к ее предмету, деятельности и взаимодействия людей. Ценностно-смысловое содержание нравственной культуры оформляется при помощи системы некоторых лексических единиц, которые на уровне этикофилософской рефлексии рассматриваются как фундаментальные этические понятия, или универсалии.
Одно из такого рода лексем-понятий — «высшее благо», которое определяется как высшая ценность, — метасмысл нравственной
культуры. Высшее благо интерпретируется как источник всех благ и конечная цель всех устремлений. Синонимичным лексеме-понятию «высшее благо» выступает понятие «добро», которое, подобно понятию «благо», является не только ценностным, но и оценочным понятием, обозначающим не только сам образец, но позитивную роль чего-либо в его отношении к образцу.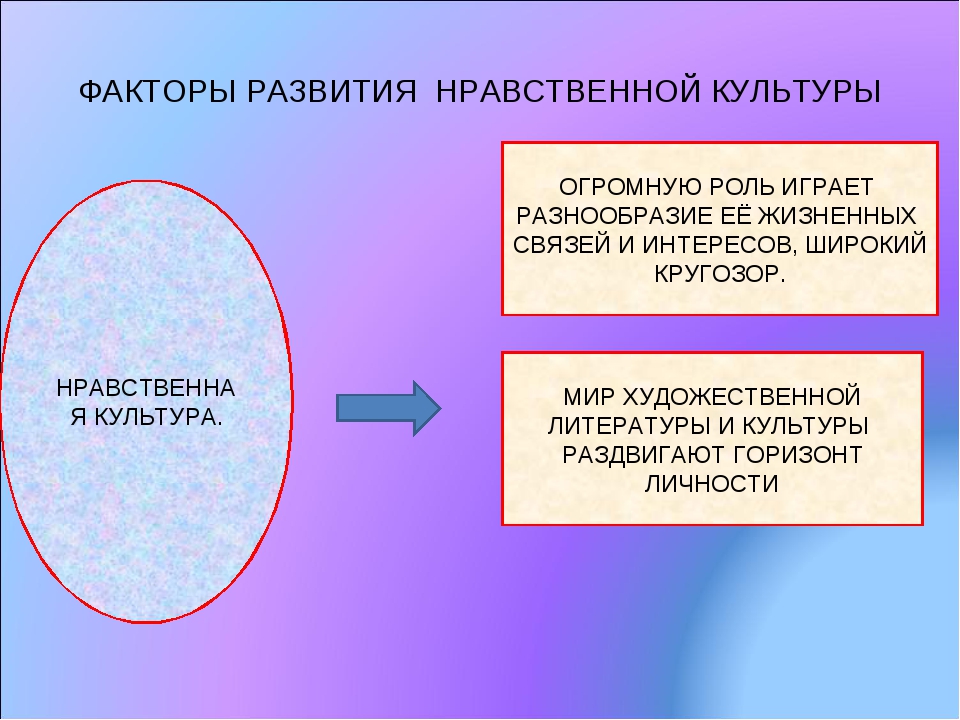 Вместе со своей антитезой — злом — добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, отвечающего содержанию требований нравственности и противоречащего им. С помощью идеи добра оценивают действия отдельных лиц и социальную практику. Понятие «добро» сопрягается с понятием «добродетель». Добродетель интерпретируется как деятельностное воплощение добра, способность и готовность следовать добру и, соответственно, мера морального совершенства человека. Именно через добродетель человек приближается к высшему благу — добру. Понятие «добродетель», в свою очередь, соотносится с понятием «должное», которое может конкретизироваться как нравственный долг. Должное обусловлено добром как ценностью, и, наоборот, добро превращается в добродетель как деятельностное исполнение человеком долга. Наконец, значимой этической универсалией является понятие «идеал», интерпретируемое как высшая цель деятельности, как наиболее общее представление о должном, а в нормативном плане как нравственный эталон личности.
Вместе со своей антитезой — злом — добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, отвечающего содержанию требований нравственности и противоречащего им. С помощью идеи добра оценивают действия отдельных лиц и социальную практику. Понятие «добро» сопрягается с понятием «добродетель». Добродетель интерпретируется как деятельностное воплощение добра, способность и готовность следовать добру и, соответственно, мера морального совершенства человека. Именно через добродетель человек приближается к высшему благу — добру. Понятие «добродетель», в свою очередь, соотносится с понятием «должное», которое может конкретизироваться как нравственный долг. Должное обусловлено добром как ценностью, и, наоборот, добро превращается в добродетель как деятельностное исполнение человеком долга. Наконец, значимой этической универсалией является понятие «идеал», интерпретируемое как высшая цель деятельности, как наиболее общее представление о должном, а в нормативном плане как нравственный эталон личности.
Разумеется, названные понятия очерчивают лишь общие контуры концептуального каркаса нравственной культуры. Кроме этого, структура, обозначенная названными лексемами, является своего рода «пустой структурой» — заполняемой различным ценностно-смысловым содержанием. Нравственная культура исторически и социально изменчива. Каждая нравственная традиция дает свое смысловое наполнение понятиям блага, добра, добродетели, долга, идеала. Собственно говоря, нравственную культуру человечества можно представить как некие грандиозные вариации basso ostinato — на неизменный бас.
Многообразие ценностно-смысловых модификаций нравственной культуры делает чрезвычайно актуальной их типологию. Только посредством отнесения к неким идеальным ти-
пам возможно выявление специфических особенностей нравственной культуры той или иной эпохи, того или иного социального слоя, той или иной конфессиональной общности или профессиональной группы.
Собственно говоря, сама идея типологии нравственной культуры достаточно нетривиальна, поскольку традиционно типизировалась не нравственная культура, но лишь ее части — нравственность, мораль, этика. Современная учебная литература по этике предлагает типизацию нравственности по историкосоциальному критерию, мораль и этика чаще всего типизируется по персоналиям или этикофилософским школам [24].
В отечественной этико-философской мысли XX века лидирующие позиции занимал формационный подход, в рамках которого специфика нравственной культуры того или иного социального слоя определялась его местом в системе производственных отношений [14]. Нельзя отрицать эвристичности формационного подхода, объяснительный потенциал которого едва ли исчерпан. Однако, фокусируя внимание на социально-экономических аспектах дифференциации нравственной культуры, он в той или иной степени нивелирует ее ценностносмысловые аспекты, следовательно, до конца не раскрывает ее содержательную специфику. Такого рода специфика может быть выявлена посредством апелляции к семантико-
аксиологическому критерию, в рамках которого акцентировались бы не социальноэкономические, но ценностно-смысловые различия.
Типология нравственной культуры по се-мантико-аксиологическому основанию открывает возможность сопоставления ценностносмыслового содержания различных исторических форм нравственной культуры. И, следовательно, делает более объемной картину нравственной культуры разных эпох. Три типа нравственной культуры — традиционный, утилитарный, креативный — это три типа интерпретации таких этических универсалий, как благо, добро, добродетель, должное, идеал и т.д. При этом наряду с чистыми типами могут быть типологические гибриды, в рамках которых смысловые интерпретации неоднородны, могут быть отнесены к двум или трем типам.
Что касается материала для такого рода типологического анализа, то им может служить этическая мысль, которая концептуализирует бытующие нравственные идеалы, а также моральные нормы. Конечно, типология нравственной культуры и типология этики — разные вещи: типология этики сводится к типологии объяснительных конструкций, типология нравственности — к типологии ценностей и смыслов.
Нравственная культура традиционного типа
Традиционная нравственная культура полагает в качестве высшего блага Абсолют — единое, безначальное и бесконечное, противопоставленное всякому конечному бытию первоначало всего сущего. В традиционалистской интерпретации высшее благо онтологично и принадлежит космическому контексту. Оно рассматривается как источник нравственных норм, значимость которых признается универсальной и ничем не ограниченной. Пользуясь терминологией И. Канта, традиционную нравственность можно назвать гетерономной, поскольку нормы поведения черпаются не из человеческого разума, но из иного, внешнего источника [11, с. 219-220]. Абсолют рассматривается как воплощение добра и наоборот — добро предстает как безусловная, заданная абсолютом ценность, выступающая мерилом нравов и нравственных начал. Облаченный в форму категорического императива, традиционалистский моральный закон квалифицируется как отражение единого, высшего универсального закона бытия. Вследствие этого моральный долг в рамках традиционализма жестко фиксирован. Соответственно, добродетель как мера морального совершенства человека толкуется как моральная твердость человека в соблюдении им морального долга. Что касается нравственных идеалов, то таковые интерпретируются традиционалистской нравственностью как некоторая заданная Абсолютом неизменная и независимая от творческих усилий человека идеальная реальность.
Спутником традиционализма является догматизм, суть которого заключается в слепой приверженности установленным моральным требованиям, без разумного их осмысления, без анализа конкретной ситуации, в которой они исполняются, без понимания последствий, ко-
торые из них вытекают. Отсюда произрастает и такая особенность традиционной нравственной культуры, как ее жесткая смысловая дуали-стичность. Традиционалист видит мир в чернобелом цвете, разделенным на две части — добро и зло, добродетель и порок, должное и сущее. Симптоматично, что философское осмысление традиционной нравственности и морали осуществляется в этической традиции абсолютизма, в рамках которой моральные принципы добра и зла, добродетели и порока трактуются как извечные и неизменные, абсолютные начала (законы вселенной, априорные истины или божественные заповеди).
Отсюда произрастает и такая особенность традиционной нравственной культуры, как ее жесткая смысловая дуали-стичность. Традиционалист видит мир в чернобелом цвете, разделенным на две части — добро и зло, добродетель и порок, должное и сущее. Симптоматично, что философское осмысление традиционной нравственности и морали осуществляется в этической традиции абсолютизма, в рамках которой моральные принципы добра и зла, добродетели и порока трактуются как извечные и неизменные, абсолютные начала (законы вселенной, априорные истины или божественные заповеди).
Необходимо отметить, что традиционализм представляет собой исторически наиболее ранний тип нравственной культуры. Ориентация на традиционализацию в определенном смысле связана с изначально присущим человеку культурным консерватизмом. Страх утраты накопленного культурного опыта — сформированных путем длительных поисков, проб и ошибок оптимальных стратегий бытия — приводил к сакрализации этого опыта, его сублимации в форме обычаев, ритуалов, воспринимаемых как незыблемые, не подлежащие критике образцы поведения и деятельности. К. Мангейм определяет традиционализм как нерефлектирующую приверженность прошлому [13].
В истории мировой культуры традиционализм представлен очень широко. Воплощением традиционализма является, например, нравственная культура древнего индуизма. В качестве Высшего блага древнеиндуистское нравственное сознание полагает Брахму или Брахмана («благоговение») — безличное абсолютное духовное начало, верховное божество и «прародителя всего мира» [10, I, 9.]. Человек в таком контексте рассматривается как носитель абсолютного духовного начала, его индивидуальная душа определяется как тождественный Брахману Атман: «Именно атман — все боги; вселенная содержится в атмане, ибо атман производит соединение этих одаренных телом с действием» [10, XII, 119]. Созданием Брахмана объявляется дхарма — универсальный порядок, моральный закон, долг, добродетель, нравственный идеал, совокупность норм, определяющих добродетель человека. Дхарма отождествляется с высшим духовным началом человека — Ат-маном. Таким образом, человек рассматривает-
Дхарма отождествляется с высшим духовным началом человека — Ат-маном. Таким образом, человек рассматривает-
ся как носитель дхармы — высшего закона бытия, а сам нравственный закон приобретает форму категорического императива. В качестве негативного коррелята дхармы выступает ад-харма — воплощение хаоса, аморальности, порока, безнравственности. В сущности, дхарма и адхарма есть воплощения добра и зла. Симптоматично, что в качестве арбитра, устанавливающего, что есть добро и зло, в древнеиндуистской нравственной традиции выдвигается Брахма. В Законах Ману указывается, что для различения деяний Брахма отделил дхарму от адхармы [10, I, 26], не случайно корнями дхармы объявляются Веды — священное предание [10, II, 6]. При этом авторитет Вед представляется непререкаемым, поскольку установленные в них нормы не подлежит критическому осмыслению: «Когда имеется противоречие в двух отрывках из священного откровения, они оба считаются дхармой, потому что они оба объявлены правильной дхармой» [10, II, 14]. Дхарма столь детально нормируют жизнь человека, что практически не оставляет места для свободного выбора, в сущности, человек превращается в послушного исполнителя предписанной роли. Если учесть, что такого рода роли различны для разных варн, то становится еще более очевидной внешняя жесткая моральная детерминация поведения человека: «Лучше
своя дхарма, плохо исполненная, чем хорошо исполненная чужая, так как живущий [исполнением] чужой дхармы немедленно становится изгоем» [10, X, 97]. В этом плане Законы Ману являются воплощением принципа «то, что не разрешено — запрещено». Что касается жизненных ситуаций, относительно которых нет конкретных нормативным указаний, то здесь главным авторитетом объявляются брахманы как агенты Брахмы, призванные установить норму поведения для каждого случая: «Если возникнет [вопрос]: “Как быть, если [что-нибудь] не упомянуто в [сборниках наставлений в] дхарме?” — то, что ученые (Aista) брахманы объявят, несомненно, является дхармой» [10, XII, 108]. Необходимо отметить, что нравственная культура древнего индуизма содержит достаточно жесткий смысловой механизм кармического воздаяния, обеспечивающий исполнение нравственных норм: «…человек, следуя дхарме, объявленной в священном откровении и священном предании, достигает в этом мире
Необходимо отметить, что нравственная культура древнего индуизма содержит достаточно жесткий смысловой механизм кармического воздаяния, обеспечивающий исполнение нравственных норм: «…человек, следуя дхарме, объявленной в священном откровении и священном предании, достигает в этом мире
славы, после смерти — наивысшего блаженства» [10, II, 9]. Таким образом, дхармашастра — учение о должном и запретном — превращается в главное руководство всей жизни человека и основу нравственной культуры.
Иллюстрацией нравственного традиционализма может служить Конфуцианство, которое, будучи в целом неоднородно, содержит значительную долю традиционалистских ценностей и смыслов. Значительный заряд традиционализма несет на себе мусульманская нравственная культура. Элементы традиционализма содержится в христианской нравственной культуре в многообразии ее модификаций. В христианском понимании высшее благо есть Бог, отношением к Богу определяются нравы и добродетели. Долг человека заключается в том, чтобы исполнять волю Божью. Однако нравственность Христа выражается не во внешних жестко фиксированных нормах, но во внутреннем смысле морального закона, суть которого есть любовь [8]. Иными словами, в нравственной культуре христианства преодолевается жесткий внешний нравственный детерминизм традиционализма, рождается проблема морального выбора.
Нравственная культура утилитарного типа
Утилитарная нравственная культура полагает в качестве высшего блага пользу человека, общества. Показательно, что равнозначным понятию «польза» в утилитаристском дискурсе выступает понятие «интерес». Ключевая идея утилитаризма — идея возведения материального и социального благополучия человека, общества в статус высшего блага. Добро в таком контексте отождествляется с пользой, польза выступает как мерило нравов и нравственных начал. Она рассматривается как источник нравственных норм, соответственно, добродетель как мера морального совершенства человека понимается как его готовность служить на благо общества, других людей. Однако «польза» — понятие относительное, соответственно, утилитаризм неотделим от релятивизма. Моральный закон утилитаризма отливается в форму утилитаристской максимы — «нравственно то, что приносит максимальную пользу человеку или обществу». Вследствие этого моральный долг не фиксирован: образцы поведения становятся за-
Она рассматривается как источник нравственных норм, соответственно, добродетель как мера морального совершенства человека понимается как его готовность служить на благо общества, других людей. Однако «польза» — понятие относительное, соответственно, утилитаризм неотделим от релятивизма. Моральный закон утилитаризма отливается в форму утилитаристской максимы — «нравственно то, что приносит максимальную пользу человеку или обществу». Вследствие этого моральный долг не фиксирован: образцы поведения становятся за-
висимыми от ситуационной пользы, приобретают динамичный, изменчивый характер [25].
Что касается нравственных идеалов, то таковые интерпретируются утилитаристской нравственностью как некоторая обусловленная принципом пользы идеальная реальность, представляющая собой достаточно нестабильное образование. Вследствие этого утилитарная нравственная культура менее дуалистична — квалификация каких-либо явлений, поступков как добра или зла не является раз и навсегда определенной, жестко фиксированной. Симптоматично, что философское осмысление утилитарной нравственности и морали осуществляется в этической традиции релятивизма, в рамках которой моральные принципы добра и зла трактуются как исторически и социально изменчивые и связанные с интересами людей.
Необходимо отметить, что утилитаризм, подобно традиционализму, представляет собой исторически достаточно ранний тип нравственной культуры. Можно предположить, что ориентация на принцип пользы лежала у истоков культуры как таковой. Первой попыткой этикофилософской концептуализации утилитаризма можно считать этику софистов. Однако как целостная законченная система утилитаризм оформляется достаточно поздно — в эпоху модернизации.
Примером нравственной культуры утилитаризма можно считать западную нововременную буржуазную нравственную культуру. Понятие «буржуазная нравственная культура» поливалентно, поэтому необходимо уточнить, что речь идет о тех нравственных нормах, моральных добродетелях, этических принципах, носителями которых выступала нововременная западная буржуазия и выразителями которого выступали буржуазные идеологи. М. Оссовская утверждает, что: «.буржуазной нравственности . в качестве конкретно-исторического явления соответствует нравственность западноевропейской и американской мелкой буржуазии, — нравственность, полностью сложившаяся в XVII веке и в эпоху либерализма, все более широко распространявшаяся также среди мелких капиталистов, с одной стороны, и среди рабочей аристократии наиболее богатых стран — с другой» [17, с. 250].
Понятие «буржуазная нравственная культура» поливалентно, поэтому необходимо уточнить, что речь идет о тех нравственных нормах, моральных добродетелях, этических принципах, носителями которых выступала нововременная западная буржуазия и выразителями которого выступали буржуазные идеологи. М. Оссовская утверждает, что: «.буржуазной нравственности . в качестве конкретно-исторического явления соответствует нравственность западноевропейской и американской мелкой буржуазии, — нравственность, полностью сложившаяся в XVII веке и в эпоху либерализма, все более широко распространявшаяся также среди мелких капиталистов, с одной стороны, и среди рабочей аристократии наиболее богатых стран — с другой» [17, с. 250].
Типичная для утилитаризма направленность на земное благополучие, измеряемое
принципом пользы, пронизывает нравственную культуру буржуа. Буржуазным моралистом номер один по праву считают «великого наставника юного капитализма» Бенджамина Франклина. Теоретик, пропагандист и популяризатор буржуазной морали, Франклин не только в своих трудах, но и в жизни придерживался убеждения, согласно которому добродетель следует измерять полезностью, соответственно, материальное и социальное благополучие следует рассматривать как высшую ценность и цель. Призыв к обогащению является ядром франк-линовской системы. Обогащение рассматривается как профессиональное призвание, святой долг и обязанность гражданина. Симптоматично, что Франклин придерживается мнения, согласно которому добродетель не является самоценностью — она лишь необходимое условие обогащения. Добродетельным следует быть, по Франклину, потому что это способствует накоплению богатства, пороки следует искоренять, потому что они препятствуют обогащению. При этом он полагал, что для достижения желаемого результата необходимо строго придерживаться определенной системы нравственных норм — добродетелей, отступление хотя бы от одной из них становится препятствием на пути достижения успеха и экономического процветания [22].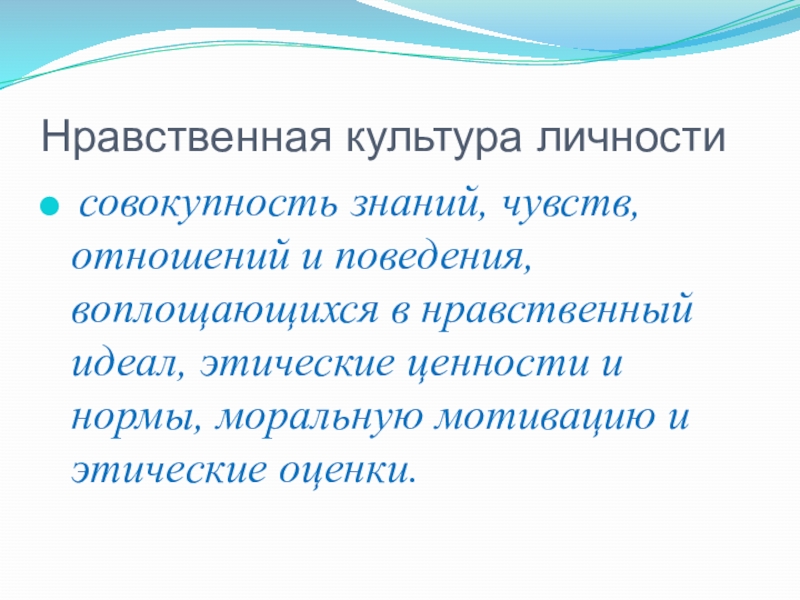 Таким образом, проповедуемые Франклином моральные нормы получают утилитарное обоснование, они верифицируются при помощи критерия выгоды. Франклин превращает делание денег, денежный расчет в добродетельные деяния, достойные порядочных людей. Обогащение из греховной страсти превращается в долг каждого человека и гражданина.
Таким образом, проповедуемые Франклином моральные нормы получают утилитарное обоснование, они верифицируются при помощи критерия выгоды. Франклин превращает делание денег, денежный расчет в добродетельные деяния, достойные порядочных людей. Обогащение из греховной страсти превращается в долг каждого человека и гражданина.
Конечно, в миссии пропагандиста буржуазной морали Франклин не был одинок. Рупором буржуазной морали служили, например, гражданские катехизисы, созданные в эпоху Великой французской революции. Главным принципом, выдвигаемым в такого рода сводах моральных норм, был утилитарный принцип: «Быть добродетельным — значит руководствоваться тем, что полезно для человека и общества» [17, с. 406].
Более детальную расшифровку идеи утилитаризма получают в творчестве Т. Гоббса и Д. Локка. Социально-этические концепции этих мыслителей содержат теоретическое обоснова-
ние и моральную аргументацию важнейших положений массового буржуазного утилитаризма. Например, моральным героем Гоббса является эгоистический индивид, ориентированный на пользу, власть, успех. Стремление каждого индивида к удовлетворению природных потребностей — телесных и душевных (честолюбие) — квалифицируется Гоббсом как «естественный закон»: «Естественный закон есть предписание или найденное разумом общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средства к ее сохранению, и упускать то, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни» [7, с. 149]. При этом, как мыслит Гоббс, в вопросах благополучия, выгоды и самосохранения не может быть верховного авторитета, поскольку любое умозаключение носит частный и ограниченный характер. И поскольку «каждый сам является судьей в вопросах собственного самосохранения и благополучия», следует предоставить самому индивиду право на различение добра и зла.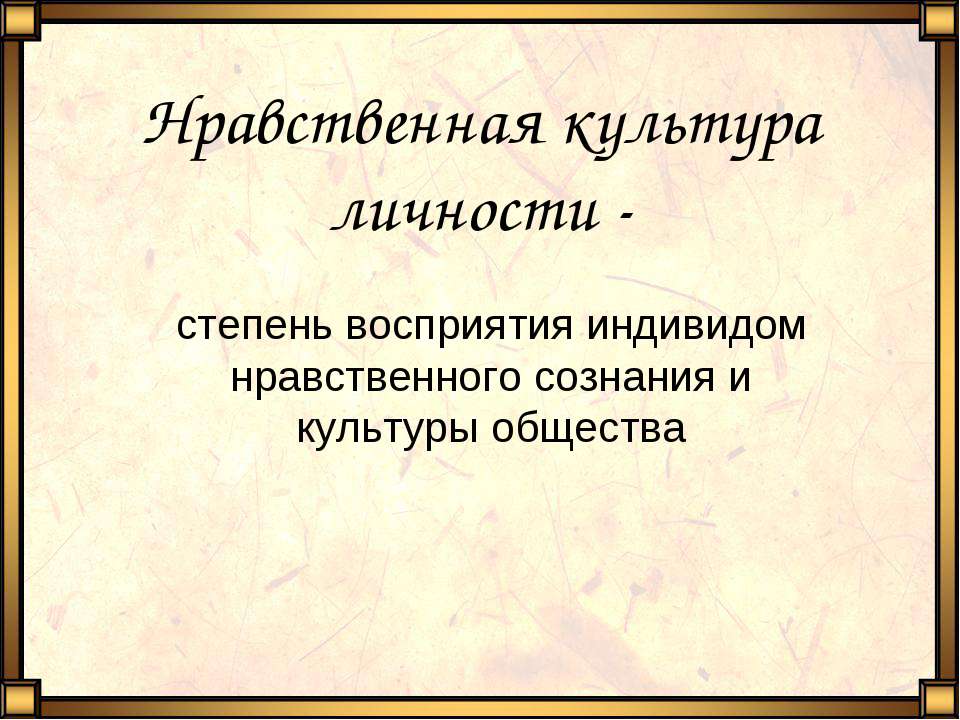 Таким образом, Гоббс выступает не просто как апологет утилитарной нравственности, но как «.защитник утилитарной автономии, он делает акцент не на выгоде просто, а на самостоятельно усмотренной выгоде.» [21, с. 237].
Таким образом, Гоббс выступает не просто как апологет утилитарной нравственности, но как «.защитник утилитарной автономии, он делает акцент не на выгоде просто, а на самостоятельно усмотренной выгоде.» [21, с. 237].
Наиболее полное, и систематизированное, и последовательное отражение буржуазный утилитаризм находит в трудах представителей классического утилитаризма — И. Бентама, Дж.Ст. Милля. Ключевой проблемой классических утилитаристов становится главное противоречие утилитаризма — противостояние общественных и индивидуальных интересов, конфликт единичного и всеобщего блага, частной и всеобщей пользы. Приверженец социального номинализма, Бентам интерпретирует общество как сумму составляющих его индивидов, соответственно, общественный интерес понимается им как сумма интересов отдельных членов, соответственно, всеобщее счастье трактуется как сумма счастья индивидуальных судеб. «Напрасно толковать об интересе общества, не понимая, что такое интерес отдельного лица», — пишет Бентам [3, с. 11]. Тезис Бента-ма — «максимум возможного счастья для наибольшего числа лиц» — защищает идею гармонии частных интересов. Средством достижения такого рода гармонии, в видении Бентама,
должна служить «моральная арифметика» — расчет полезного эффекта всех принимаемых решений. Мораль, следовательно, превращается в искусство калькуляции, количественного анализа удовольствий, с тем чтобы производить наибольшую сумму счастья. Таким образом, в этике Бентама проступают элементы рационализма, хотя, несомненно, утилитарного свойства, поскольку ведущим принципом остается принцип пользы.
Последователь Бентама Дж.Ст. Милль также полагал, что основу морали составляет принцип пользы, который определяет все частные цели человека. При этом польза, в видении Милля, заключается в счастье человека. Соответственно, добродетель ценна не сама по себе, а как средство достижения пользы-счастья.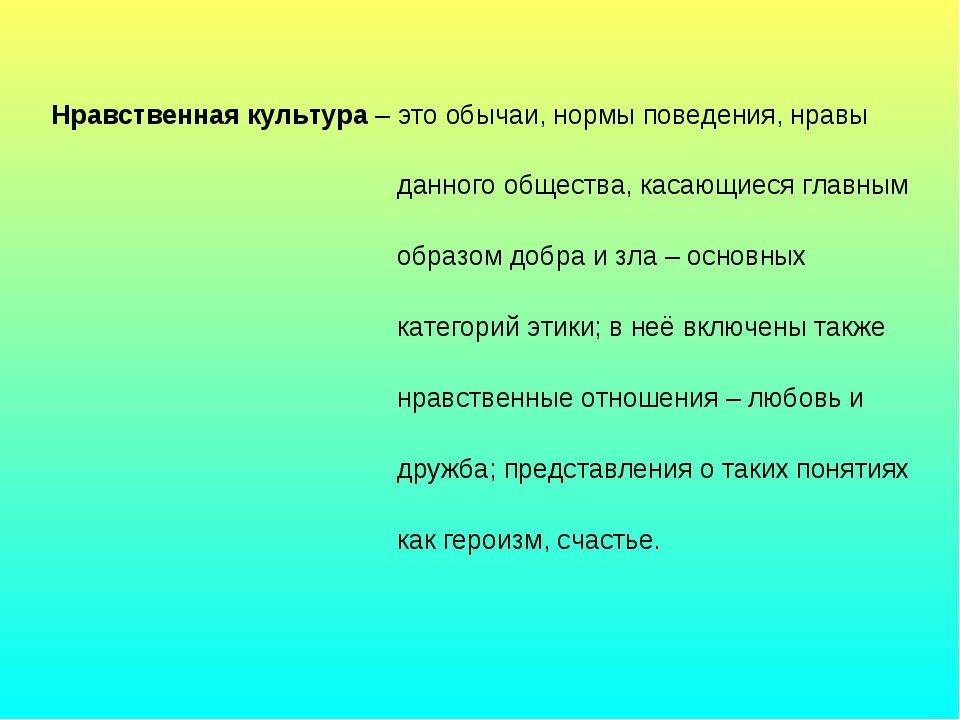 Милль иначе, чем Бентам, решает проблему соотношения общей и индивидуальной пользы. Стремясь смягчить холодную рассудочность, присущую утилитарной этике Бентама, романтизировать утилитаризм, Дж.Ст. Милль связывал свободу с принципом полезности. Он полагал, что индивидуальная свобода в обществе не должна ограничиваться, т.к. она способствует достижению людьми счастья и процветания: «.свободное развитие индивидуальности есть одно из первенствующих существенных благ, оно есть . элемент, сопутствующий тому, что обозначается выражениями: цивилизация, образование, воспитание просвещение.» [16, с. 302]. Решая, как совместить социальную справедливость со свободой индивида, Милль уповал на воспитание и образование, способствующие развитию альтруизма, укрепляющие общественную солидарность: «… утилитариан-ский принцип требует, чтоб каждый индивидуум был доведен до сознания, что его собственное счастье для него невозможно, если его поступки будут противоречить общему счастью, — он требует, чтоб стремление к общему счастью сделалось обычным мотивом поступков каждого индивидуума и чтобы этот мотив имел широкое и преобладающее значение в человеческой жизни» [16, с. 115].
Милль иначе, чем Бентам, решает проблему соотношения общей и индивидуальной пользы. Стремясь смягчить холодную рассудочность, присущую утилитарной этике Бентама, романтизировать утилитаризм, Дж.Ст. Милль связывал свободу с принципом полезности. Он полагал, что индивидуальная свобода в обществе не должна ограничиваться, т.к. она способствует достижению людьми счастья и процветания: «.свободное развитие индивидуальности есть одно из первенствующих существенных благ, оно есть . элемент, сопутствующий тому, что обозначается выражениями: цивилизация, образование, воспитание просвещение.» [16, с. 302]. Решая, как совместить социальную справедливость со свободой индивида, Милль уповал на воспитание и образование, способствующие развитию альтруизма, укрепляющие общественную солидарность: «… утилитариан-ский принцип требует, чтоб каждый индивидуум был доведен до сознания, что его собственное счастье для него невозможно, если его поступки будут противоречить общему счастью, — он требует, чтоб стремление к общему счастью сделалось обычным мотивом поступков каждого индивидуума и чтобы этот мотив имел широкое и преобладающее значение в человеческой жизни» [16, с. 115].
К утилитарному типу можно отнести нравственную культуру социализма. Изобретателем термина «социалистический утилитаризм», очевидно, следует считать А.В. Луначарского, настаивающего на том, что социалистический утилитаризм следует отличать от мещанского,
которому: «.свойственны вершковые и грошовые черты. У нас каждая польза, даже самая маленькая, связана, в конце концов, с гигантской полезностью — именно с социалистическим строительством во всем его целом» [12, с. 118]. Специфика социалистического утилитаризма заключается, как это следует из слов Луначарского, в утверждении в качестве высшего блага общественной пользы, соответственно, редукции индивидуальной пользы к общественной пользе. В учебном пособии по марксистской этике читаем: «Коммунистическая мораль — это мораль коллективизма. Она не совместима с эгоизмом, себялюбием, своекорыстием, гармонично сочетает общенародные, коллективные и личные интересы. Ее основополагающий принцип — “один за всех, все за одного”» [14, с. 195]. Основной добродетелью, позиционируемой коммунистической моралью, является труд на общее благо: «.склонность к труду сама по себе не делает человека нравственным. Для этого необходимо в трудовой деятельности преследовать общественный интерес» [14, с. 213].
Она не совместима с эгоизмом, себялюбием, своекорыстием, гармонично сочетает общенародные, коллективные и личные интересы. Ее основополагающий принцип — “один за всех, все за одного”» [14, с. 195]. Основной добродетелью, позиционируемой коммунистической моралью, является труд на общее благо: «.склонность к труду сама по себе не делает человека нравственным. Для этого необходимо в трудовой деятельности преследовать общественный интерес» [14, с. 213].
В целом утилитаризм как тип нравственности — явление, не ограниченное во времени и пространстве. Например, этический утилитаризм XX в. отличается разнообразием вариантов — это утилитаризм поступка, утилитаризм правила, утилитаризм мотива, мировой утилитаризм, стратегический утилитаризм [15].
Нравственная культура креативного типа
Креативная нравственная культура характеризуется полаганием в качестве высшего блага творчества, которое рассматривается как главная цель, ценность, воплощение добра. Отношение к творчеству выступает как мерило нравственной зрелости общества, соответственно, творчество квалифицируется как главная добродетель и мера морального совершенства человека. Таким образом, креативизм делает упор не на оценке поступка, но на творческом развитии личности. Моральный закон в рамках креативизма — это закон самоорганизации, саморазвития, который зиждется на соединении идеалов свободы и ответственности личности. Основным принципом самоорганизации, саморазвития выступает принцип морального выбора, который осуществляется на основе анализа и синтеза различных элементов действительно-
сти. При этом действительность понимается широко как природная, социальная, духовная, личностная реальность. Нравственные нормы креативизма формируются в результате синтеза сложившихся трансцендентных и имманентных, абсолютных и относительных, сакральных и профанных смыслов. С точки зрения креати-визма моральные нормы не могут быть сформулированы как набор рекомендаций и запретов. Равно как целью нравственного воспитания является не усвоение некоторой догмы, но нравственное совершенство человеческой природы. Креативная нравственная культура утверждает высшую роль человеческого духа, разума как источника морали.
С точки зрения креати-визма моральные нормы не могут быть сформулированы как набор рекомендаций и запретов. Равно как целью нравственного воспитания является не усвоение некоторой догмы, но нравственное совершенство человеческой природы. Креативная нравственная культура утверждает высшую роль человеческого духа, разума как источника морали.
Пользуясь терминологией И. Канта, креа-тивистскую нравственность можно назвать автономной, поскольку она позиционирует условие, согласно которому поведение человека регулируется не извне, а изнутри. Иными словами, личность совершает или не совершает какие-либо поступки не потому, что ищет одобрения некоторого внешнего авторитета, а потому, что опирается на свои внутренние убеждения, на развитую систему личностных ценностей [11, с. 219-220]. Главное отличие креативной морали — процессуальность, ориентация на постоянное наращивание творческого потенциала. Именно креативная нравственность создает наиболее эффективные образцы деятельности человека, воспитывает человека как субъекта творчества — «негэнтропийной» деятельности.
Если говорить о конкретно-исторических формах креативной нравственной культуры, то элементы таковой можно обнаружить в культуре Античности, Возрождения, Нового времени, однако нравственная культура креативизма, в определенном смысле, — это будущее нравственной культуры человечества. Более всего контуры этого будущего проступают в этике экзистенциализма, в рамках которой концептуализируется креативный тип морального сознания.
Например, Н.А. Бердяев выдвигает идею этики творчества, которую он рассматривает как высшую и наиболее зрелую форму нравственного сознания [4, с. 129]. Согласно Бердяеву, сама нравственная жизнь, нравственные оценки и деяния носят творческий характер, соответственно, творческое отношение ко всей жизни есть не только право, но долг человека.
Бердяев квалифицирует творческое напряжение как нравственный императив, подчиняющий все сферы жизни человека. Философ убежден, что не существует застывшего статичного нравственного порядка, подчиненного единому нравственному закону, соответственно, человек не пассивный исполнитель законов этого миропорядка, но изобретатель и творец. Этика творчества, в видении Бердяева, утверждает ценность индивидуального и единичного: «Каждый индивидуальный человек должен нравственно поступать как он сам, а не как другой человек, его нравственный акт должен вытекать из глубины его нравственной совести» [4, с. 123]. Однако, как полагает Бердяев, творчество не эгоистично, поскольку отрешает человека от самого себя и направляет на высший мир. Бердяев определяет этику творчества как этику энергетическую и динамическую. Он утверждает, что в основе жизни лежит энергия, а не закон, именно энергия создает закон. В интерпретации Бердяева, повышение энергии жизни, творческий подъем есть один из критериев нравственной оценки: «Добро есть радий в духовной жизни.» [4, с. 131]. Философ полагает, что для этики творчества основное значение имеет творческое воображение. Он пишет: «Существует нравственное воображение, творящее образ лучшей жизни. Сила творческого воображения есть принцип таланта в нравственной жизни» [4, с. 130].
Идея креативной нравственной культуры развивается другими экзистенциалистами, например Ж.-П. Сартром, который для обозначения такого рода культуры вводит понятие «мораль непредопределенности» [20]. Сартр выступает против морали долга. Долг для него — попытка ограничить или снять творческий элемент в индивидуальном действии. В видении Сартра, человек осужден быть свободным, свобода есть условие и цель человеческого существования. Сартр утверждает, что человеческое бытие не содержит в себе никаких предзадан-ных свойств и характеристик, из которых можно было бы вывести какие-либо предписания для его поведения. Философ полагает, что ценности не записаны в вещах, а творятся человеком, при этом творение есть одновременно и выбор определенного образа мира, за что человек несет полную, не разделяемую ни с кем ответственность. Сартр убежден, что мораль не
Философ полагает, что ценности не записаны в вещах, а творятся человеком, при этом творение есть одновременно и выбор определенного образа мира, за что человек несет полную, не разделяемую ни с кем ответственность. Сартр убежден, что мораль не
есть следование каким-то извне данным предписаниям, не стремление быть моральным, а осуществление действия, необходимого и эффективного в данной ситуации. Таким образом, позиция моральности завоевывается вновь и вновь в каждой конкретной ситуации. Универсальная норма, в видении Сартра, — это стремление уйти от ответственности. Мораль конкретна, она всегда есть живой индивидуальный творческий опыт «делания».
Нравственная культура современной России
Нравственная культура современной России представляет собой сложный гибрид трех типов нравственности. Превалирующим типом, несомненно, является утилитаризм, который глубоко проник во все слои общества, стал основой идеологических конструкций и повседневной практики.
Как представляется, на втором месте в системе нравственных ориентиров современного российского общества стоит традиционализм, который, несомненно, все более сжимается под натиском нравственных императивов утилитаризма, однако говорить о его превращении в культурный рудимент более чем преждевременно.
Наконец, третье место в рейтинге нравственных императивов современной культурной ситуации России, занимает креативизм. Вместе с тем, очевидно, что инновационное развитие России возможно лишь при условии выдвижения ценностей креативизма на первое место.
Список литературы:
1. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т.2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.
Т.2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.
2. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса. Нормативная модель и отечественные реалии. Тюмень: Центр прикладной этики; НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2000.
3. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОССПЭН, 1998.
4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993.
5. Бородай Б.М. Эротика — смерть — табу: трагедия человеческого сознания. М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество, 1996.
6. Гегель Г.В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
7. Гоббс Т. Избр. произведения. Т.1. М.: Мысль,
1964.
8. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: учебник. М.: Гардарики, 2000.
9. Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. М.: Наука, 1977.
10. Законы Ману / пер. С.Д. Эльмановича, пров. и испр. Г.Ф. Ильиным. М., 1960.
11. Кант И. Сочинения: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т.4.
12. Луначарский А.В. Сочинения: в 8 т. М.: Художественная литература, 1965. Т. 8.
13. Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.
14. Марксистская этика: учеб. пособие для вузов /
A.И. Титаренко, А.А. Гусейнов,
B.И. Бакштановский и др. М.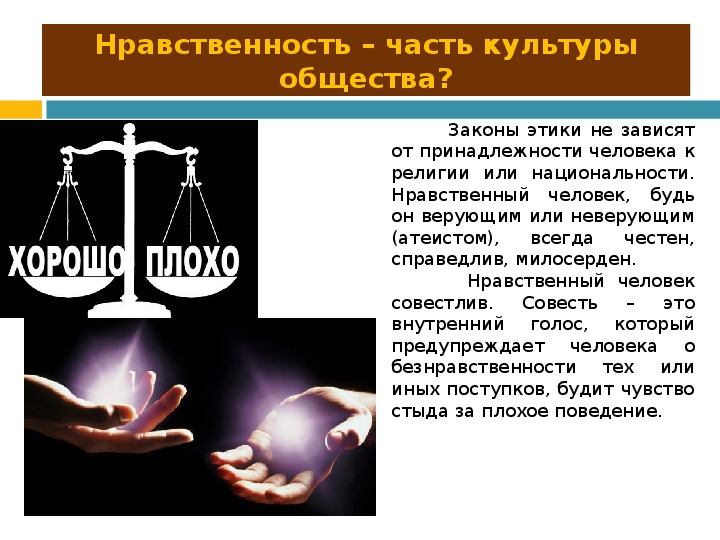 : Политиздат, 1986.
: Политиздат, 1986.
15. Медзгова Я. Историко-критический анализ современного этического утилитаризма: дис. … канд. филос. наук. М., 1984.
16. Милль Дж.Ст. Утилитарианизм. СПб.: Изд-во И.П. Перевозникова, 1900.
17. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М.: Прогресс, 1987.
18. Померанц Г. Опыт философии солидарности //
Вопр. философии. 1991. №3. С.51-66.
19. Руссо Ж.-Ж. Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов? // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С.9-31.
20. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., предисл., примеч. В.И. Колядко. М.: Республика, 2000.
21. Философия эпохи ранних буржуазных революций / ред. коллегия: Т.И. Ойзерман,
В.М. Богуславский и др. М.: Наука, 1983.
22. Франклин В. Избранные произведения. М.: Гос. изд. полит. лит., 1956.
23. Швейцер А. Культура и этика / пер. с нем. М.: Прогресс, 1973.
24. Этика: учеб. для студ. филос. ф-тов вузов /
А.А. Гусейнов, Е.М. Дубко, С.Ф. Анисимов и др. М.: Гардарики, 1999.
25. Яркова Е.Н. Утилитаризм как тип культуры: концептуальные параметры и специфика России. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.
ETHICAL CULTURE AS A VALUE-SEMANTIC SYSTEM
Elena N. Yarkova
Yarkova
Tyumen State University; 10, Semakov str., Tyumen, 625003, Russia
The article offered an original typology of ethical culture as a value-semantic system.
Key words: moral culture; typology; traditionalism; utilitarianism; creativity.
4.2.2. Нравственная культура в разных жизненных условиях. Теория культуры
4.2.2. Нравственная культура в разных жизненных условиях
Как уже было сказано, нравственная культура всегда проявляется на каком–то из ее уровней. Причем не только ее уровень, но и характер во многом определяются тем, какие ценности доминируют в каждой сфере, стороне жизни. Так, например, если человек вовлечен в сферу экономики, хозяйства, бизнеса или вообще деловой практики, совершенно естественно преобладание в его деятельности выгоды, успеха, полезности, практичности и разумности. Поэтому высоконравственные бизнес, торговля и т. д. практически невозможны. Ни при рыночной экономике, ни при государственно–монополистической. В последнем случае государство (а на самом деле определенный слой населения) выступает в качестве собственника, осуществляющего деловые отношения с населением. Для того чтобы нравственность проявилась в этой сфере, она должна быть полезна. Нужно, чтобы такие качества, как честность, порядочность и милосердие, были выгодны тому, кто их проявляет, и содействовали успеху в делах или, во всяком случае, не приносили вреда и не осложняли деловую практику. В какой–то мере это так и есть при нормальной цивилизованной экономической жизни и нормальных деловых отношениях, так как обман потребителя, партнера и даже конкурента при устойчивой деловой жизни обычно вреден для дела. Но нормы морали все–таки оказываются пригодными для предпринимательской практики. Нравственная культура реализуется в деловых отношениях как на низшем, так отчасти и на втором уровнях, поскольку дело для человека может быть ценным и в связи с его выгодностью и, как это нередко бывает, может стать самоценным, ведущим интересом в жизни.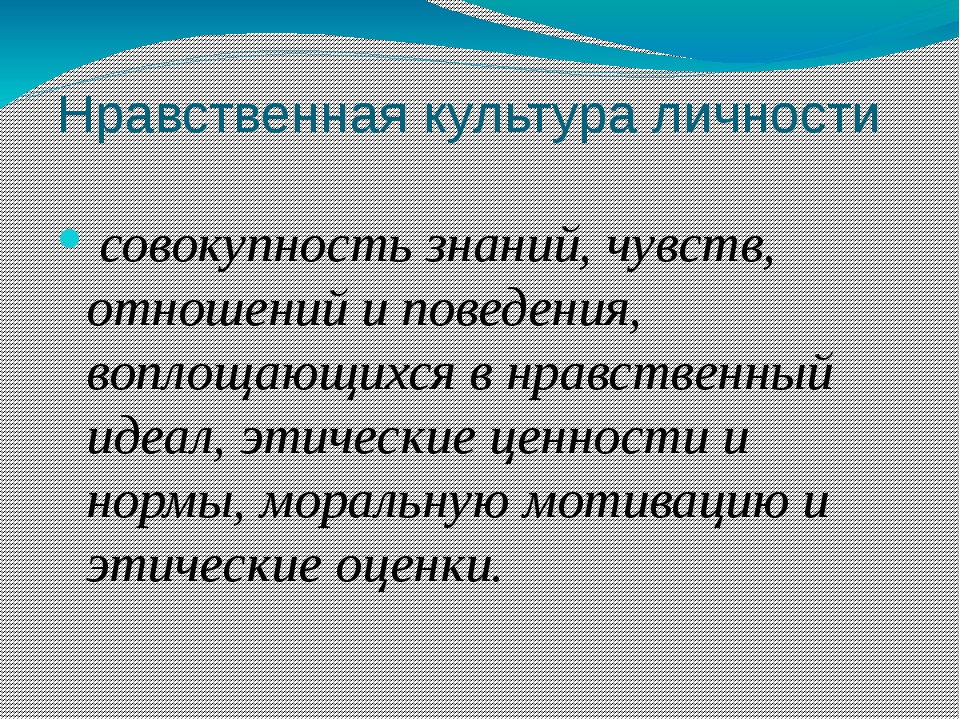 Более того, иногда дело начинает осознаваться как нечто нужное всем, практически как общечеловеческая ценность. Соответственно, нравственные ценности выступают или как значимости, или как нормы, или как иллюзорные идеалы. В последнем случае человек, скажем, бизнесмен, уверен, что его дело важно именно потому, что, занимаясь им, он творит добро. Он дает людям работу, обеспечивает им хлеб насущный, производит необходимые товары. И даже если он бывает жесток, то вынужденно.
Более того, иногда дело начинает осознаваться как нечто нужное всем, практически как общечеловеческая ценность. Соответственно, нравственные ценности выступают или как значимости, или как нормы, или как иллюзорные идеалы. В последнем случае человек, скажем, бизнесмен, уверен, что его дело важно именно потому, что, занимаясь им, он творит добро. Он дает людям работу, обеспечивает им хлеб насущный, производит необходимые товары. И даже если он бывает жесток, то вынужденно.
Но наличие или отсутствие нравственной культуры, ее устойчивость и высота проверяются в моменты, кризисные для общества, экономики и этого конкретного бизнеса. То есть в таких ситуациях, когда вопрос о дальнейшем существовании дела стоит остро: или выжить мне как деловому человеку и моему делу, или быть высоконравственной личностью, человеком, который ни при каких обстоятельствах не может топить конкурента, обманывать население, выбрасывать на улицу рабочих или рекламировать товар, который не следует продавать.
Проявление высокой нравственной культуры в политической сфере жизни возможно еще в меньшей степени. В этой сфере вопрос о власти настолько важен, что близкая политическая цель (выгода от ее достижения) обычно становится важнее отдаленной стратегической цели, даже если это – благо народа и счастье всего человечества. В этой сфере деятельности, где цель оправдывает любые, порой даже самые безнравственные средства, человек постоянно провоцируется на нарушения элементарных моральных норм. И если политик не просто безнравственен, то у него чаще всего есть иллюзорное представление о том, что он творит добро при неизбежных издержках и отступлениях от нравственности в частностях. Но частности – это судьбы людей, социальных групп, а иногда и наций. Правда, по статусу ему полагается соблюдать, по крайней мере внешне, все нормы общепринятой морали. От этого зависит его публичное реноме как политика. И это содействует развитию нравственного лицемерия.
Недаром бессовестность так характерна для политиков всех рангов. Достаточно напомнить о ленинском использовании «временных попутчиков», которое, как и многое другое, продемонстрировало, что в применяемом таким образом марксизме действительно «нет ни грана этики» (Зомбарт). Даже если у отдельных больших или маленьких «властелинов» в трудные моменты их жизни совесть не просто просыпалась, чтобы тут же заснуть, а порождала длительные муки, то и тогда активизировался процесс самооправдания через будто бы радение о пользе для всех, через якобы исполнявшуюся человеком волю божью или «волю народа» (Борис Годунов у А. С. Пушкина). Если политические действия в целом и направлены на добро, то только «по идее». Высокая нравственная культура скорее мешает успешной политической деятельности, чем содействует. Это отражается и на сфере правовых отношений, которая тесно связана с политической реальностью.
Достаточно напомнить о ленинском использовании «временных попутчиков», которое, как и многое другое, продемонстрировало, что в применяемом таким образом марксизме действительно «нет ни грана этики» (Зомбарт). Даже если у отдельных больших или маленьких «властелинов» в трудные моменты их жизни совесть не просто просыпалась, чтобы тут же заснуть, а порождала длительные муки, то и тогда активизировался процесс самооправдания через будто бы радение о пользе для всех, через якобы исполнявшуюся человеком волю божью или «волю народа» (Борис Годунов у А. С. Пушкина). Если политические действия в целом и направлены на добро, то только «по идее». Высокая нравственная культура скорее мешает успешной политической деятельности, чем содействует. Это отражается и на сфере правовых отношений, которая тесно связана с политической реальностью.
Ясно, что если законность в обществе подчиняется конкретным политическим интересам, то ни о правовой культуре, ни о проявлениях нравственной культуры в сфере права и речи быть не может. Хотя исходно право, как и мораль, вроде бы направлено на утверждение в жизни добра. И право, и мораль выражаются в системах норм, правил поведения, порой регулируя взаимосвязи людей в одних и тех же отношениях. Так, нормы морали диктуют, что нельзя убивать, насиловать, воровать и т. д. За их нарушением следует нравственное осуждение. Законы в тех же случаях предусматривают не осуждение, а наказание. Но есть только нравственные нормы, и нет ни одного закона, который предписывал бы человеку быть милосердным, добрым и справедливым.
Само соблюдение или несоблюдение законов в обществах с развитыми правовыми отношениями может оцениваться с правовых позиций следующим образом: нарушение законов безнравственно, соблюдение – нравственно, так как считается, что законы содействуют добру хотя бы посредством жесткого ограничения зла. Но само по себе соблюдение законов нередко оказывается для общества и государства гораздо важнее, чем нравственность, чем возможные нравственные следствия применения законов.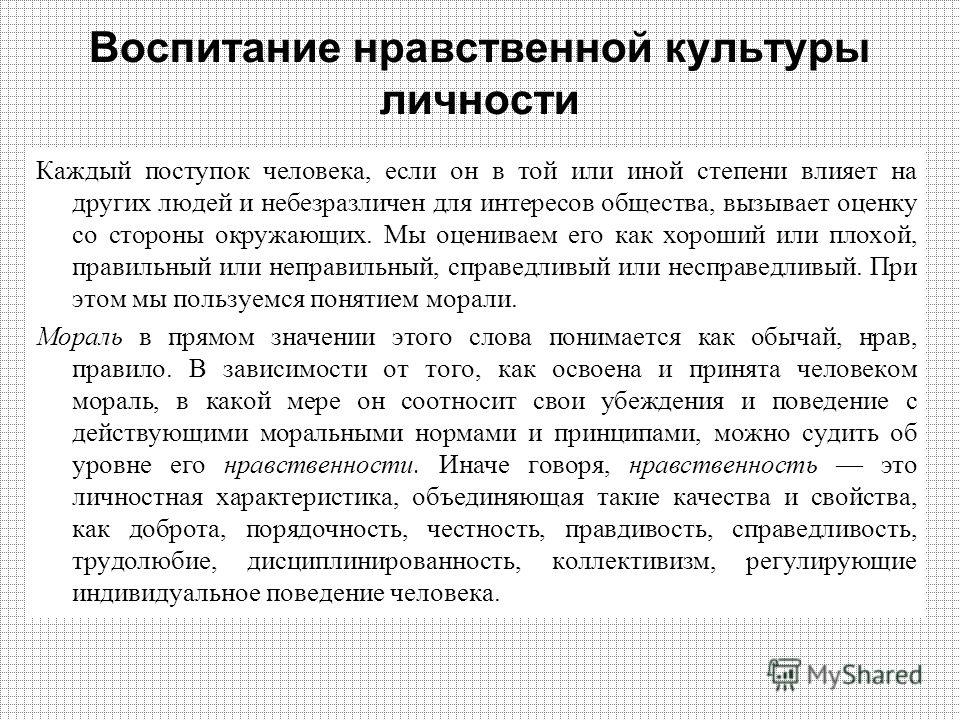
Дело даже не в том, что в конкретных случаях нормы действующей морали и законы могут противоречить друг другу. Существенно то, что закон имеет внешний характер по отношению к человеку, диктует ему, как он должен себя вести. Жесткая нормативная мораль действует примерно так же, извне определяя для человека должное. И в этом плане достижением культуры в сферах права и морали является наличие достаточно определенных форм упорядоченности отношений между людьми (законы, правовые акты, моральные кодексы, предписания). Формы эти, конечно, не бессмысленны, в них закреплен жизненный опыт поколений. И закреплен он таким образом, что беззаконие нередко выглядит аморальным, а аморальность – противозаконной. Законы, запрещающие изготовление и распространение порнографии, не случайны, как и нравственное осуждение противозаконных деяний (хотя ни первое, ни последнее не обязательно). Правовая и нравственная культуры взаимопересекаются и взаимодополняются на том уровне, где культура выступает в качестве нормы, определенных форм поведения, стандартов человеческой жизни.
Но при этом и закон и моральная норма зачастую оказываются важнее живого человека с его своеобразием, чувствами, влечениями, стремлениями, а на высоком уровне культуры ценен именно человек. И на этом уровне, скажем, заповедь «не убий» – это не норма, которую надо соблюдать, а ощущаемая человеком невозможность отнять другую жизнь. В таком случае одинаково неприемлемы и нормы кровной мести или убийства на дуэли, и смертная казнь убийцы (по закону), и убийство на войне. Это, разумеется, не значит, что высоконравственные люди не участвуют в войнах, никогда не убивают и не применяют силы. Но это значит, что любое вынужденное убийство, насилие над другим человеком, причиненное зло – это и личная трагедия для человека высокой нравственности. Это всегда душевный конфликт, который не разрешается ссылкой на действие закона, обычая, нормы, необходимости. Убийство, конечно, – это предельный случай. Но и во всем, что касается нормативности, законности, правомерности действий, нравственная культура реализуется тогда, когда высшая ценность не мораль, не закон, а человек.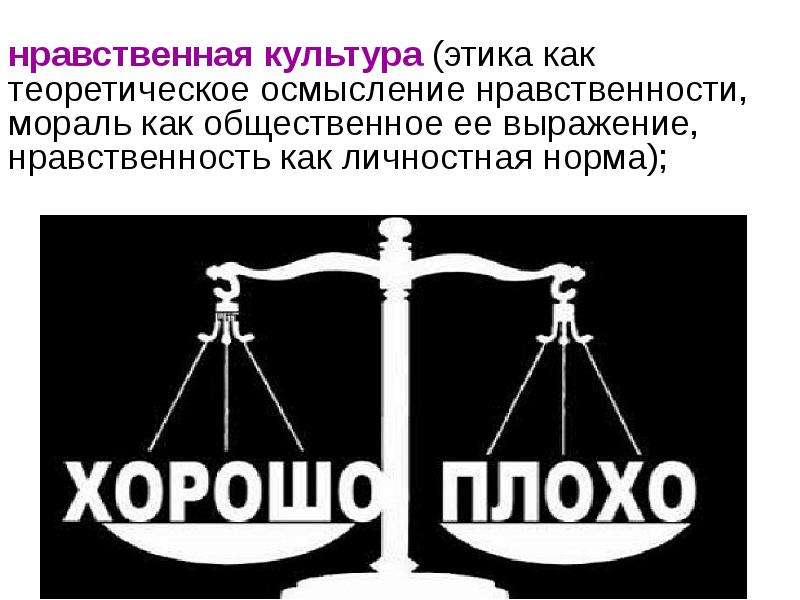 Действительная нравственная культура предполагает, что добро хотят творить и творят и в случае, если это противоречит действующим законам и установлениям. И не потому, что добро полезно. И не потому, что человек должен быть добрым. А потому, что он на самом деле добр, милосерден, совестлив. Потому, что конкретное добро, реализуемое в конкретных отношениях к конкретным людям, есть желаемое им самопроявление.
Действительная нравственная культура предполагает, что добро хотят творить и творят и в случае, если это противоречит действующим законам и установлениям. И не потому, что добро полезно. И не потому, что человек должен быть добрым. А потому, что он на самом деле добр, милосерден, совестлив. Потому, что конкретное добро, реализуемое в конкретных отношениях к конкретным людям, есть желаемое им самопроявление.
Таким образом, высокая нравственная культура, способность человека к тонкому личностному различению добра и зла, его внутренняя устремленность к добру не вполне органичны для сфер хозяйства, политики и права. Основания и смыслы человеческой нравственности ищут обычно в других сферах жизни, и чаще всего в сфере религиозной веры.
При этом Бог выступает как воплощение высших нравственных ценностей, так как он всеблагой, добрый и милосердный, он и есть Любовь. Поэтому Вера в него является будто бы основой нравственности человека, а неверие ведет к безнравственности, утрате нравственных ценностей, регулирующих его поведение и отношения с миром. Как говорят герои Достоевского, раз Бога нет, значит, все дозволено. В священных текстах всех народов содержатся предписанные человеку нормы поведения, данные свыше. Предписывается или любить ближнего больше, чем самого себя (в христианстве), или не причинять вреда другим людям, не умножать зла, быть милосердными и терпимыми. Образы легендарных религиозных учителей, святых, пророков и особенно образ Христа в христианстве, дают примеры высокой нравственности.
Таким образом, как будто бы и бытие, и уровень нравственной культуры определяются верой. Тогда можно сказать, что нравственная культура наиболее полно выражена в религиозности. Так оно и есть, если, во–первых, сама вера выступает как полноценная культура. Во–вторых, и это главное, если она в этом качестве не только провозглашается, но и реализуется в жизни.
Но на деле существуют не идеально–прекрасные абстракции религиозной веры, а конкретные религии и верования.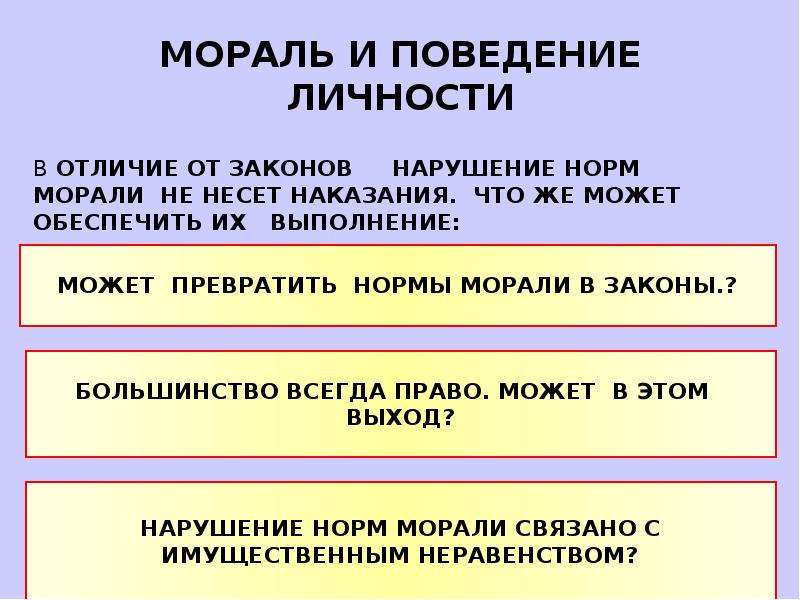 И их связи с нравственностью далеко не однозначны. Так, христиане (как и мусульмане) по–разному относятся к братьям во Христе и к нехристям. Любовь к Богу, искренняя и сильная вера зачастую фанатичны и догматичны, следовательно, ведут к религиозной, а отсюда и к житейской нетерпимости и жестокости. Достаточно вспомнить действия святой инквизиции или ордена иезуитов, для которых в борьбе за укрепление веры все средства были хороши. Русская православная церковь проявила те же качества в борьбе с раскольниками и еретиками. Целями отстаивания и укрепления веры порой оправдываются самые безнравственные действия. Оказывается, что ради веры можно убивать и мучить людей, и даже необходимо быть немилосердным. И порой сам Бог представляется в виде неумолимо карающего грешников судии.
И их связи с нравственностью далеко не однозначны. Так, христиане (как и мусульмане) по–разному относятся к братьям во Христе и к нехристям. Любовь к Богу, искренняя и сильная вера зачастую фанатичны и догматичны, следовательно, ведут к религиозной, а отсюда и к житейской нетерпимости и жестокости. Достаточно вспомнить действия святой инквизиции или ордена иезуитов, для которых в борьбе за укрепление веры все средства были хороши. Русская православная церковь проявила те же качества в борьбе с раскольниками и еретиками. Целями отстаивания и укрепления веры порой оправдываются самые безнравственные действия. Оказывается, что ради веры можно убивать и мучить людей, и даже необходимо быть немилосердным. И порой сам Бог представляется в виде неумолимо карающего грешников судии.
В смысле нравственности проблематичны и заложенные, в частности в христианстве, идеи искупления и отпущения грехов. Можно согрешить, покаяться и в известной мере освободиться от ответственности за содеянное. Бог может «простить» человеку все, кроме неверия в него, но ведь тогда и при вере в Бога все, или почти все дозволено. Тем более что жизнь в миру, мирские дела и отношения менее важны, чем вера. Именно поэтому святость (и нравственная чистота) проявляется в отказе от мирской жизни. В целом же получается, что нравственность или безнравственность человека определяются их значимостью именно для веры. А проявления последней в реальной жизни не однозначны. Формализация и рационализация веры, превращение ее во внешний ритуал фактически делают ее безнравственной, фальшивой, лицемерной и пустой (о чем писали С. Кьеркегор и Ф. Ницше). Но интимизация и мистизация веры, т. е. когда у человека остается возможность искренней, но только внутренней связи с Богом, тоже не предопределяют нравственного совершенства человека.
Люди могут посещать или не посещать храмы, истово или формально молиться в них, общаться с Богом в своей душеивтожевремя совершать безнравственные поступки или грешить в мыслях и чувствах. Непосредственные проводники и охранители веры, т. е. божьи люди (священники, монахи и т. д.), как известно, бывают по меньшей мере столь же безнравственны (сластолюбивы, корыстолюбивы, жестоки, лицемерны), как и миряне. Правда, они вынуждены более тщательно скрывать свою безнравственность. А то, что в каждой из религий, в каждой церкви есть действительно святые, ни о чем не говорит. Ведь и среди неверующих есть «святые», люди необычайной нравственной чистоты.
Непосредственные проводники и охранители веры, т. е. божьи люди (священники, монахи и т. д.), как известно, бывают по меньшей мере столь же безнравственны (сластолюбивы, корыстолюбивы, жестоки, лицемерны), как и миряне. Правда, они вынуждены более тщательно скрывать свою безнравственность. А то, что в каждой из религий, в каждой церкви есть действительно святые, ни о чем не говорит. Ведь и среди неверующих есть «святые», люди необычайной нравственной чистоты.
Видимо абсолютно не обязательно вера, даже самая искренняя, исходно нравственна. Скорее наоборот: истинность веры, ее действенно–гуманистический характер зависят от того, в какой мере для нее органичен высший уровень нравственной культуры; насколько ценности этой веры могут выступать не в качестве значимостей или норм, а в действительно желаемом и реализуемом типе нравственного поведения. Высоконравственная культура как верующего, так и атеиста выявляется не в отношении к Богу, а в отношении к другим людям. Только для верующего настоящая любовь к ближнему – это и есть земное проявление божественности, конкретизация его любви к Богу, а для неверующего такое же отношение к ближнему не требует внешних источников и опор. Его нравственность самообоснованна и основание ей – самоценность человека.
Так что ни у религиозности, ни у безрелигиозности нет преимущества по отношению к нравственности. Высокая нравственная культура может реализовываться и как религиозная и как нерелигиозная. Но в том и в другом случаях она связана с эстетической культурой.
Итак, нравственность, неодинаково проявляясь во всевозможных условиях жизни и ее сторонах, по–разному реализуется на всех уровнях культуры. Например, для низшего уровня характерно грубое различение человеком добра и зла и осознание добра как значимости. Минимальная нравственная оформленность, «обработанность» отношений между людьми выступает здесь в виде подчинения намерений и действий человека внешним для него моральным нормам (традициям, обычаям, правилам), господствующим в обществе, в котором он живет. Отношения и поступки, построенные на доброте, реализация нравственности в ее разных модификациях – все это существует лишь постольку, поскольку это полезно, удобно и выгодно для жизни индивида.
Отношения и поступки, построенные на доброте, реализация нравственности в ее разных модификациях – все это существует лишь постольку, поскольку это полезно, удобно и выгодно для жизни индивида.
На более высоком уровне культуры нравственность обретает самоценность вплоть до признания добра безусловно–абсолютной ценностью. Существующие правила нравственного поведения, если они внутренне приняты индивидом, становятся его нормами. Человек такого уровня действительно настроен творить и утверждать добро, считая это своим (и всеобщим) долгом. Исполнение долга здесь не зависит от полезности, практичности и может предполагать полную самоотдачу и самопожертвование. Добро и добродетель на этом уровне – ценности именно духовные. Но их абсолютизация часто приводит к ригоризму по отношению к себе и другим, к проявлению «права» жестоко судить людей, прощать или не прощать их прегрешения, требовать от них исполнения нравственного долга.
На третьем уровне культуры высшей ценностью является не добро, а другой (всегда конкретный) человек. Именно поэтому осуществление добра по отношению к нему не столько должно, сколько желаемо. Здесь оказываются важными не нормы, а соответственно выраженное нравственное содержание. Существенно не только стремление (это есть и на втором уровне), но и умение творить добро так, чтобы другой человек мог свободно принять проявляемые по отношению к нему сочувствие, жалость, заботу и милосердие. Причем он должен ощущать их не как «подачки» или нечто навязанное, а как проявления нужной человеку и радостной для него любви. Э. Фромм писал, что «любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и благополучии того, кого мы любим».[128] Но озабоченность и заинтересованность приемлемы только тогда, когда они «оформлены», окультурены и эстетизированы. Ведь добро становится истинным только в том случае, если оно радостно и для того, кто его творит, и для того, по отношению к кому оно проявляется. В самом общем виде нравственная культура – это желание и умение творить добро и противодействовать злу.
В отдельные моменты и в общем в жизни каждого человека могут доминировать те или иные проявления разных уровней нравственной культуры. И чем больше проявлений высшего уровня, тем в большей степени преодолевается нравственное бескультурье, становятся невозможными безусловно безнравственные отношения и действия, такие как жестокость, предательство, донос. И тем сильнее проявляется способность человека к любви, сочувствию и уважительно–деликатное отношение к нравственному (и иному) своеобразию других людей и других культур.
Нередко к числу нравственных ценностей, кроме Веры, а порой и наряду с ней, относят Любовь. Это не бесспорно, потому что смыслы, которыми наполняются слова «любовь, люблю», очень уж различны. Во всяком случае, рассмотрение любви как ценность, отличную от нравственности, выглядит вполне логичным.
Нравственная культура
Понятие нравственной культуры общения относится собственно к его первому виду, в котором имеет место непосредственное обращение к морали, и которое определяется только ее категориями. Гуманистическая этика общения отличается также доверием, доброжелательностью и уважением, причем не только к другому субъекту, но и ко всему, что с ним связано (его друзьям, интересам, даже его одежде и вещам). Признание ценности человека тесным образом связано с конкретными оценками людей, вступающих в общение. Многие сложности, возникающие в процессе общения, порождаются несоответствием самооценки личности и ее оценки окружающими. Как правило, самооценка всегда выше, чем оценка окружающих (хотя она бывает и заниженной). Нравственная культура общения включает в себя ряд необходимых элементов: постановку цели общения; выбор партнера; побудительные мотивы и настроения; формы и способы общения; конечные результаты и их оценку. Нравственная культура общения предполагает наличие моральных убеждений, знаний моральных норм, готовность к моральной деятельности, здравый смысл, особенно в условиях конфликтных ситуаций. Моральное общение – это выражение содержания и уровня духовного облика личности. Нравственная культура общения представляет собой единство нравственного сознания и поведения. Это нередко требует от человека самоотверженности и самообладания. А когда речь идет о Родине, патриотизме, чувстве долга, то и способности самопожертвования. Нравственная культура общения подразделяется на: 1) внутреннюю и 2) внешнюю. Внутренняя культура — это нравственные идеалы и установки, нормы и принципы поведения, являющиеся фундаментом духовного облика личности. Это те духовные основания, на которых человек строит свои отношения с другими людьми во всех сферах общественной жизни. Внутренняя культура личности играет ведущую, определяющую роль в формировании внешней культуры общения, в которой она находит свое проявление. Способы такого проявления могут быть многообразными — обмен с другими людьми приветствиями, важной информацией, установление различных форм сотрудничества, отношения дружбы, любви и др. Внутренняя культура проявляется в манерах поведения, способах обращения к партнеру, в умении одеваться, не вызывая нареканий со стороны окружающих. Внутренняя и внешняя культура нравственного общения всегда взаимосвязаны, дополняют друг друга и существуют в единстве. Однако такая их взаимосвязь не всегда очевидна. Есть немало людей, у которых за кажущейся необщительностью, некоторой скрытностью обнаруживается духовно богатая личность, готовая откликнуться на вашу просьбу, оказать, если нужно, помощь и т. д. В то же время существуют и такие индивиды, которые за внешним лоском скрывают свою убогую и непорядочную сущность. В жизни встречается немало примеров, когда для некоторых людей внешняя сторона общения становится самоцелью и фактически является прикрытием для достижения эгоистических и корыстных целей. Вопросы единства внутренней и внешней культуры нравственного общения, определение их объективных критериев весьма актуальны в современном обществе, когда резко обозначилась нивелировка в иерархии моральных ценностей, происходит разрушение нравственных устоев личности и общества, а место устранившегося из воспитательной сферы государства занимают СМИ и различного рода самозваные учреждения, выступающие зачастую с сомнительной моральной продукцией. Культура нравственного общения, взятая в единстве ее внутренних и внешних характеристик, является важнейшим способом социального бытия, показателем духовного здоровья и благополучия личности и общества. |
понятия, исторические точки зрения на происхождение нравственности, основные категории.
Термин «нравственная культура» образовался на базе двух понятий «нравственность» и «культура». Нравственность – это практическая воплощенность моральных идеалов, целей и установок в различных формах социальной жизнедеятельности, в культуре поведения людей и отношениях между ними.
Само слово «культура», как известно, происходит от латинского «cultura»,
что в переводе на русский язык означает возделывание, обработка, воспитание, совершенствование, образование.
Субъектом культуры, ее носителем являются как общество в целом, так и его структурные образования: нации, классы, социальные слои, профессиональные общности и каждый человек в отдельности. И во все этих
случаях культура выступает как качественная характеристика степени совершенства любой сферы человеческой жизнедеятельности и самого человека.
Нравственная культура выступает как сложная программа, включающая освоенный опыт человечества, который помогает поступать нравственно в традиционных ситуациях, а также творческие элементы сознания, такие как нравственный разум, интуиция, способствующие принятию морального решения в проблемных ситуациях.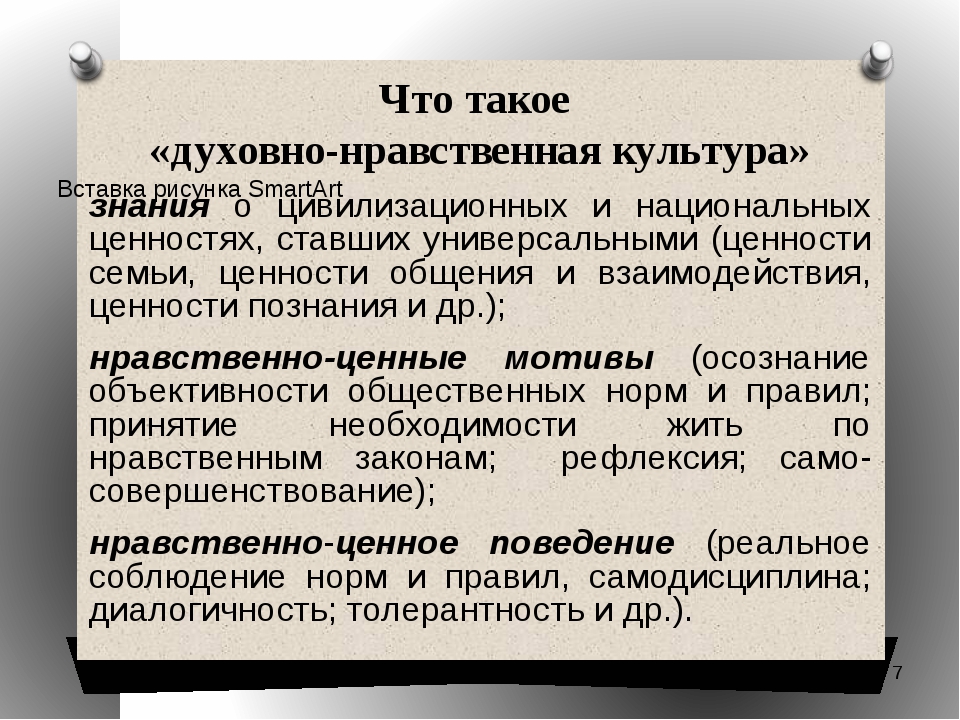
Слово » нравственность » означает в современном языке примерно то же самое, что и мораль. Ведь этимологически термин «мораль» восходит к латинскому слову «mos» (множественное число «moris»), обозначающему «нрав», «moralis» — «нравственный». Другое значение этого слова — закон, правило, предписание. В современной философской литературе под моралью понимается нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных отношений; один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм.
Каждый поступок человека, если он в той или иной степени влияет на других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой, правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. При этом мы пользуемся понятием морали.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.
Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав, правило. В зависимости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой мере он соотносит свои убеждения и поведение с действующими моральными нормами и принципами, можно судить об уровне его нравственности. Иначе говоря, нравственность — это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека.
Понятия морали, имеющие всеобщий характер, т.е. охватывающие не отдельные отношения, а все области отношений, побуждая человека везде и всюду руководствоваться ими, называются нравственными категориями.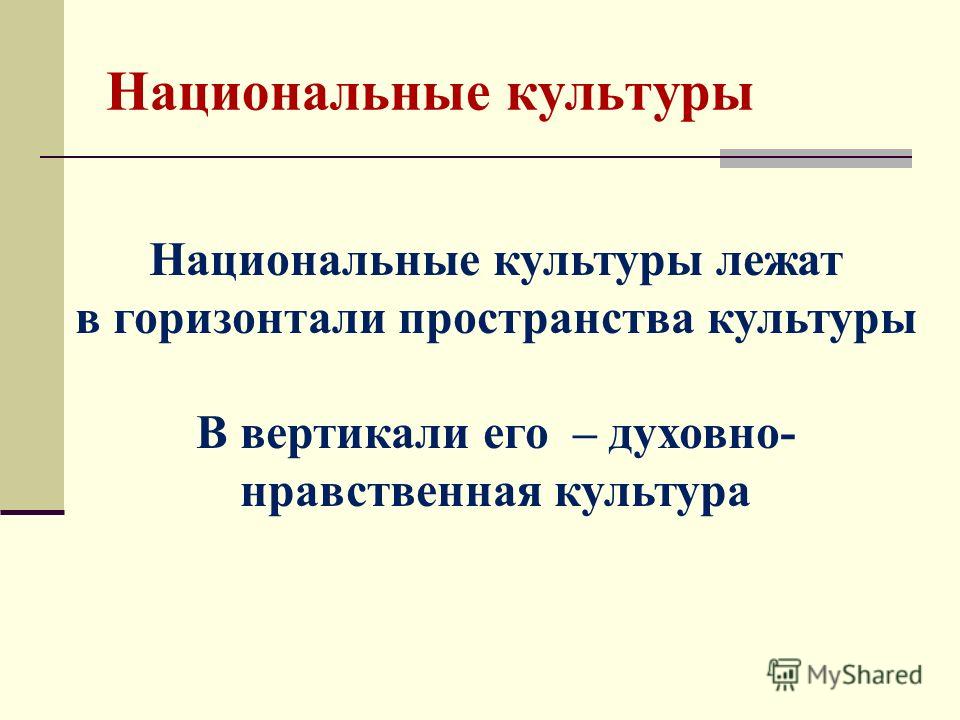 В их числе такие категории, как добро и справедливость, долг и честь, достоинство и счастье и др.
В их числе такие категории, как добро и справедливость, долг и честь, достоинство и счастье и др.
К понятию добра очень близко понятие нравственного идеала. Идеал — это некий высший образец, конечная цель нравственной деятельности. Этический идеал можно представить как совершенную личность, служащую примером для подражания. Он может отражать и представления о должном обществе, о гармоничном социальном устройстве. В этом случае важную роль играет понятие справедливости, характеризующее меру соответствия между деятельностью человека и ее оценкой другими людьми, обществом.
С понятием идеала тесно связано понятие нравственной нормы. Ведь чтобы соответствовать выбранному образцу, человек должен соблюдать определенные условия. Норма и есть такое условие, своеобразное требование к человеку. Норма не цель, а средство. Она значима не сама по себе, а своим идеальным обоснованием. Без связи с идеалом норма формальна и лишена нравственного содержания.
Нормы могут быть восприняты человеком как оптимально соответствующие его ценностным установкам, а следовательно, необходимые, и в таком качестве стать внутренним побуждением. В этом случае соблюдение нормы становится долгом, т.е. личной задачей человека, его обязанностью. Долг — это нравственная форма осознания необходимости действия. Человек совершает должный поступок добровольно, из уважения к идеалу, закону (моральному) и к себе. Важной характеристикой долга является его связь с волевыми качествами человека. Чтобы исполнить свой долг, ему часто приходится преодолевать многочисленные трудности как во внешнем мире, так и в мире внутреннем (например, чувство страха и т.п.).
Осознание долга играет важную роль в личной и общественной жизни. Способность человека понимать, критически оценивать и эмоционально переживать несоответствие своего поведения должному характеризуется понятием совести. Совесть — это своеобразный нравственно-психологический механизм самоконтроля. Ответственность за свои поступки, по мнению многих философов, есть главная характеристика личности.
Категория свободы является ключевой в этике, так как нравственная реальность основывается на способности человека к самостоятельным поступкам. Совершенное под принуждением деяние не может считаться ни добрым, ни злым. Оно вообще вне сферы нравственности. В результате за вынужденный поступок человек фактически не несет никакой моральной ответственности. И наоборот, за свободно совершенное действие он ответствен в полной мере. Иными словами, свобода есть неотъемлемое качество субъекта нравственности.
Категория справедливости выражает идею правильного, должного порядка вещей в человеческих взаимоотношениях, который соответствует представлениям о назначении человека, естественных и неотъемлемых правах и обязанностях. В наибольшей степени нравственный смысл понятия справедливости выражен в интерпретации справедливости как правды, справедливости как честности, справедливости как следования природе и исполнению долга.
Кроме перечисленных выше категорий в этике есть много других общих понятий.
Добро и зло — центральные понятия морали.
В самом общем виде добро — это то, что оценивается положительно, рассматривается как важное и значительное для жизни индивида и общества. Добро есть то, что позволяет индивиду и обществу жить, развиваться, благоденствовать, достигать гармонии и совершенства.
Добро — одно из наиболее общих понятий морального сознания и одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью — злом добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, имеющего положительное и отрицательное моральное значение, того, что отвечает содержанию требований нравственности, и того, что противоречит им. С помощью идеи добра люди оценивают все происходящее вокруг них, общественные явления и действия отдельных лиц. В зависимости от того, что именно подвергается оценке (поступок, моральное качество личности, взаимоотношения людей или состояние общества в целом), общее понятие добра приобретает форму более конкретных понятий — добродетели, справедливости и др.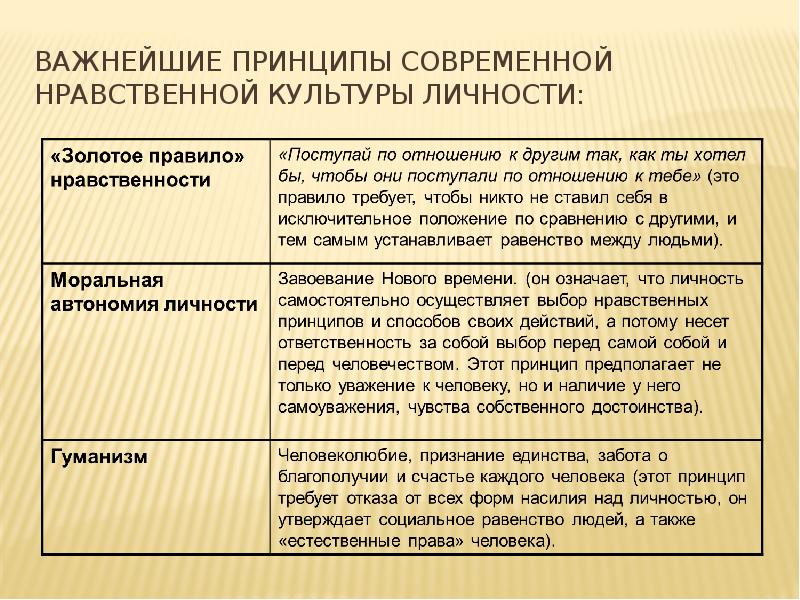
Вот как размышляет о добре и зле, о сущности нравственности и назначении человека Н.А. Бердяев: «Основное положение этики, понявшей парадокс добра и зла, может быть так сформулировано: поступай так, как будто бы ты слышишь Божий зов и призван в свободном и творческом акте соучаствовать в Божьем деле, раскрывай в себе чистую и оригинальную совесть, дисциплинируй свою личность, борись со злом в себе и вокруг себя, но не для того, чтобы оттеснять злых и зло в ад и создавать адское царство, а для того, чтобы реально победить зло и способствовать просветлению и творческому преображению злых».
Моральные нормы, принципы, категории, идеалы принимаются людьми, принадлежащими к определенной социальной группе, и выступают как форма общественного нравственного сознания. Вместе с тем мораль — это и форма индивидуального нравственного сознания, так как человеку присущи свои особенности духовного склада, самобытные представления, чувства, переживания. Эти личные проявления всегда окрашены общественным сознанием. Усвоенные и принятые личностью нравственные нормы, принципы, категории, идеалы в то же время выражают ее определенные отношения к другим людям, к себе, к своему труду, к природе.
Формирование нравственности началось еще во времена австралопитеков. Н. Н. Моисеев описывает основы формирующейся нравственности как механизма защиты вида от действия биосоциальных законов. Появились различные табу – половые запреты, родившие чувство стыда и заставившие человека надеть набедренную повязку. Но главным было табу « не убий!». Если бы не возникло этого табу, наши предки просто перебили бы друг друга. Нравственность, как понимает ее Н. Н. Моисеев, это некоторый эволюционный феномен, рожденный в процессе формирования общества и развития общественного сознания. Ее появление вызвано жесткой необходимостью, обеспечивающей выживание рода, племени, а затем народа и общества в целом. Но развитие нравственности нельзя свести к «элементарной необходимости». Однажды возникнув в форме некой совокупности запретов, нравственные начала в дальнейшем развивались, во многом следуя уже своей логике.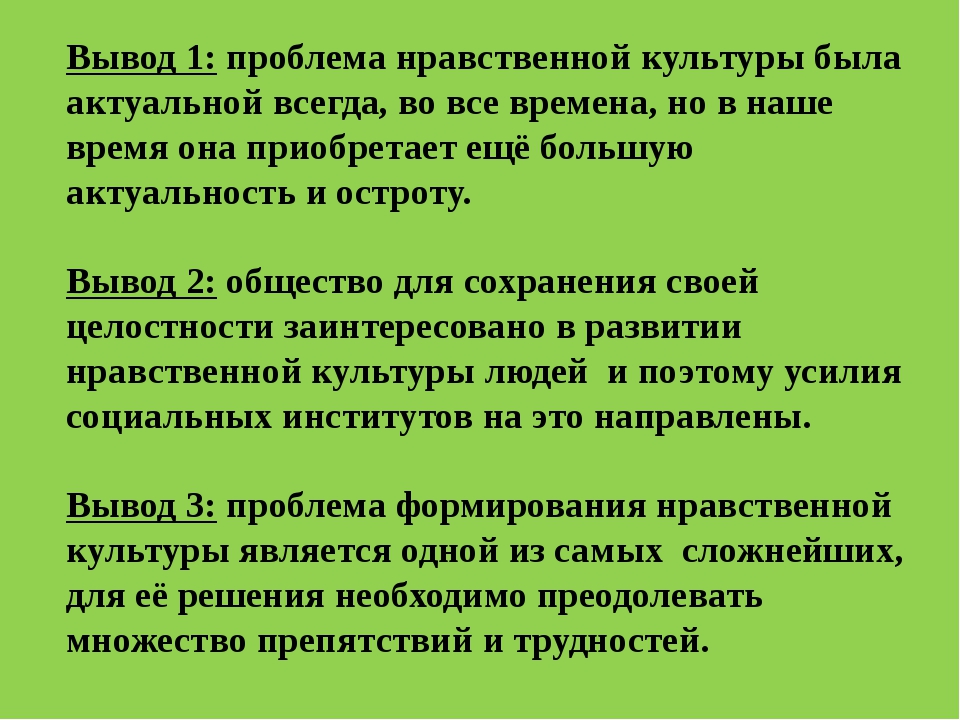
Чарльз Дарвин, близко знакомый с природой человек, объяснил нравственное чувство так. В человеке, с развитием разума, знаний и соответственных обычаев, инстинкт общительности всё более и более развивался; а затем дар речи и впоследствии искусство и письменность должны были сильно помочь человеку накоплять житейскую опытность и всё дальше развивать обычаи взаимопомощи и солидарности, т. е. взаимной зависимости всех членов общества. Таким образом, становится понятным, откуда в человеке появилось чувство долга.
Герберт Спенсер, посвятивший свою жизнь выработке рациональной философии, построенной на теории развития, и много лет работавший над вопросом о нравственности, не вполне пошел вслед за Дарвином в объяснении нравственного инстинкта. После запоздалого признания взаимной помощи среди животных и после признания, что у некоторых из них есть зачатки нравственного чувства, Спенсер тем не менее остался сторонником Гоббса, отрицавшего существование нравственного чувства у первобытных людей, «пока они не заключили общественного договора» и не подчинились неизвестно откуда взявшимся мудрым законодателям. ( Гоббс был английским мыслителем крайне консервативного лагеря, писавшим вскоре после английской революции 1636–1648 годов.)
Если ближе рассмотреть первобытные представления о справедливости, т.е. о равноправии, можно увидеть, что, в конце концов, они выражают не что иное, как обязанность никогда не обращаться с человеком своего рода так, как не желаешь, чтобы обращались с тобой, т. е. именно то, что составляет первое основное начало всей нравственности и всей науки о нравственности, т. е. этики.
Нравственные понятия глубоко связаны с самим существованием живых существ: без них они не выжили бы в борьбе за существование; что развитие таких понятий было так же неизбежно, как и все прогрессивное развитие или эволюция от простейших организмов вплоть до человека, и что это развитие не могло бы совершиться, если бы у большинства животных не было уже зачатков стадности, общежительности и даже, в случае надобности, самоотверженности.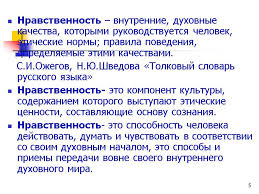
Нравственность, нравственная культура современного общества основана на простых принципах: разрешено все, что не нарушает непосредственно прав других людей и права всех людей равны.
Нравственные ценности современности заметно отличаются от традиционных. Основной акцент делается на саморазвитии, что приводит, с одной стороны, к достижению личных целей (например, карьерному росту), а с другой стороны, — к «непотребительскому» отношению к другим людям (т.к. главный ресурс — свои способности — за счет других увеличить невозможно).
Разумеется, сохраняются (а точнее — усиливаются) все классические нравственные императивы: «не убивай», «не воруй», «не лги», «сочувствуй и помогай другим людям». И эти базовые установки уже не будут нарушаться во имя Бога, чем грешат большинство религий (особенно по отношению к «иноверцам»).
Важным нравственным императивом Современного общества является уважение к закону и праву, т.к. только закон может защитить свободу человека, обеспечить равенство и безопасность людей. И, напротив, желание подчинить другого, унизить чье-либо достоинство являются самыми постыдными вещами.
Общество, где все эти ценности работают в полном объеме, было бы, пожалуй, самым эффективным, сложным, быстроразвивающимся и богатым в истории. Оно было бы и самым счастливым, т.к. предоставляло бы человеку максимум возможностей для самореализации.
Почти все писавшие о нравственности старались свести ее к какому-нибудь одному началу: к внушению свыше, к прирождённому природному чувству или же к разумно понятой личной или общественной выгоде. На деле же оказывается, что нравственность есть сложная система чувств и понятий, медленно развивающихся и всё далее развивающихся в человечестве. В ней надо различать по крайней мере три составных части: инстинкт, т.е. унаследованную привычку общительности; понятие нашего разума — справедливость и, наконец, чувство, ободряемое разумом, которое можно было бы назвать самоотвержением или самопожертвованием, если бы оно не достигало наиболее полного своего выражения именно тогда, когда в нём нет ни пожертвования, ни самоотвержения, а проявляется высшее удовлетворение продуманных властных требований своей природы. Даже слово «великодушие» не совсем верно выражает это чувство, так как слово «великодушие» предполагает в человеке высокую самооценку своих поступков, тогда как именно такую оценку отвергает нравственный человек. И в этом истинная сила нравственного.
Даже слово «великодушие» не совсем верно выражает это чувство, так как слово «великодушие» предполагает в человеке высокую самооценку своих поступков, тогда как именно такую оценку отвергает нравственный человек. И в этом истинная сила нравственного.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему
Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Узнать стоимостьНравственная культура личности | Dagpravda.ru
Мораль народов Дагестана и составляющие ее нормы, передаваясь по поколениям, нашли свое выражение в адатах, традициях и обычаях. В досоветский период нравственный фактор имел особо важное значение. Каждый гражданин, семья и род щепетильно следили за тем, чтобы их родственник не уронил честь и достоинство. Лучшие нравственные традиции и нормы горцев поддерживались и при Советской власти.
К сожалению, с переходом к рыночной экономике деформировались не только советские, но и веками функционировавшие моральные принципы и нормы горцев. Основным мерилом достоинства личности часть становятся деньги и должности, предоставляющие возможность делать деньги. В этой связи происходит резкий спад общей культуры и интеллекта. Предметом торга стали дипломы всех уровней, профессорами и академиками нередко становились люди, не способные написать самостоятельно научную работу. Но это не значит, что в нашем обществе не осталось ничего примечательного, что все граждане нашего горного края отрешились от традиционных нравственных норм и не умеют ценить возвышенное. Во всех сферах жизни нашего общества есть такие люди.
Нет сомнения в том, что образованность может и должна играть очень важную роль в формировании культуры личности. В вузах студенты приобретают все необходимые знания для того, чтобы можно было сделать сознательный нравственный выбор, поступать в соответствии с общепринятыми нравственными требованиями.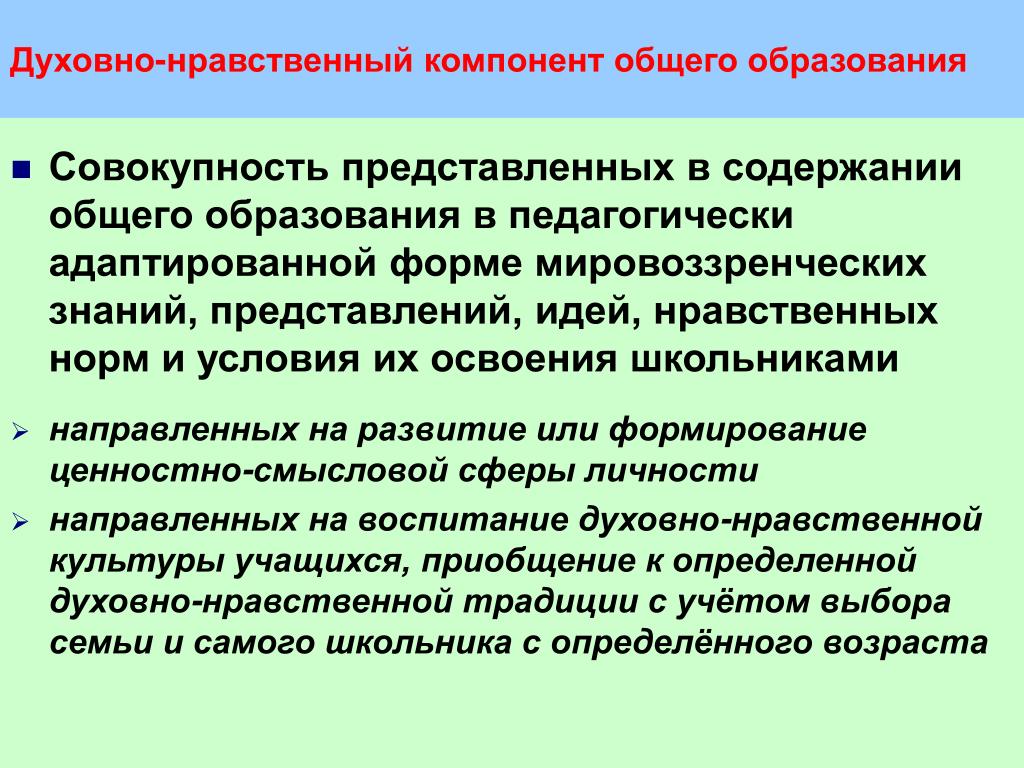 К сожалению, этому следуют не все и не всегда. Нередко уровень нравственного сознания, поведения и ответственности у необразованных стариков выше, чем у части образованной молодежи. Очень многие молодые люди не соблюдают даже традиционные нормы горской этики. Есть студенты, которые последовательно не придерживаются их даже по отношению к своим преподавателям. Они и учатся, как правило, неважно. И многие вызванные в школу и вузы родители открыто признают, что еще менее эффективны их собственные попытки повлиять на детей.
К сожалению, этому следуют не все и не всегда. Нередко уровень нравственного сознания, поведения и ответственности у необразованных стариков выше, чем у части образованной молодежи. Очень многие молодые люди не соблюдают даже традиционные нормы горской этики. Есть студенты, которые последовательно не придерживаются их даже по отношению к своим преподавателям. Они и учатся, как правило, неважно. И многие вызванные в школу и вузы родители открыто признают, что еще менее эффективны их собственные попытки повлиять на детей.
Есть еще одно негативное проявление у некоторой части молодежи: у себя в селении у них одно поведение, в городе — другое. Такой вот двойной стандарт. Огромное значение для формирования нравственной культуры молодежи и всего населения имеет образ жизни, культура и поведение старшего поколения. Раньше большое влияние на общество имели преподаватели вузов, ученые, деятели профессиональной культуры, они пользовались авторитетом в обществе. Теперь положение изменилось: материальное состояние людей этих профессий часто хуже, чем у торговцев с рынка.
Нравственная культура личности проявляется не только в моральных знаниях, помыслах, поведении, но и в нравственных чувствах. Главное в человеческом отношении к другому человеку — бескорыстная помощь, добро и справедливость. Стало быть, добро должно быть бескорыстным и справедливым.
Так и понимало добро старшее поколение в Дагестане. Горцы считали такое проявление само собой разумеющимся и не подлежащим не только рекламе, но и огласке. Истинное добро неизменно сопровождается уважением к личности. Человек с высокой внутренней культурой будет относиться к людям как к равным себе, не допустит и мысли о своем превосходстве. Он будет уважать чужое мнение, придерживаться культуры общения.
К сожалению, мы часто встречаемся с фактами обратного характера. Общественное положение и деньги нередко портят людей.
Наш выдающийся земляк М.А.Казем-Бек говорил, что самолюбие человека похоже на ртуть в термометре. Под влиянием жара, восторга окружающих и подхалимажа она поднимается. Редко кто может устоять перед напором вала лести и остаться душевным человеком. В нашей республике были и есть много государственных деятелей и чиновников, которых не испортили высокие должности, и они остались доступными простым людям. Их знают в народе. С этих людей и следует брать пример молодежи.
Под влиянием жара, восторга окружающих и подхалимажа она поднимается. Редко кто может устоять перед напором вала лести и остаться душевным человеком. В нашей республике были и есть много государственных деятелей и чиновников, которых не испортили высокие должности, и они остались доступными простым людям. Их знают в народе. С этих людей и следует брать пример молодежи.
Духовно-нравственная культура: как преподавать её в школе?
Как преподавать в школах дисциплины, направленные на изучение духовно-нравственной культуры народов России, обсудили в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЧГПУ).
8-9 октября в вузе прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы совершенствования преподавания основ религиозных культур и светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов России в общеобразовательной школе». Она собрала более 120 участников со всей страны, в том числе специалистов из Москвы, Владивостока, Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), Пензы, Уфы, Ижевска.
«С 2009 года в российских общеобразовательных школах четвероклассники изучают предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), – отметила и. о. ректора ЮУрГГПУ Т. А. Чумаченко. – А не так давно в отечественном образовании появилась ещё одна предметная область – основы духовно-нравственной культуры народов России. Содержание этих дисциплин культурологическое, оно направлено на развитие у школьников представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских и религиозных традиций нашей многонациональной страны, на понимание их значения в жизни современного общества».
С момента введения
курса ОРКСЭ и по сей день споры вокруг него не утихают: вопросы преподавания
ОРКСЭ волнуют родителей, школьных учителей, руководителей образовательных
учреждений, методистов, учёных-педагогов и представителей традиционных религий.
Поэтому Министерство просвещения РФ решило провести серию научно-практических
конференций во всех федеральных округах.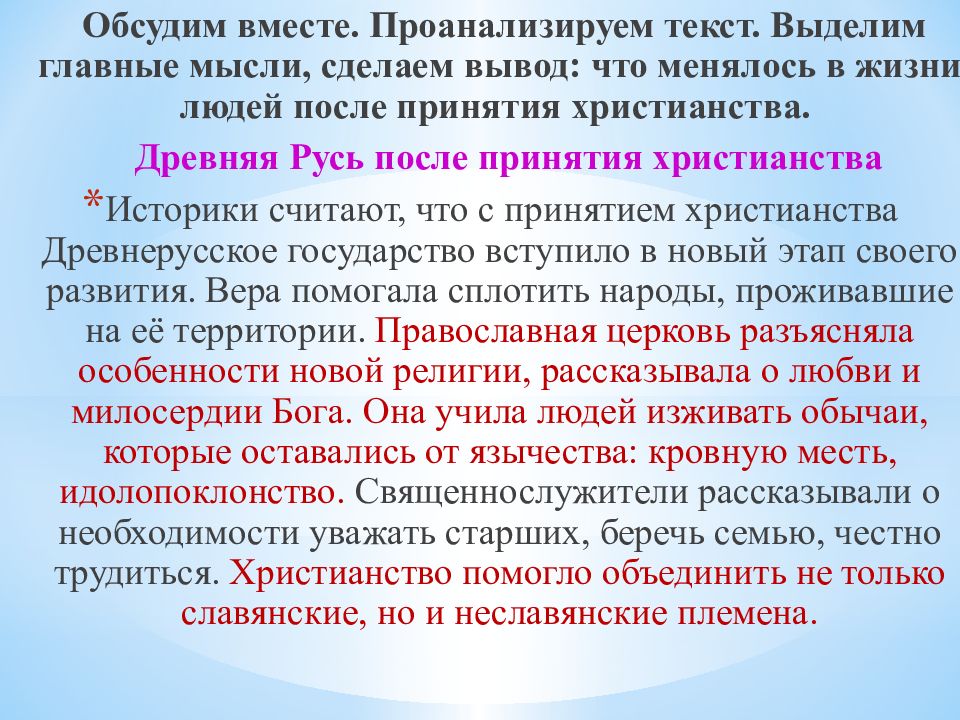 В Уральском федеральном округе эта
честь была предоставлена ЮУрГГПУ. Задача прошедшей конференции как раз и
состояла в том, чтобы собрать всех заинтересованных специалистов, выслушать
различные мнения, познакомиться с опытом других регионов. Этому способствовали
различные мероприятия, прошедшие в рамках конференции: пленарное заседание,
панельная дискуссия, круглые столы, мастер-классы, посещение челябинских
тематических музеев и специальных выставок. В числе основных тем, которые
обсуждались – содержание курса ОРКСЭ, его цели, подготовка кадров,
предоставление свободы выбора для родителей, учебно-методическое сопровождение.
В Уральском федеральном округе эта
честь была предоставлена ЮУрГГПУ. Задача прошедшей конференции как раз и
состояла в том, чтобы собрать всех заинтересованных специалистов, выслушать
различные мнения, познакомиться с опытом других регионов. Этому способствовали
различные мероприятия, прошедшие в рамках конференции: пленарное заседание,
панельная дискуссия, круглые столы, мастер-классы, посещение челябинских
тематических музеев и специальных выставок. В числе основных тем, которые
обсуждались – содержание курса ОРКСЭ, его цели, подготовка кадров,
предоставление свободы выбора для родителей, учебно-методическое сопровождение.
Говоря о значимости ОРКСЭ, заведующий лабораторией развития воспитания и социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, заведующий Научно-методическим кабинетом Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви Игорь Витальевич Метлик отметил: «10 лет назад был выбран такой формат ОРКСЭ, который может удовлетворить потребности разных людей – и верующих разных религий, и атеистов: либо изучение духовной культуры своего народа, либо курс общегражданской светской этики. В целом предметная область ОРСКЭ имеет воспитательную направленность; без этой предметной области наша школа будет лишена учебной дисциплины, которая ориентирована на воспитание детей на основе наших российских традиционных ценностей и культуры». Напомним, что межрегиональная конференция, которая прошла в ЮУрГГПУ – это одна из серии конференций, которые проходят по всей России. Впоследствии результаты обобщат на общероссийской конференции, по ним будут сформулированы предложения по совершенствованию преподавания ОРКСЭ.
Информационное мероприятие, г. Челябинск
границ | Признание моральной идентичности как культурного конструкта
Введение
На протяжении веков психологи, антропологи, социологи и философы пытались объяснить, почему люди действуют морально. Теория стадий нравственного развития Кольберга (1969) десятилетиями служила этой задаче, исследуя, как моральные рассуждения влияют на моральное поведение в гипотетических ситуациях. Хотя теория Кольберга дает представление о развитии навыков морального мышления, его теория ограничена, потому что моральное рассуждение само по себе не является сильным предсказателем морального действия (например,г., Блази, 1983). В попытке улучшить наше понимание того, почему люди действуют морально, исследователи применили новый подход к моральной психологии, который пытается найти связь между моральным суждением и моральным действием. Этот новый подход вызвал интерес к теме моральной идентичности, которую Харди и Карло определяют как «степень, в которой нравственная личность важна для личности» (Харди и Карло, 2005, стр. 212). Исследования показали, что люди, похоже, формируют моральную идентичность, и что усвоение моральной идентичности может влиять на моральные действия (например,г., Krettenauer et al., 2016). Хотя это направление исследований является многообещающим, некоторые исследователи задаются вопросом, действительно ли моральная идентичность мотивирует человека действовать морально в незападных культурах. Однако это проблематично, потому что культурные психологи предполагают, что люди как внутри, так и в разных культурах имеют разные представления о себе, когнитивные процессы, эмоциональные ожидания и ценностные ориентации (Krettenauer and Jia, 2013). Поэтому в данной статье делается попытка ответить на этот вопрос, предлагая культурно инклюзивный подход к исследованию моральной идентичности.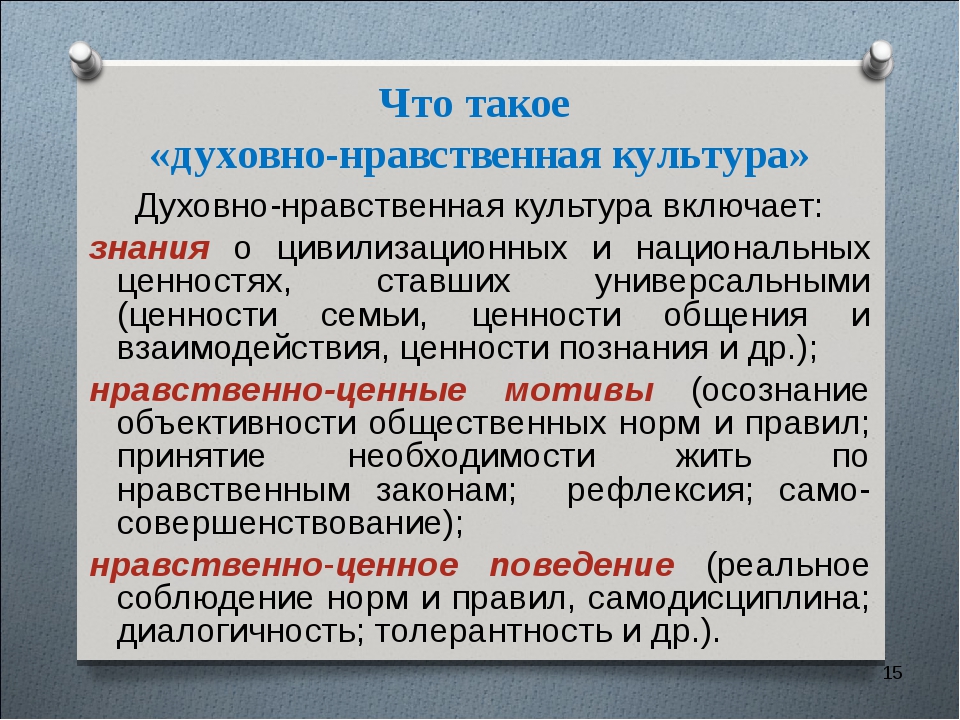 Во-первых, мы рассмотрим культурную критику моральной психологии в целом. Далее мы обсудим культурные рамки для изучения моральной идентичности.
Во-первых, мы рассмотрим культурную критику моральной психологии в целом. Далее мы обсудим культурные рамки для изучения моральной идентичности.
Моральная психология и культурная критика
Работа Лоуренса Кольберга сильно повлияла на развитие моральной психологии. Его модель моральных рассуждений и суждений частично основана на модели когнитивного развития Пиаже. Теория нравственного развития Кольберга (Kohlberg, 1969) предлагает шесть универсальных стадий развития морального мышления.Эта последовательность начинается с того, что дети сосредотачиваются на том, чтобы избежать наказания властью (стадия 1), и потенциально заканчивается одобрением универсальных принципов судей и прав (стадия 6). Результаты ряда кросс-культурных исследований показали, что некоторые аспекты теории морали Кольберга универсальны. Например, Гиббс и др. (2007) пересмотрели утверждения Кольберга об универсальности, проанализировав 75 межкультурных исследований, проведенных в 23 странах. На основании этого исследования Гиббс и др. (2007) пришли к выводу, что есть свидетельства того, что первые четыре стадии Колберга могут быть универсальными.
Однако многие исследователи выразили обеспокоенность по поводу неспособности этих теорий объяснить моральные концепции людей в разных культурах (например, Dien, 1982). Эти исследователи утверждают, что они сосредоточены на концепциях справедливости, справедливости и причинения вреда людям и исключают концепции взаимозависимости, социальной гармонии и роли культурной социализации в незападных условиях. Эта озабоченность основана на западной философской мысли и культурной среде, в которой Кольберг развивал свою теорию на Среднем Западе Соединенных Штатов в 1950-х годах.Хотя западные представления об индивидуализме могли быть подходящими для описания его теории в то время и в месте, те же самые понятия не могут представлять универсальные моральные принципы, применимые ко всем людям всех культур.
Со времен Кольберга другие ученые предлагали различные модели для описания морального развития для широкого круга культур. Shweder et al. (1997) обрисовали в общих чертах другой подход к моральному развитию, который постулирует три этики, которые являются центральными для систем моральных убеждений в большинстве культур по всему миру: автономия, общность и божественность.Этот метод различения типов морали не только показывает различные области морали, но также дает нам представление о культурных вариациях (Shweder et al., 1997). Например, на Тайване больше внимания уделяется этике сообщества, чем в Соединенных Штатах, и больше внимания к этике автономии в Соединенных Штатах, чем на Тайване (Vauclair and Fischer, 2011).
Shweder et al. (1997) обрисовали в общих чертах другой подход к моральному развитию, который постулирует три этики, которые являются центральными для систем моральных убеждений в большинстве культур по всему миру: автономия, общность и божественность.Этот метод различения типов морали не только показывает различные области морали, но также дает нам представление о культурных вариациях (Shweder et al., 1997). Например, на Тайване больше внимания уделяется этике сообщества, чем в Соединенных Штатах, и больше внимания к этике автономии в Соединенных Штатах, чем на Тайване (Vauclair and Fischer, 2011).
В своей статье «Новый синтез в моральной психологии» Хайдт (2007) расширяет теорию Шведера, предлагая модель моральных основ.В противовес рациональным теориям морального мышления он утверждает, что мораль — это быстрый, автоматический процесс, сформировавшийся в ходе человеческой эволюции. Согласно Хайдту (2007), пятью моральными основами являются вред, справедливость, внутренняя группа, авторитет и чистота. В попытке определить, какой моральный фундамент поддерживают люди, несколько исследователей протестировали модель морального фундамента в межкультурном контексте. В одном исследовании использовалась кросс-культурная выборка, в которую вошли участники из восточных культур (Южная Азия, Восточная Азия и Юго-Восточная Азия) и участники из западных культур (США, Великобритания, Канада и Западная Европа).Хайдт обнаружил, что восточные участники проявляли более сильную озабоченность по поводу своей группы и чистоты по сравнению с западными участниками, а также что восточные участники были немного больше озабочены авторитетом.
Это исследование литературы по моральной психологии, которая включает стадии морального рассуждения Кольберга, этические кодексы Шведера и моральные основы Хайдта, предполагает, что мораль не является культурно универсальной. Люди во всем мире могут разделять одни и те же моральные основы, этические кодексы и моральные рассуждения, но есть много разногласий по поводу их относительной важности в разных культурах. В этой статье применяется культурный подход к изучению морали, уделяя особое внимание тому, как культуры развивают определенные способы мышления и способствуют развитию определенных ценностей (Норензаян и Гейне, 2005). Этот подход признает, что могут существовать некоторые основные универсальные моральные принципы, но он утверждает, что культура оказывает сильное влияние на различные аспекты морали.
В этой статье применяется культурный подход к изучению морали, уделяя особое внимание тому, как культуры развивают определенные способы мышления и способствуют развитию определенных ценностей (Норензаян и Гейне, 2005). Этот подход признает, что могут существовать некоторые основные универсальные моральные принципы, но он утверждает, что культура оказывает сильное влияние на различные аспекты морали.
Моральная идентичность и культурная инклюзивность
Недавние исследования в области моральной психологии показали, что можно получить более полное понимание морального действия, рассматривая роль «я» в морали, которую часто называют «моральной идентичностью».Харди и Карло объясняют, что моральная идентичность относится к «степени, в которой нравственная личность важна для личности» (Харди и Карло, 2005, стр. 212). Другими словами, если люди чувствуют, что моральные ценности, такие как честность, сострадание, справедливость и щедрость, являются центральными для определения их личной идентичности, они обладают сильной моральной идентичностью. Хотя исследования в этой области продолжают убеждать людей в том, что моральная идентичность в западных обществах играет важную роль в нравственном функционировании, связи между моральной идентичностью и незападной культурой остаются неясными.Например, Герц и Креттенауэр (2016) провели метаанализ, чтобы изучить взаимосвязь между моральной идентичностью и моральным действием. Их исследование включало 111 статей из различных академических журналов. В целом они обнаружили положительную корреляцию между моральной идентичностью и моральным поведением. Однако величина эффекта в этих исследованиях была разной. Величина эффекта была намного ниже в незападных культурах, чем в западных культурах. Авторы предполагают, что низкая величина эффекта может быть связана с различными концепциями моральной идентичности между культурами или с недостаточной обоснованностью нынешних мер моральной идентичности в незападных культурах.Эти результаты привлекают внимание исследователей к проблеме «культурной уникальности» и, таким образом, подчеркивают насущную необходимость оценки моральной идентичности в незападных обществах, а также в западных обществах, чтобы получить менее предвзятые результаты.
В своей книге «Идентичность и жизненный цикл» Эриксон (1980) рассматривает способ, которым мы изучаем развитие личности. Он предлагает не только учитывать эго и личную идентичность, но и учитывать культурный контекст. Это связано с тем, что, хотя эго и личная идентичность являются областями внутриличностного контекста, которые заставляют нас учитывать личные характеристики и самоощущение, добавление культурного контекста помогает нам расширить наше понимание, побуждая нас учитывать такие категории, как родной язык, страна происхождения и расовое происхождение.Концепция идентичности Эриксона направлена на установление социокультурного подхода, охватывающего все элементы личности, включая самые внутренние конфликты эго с включенностью человека в культурный контекст (Schwartz, 2001). Эта организация отражает точку зрения Эриксона о том, что развитие продолжительности жизни происходит на стыке личности и культуры. В результате идентичность представляет собой целостную картину, которую человек показывает как себе, так и внешнему миру. Таким образом, исследование моральной идентичности должно быть сосредоточено не только на индивидуальном, но и на культурном уровне.В какой степени моральная идентичность является функцией взаимодействия в конкретной культуре — важный вопрос, который только недавно был поднят в исследованиях моральной идентичности.
Как и многие другие моральные конструкции, концепция моральной идентичности уходит корнями в западный культурный контекст, который подчеркивает индивидуально ориентированную мораль. Быть нравственным человеком — это результат желания быть совместимым со своими моральными концепциями, благодаря которому люди побуждаются обрести независимость от социальных условностей. Напротив, люди из восточных культур считают высоконравственного человека социально ориентированным.В этой моральной ориентации люди склонны определять себя в контексте коллективизма и взаимозависимого «я» (Маркус и Китайма, 1991). Социальные отношения и членство в группе связаны с мотивацией приспосабливаться к требованиям других и поддерживать гармонию в своей группе (Маркус и Китайма, 1991).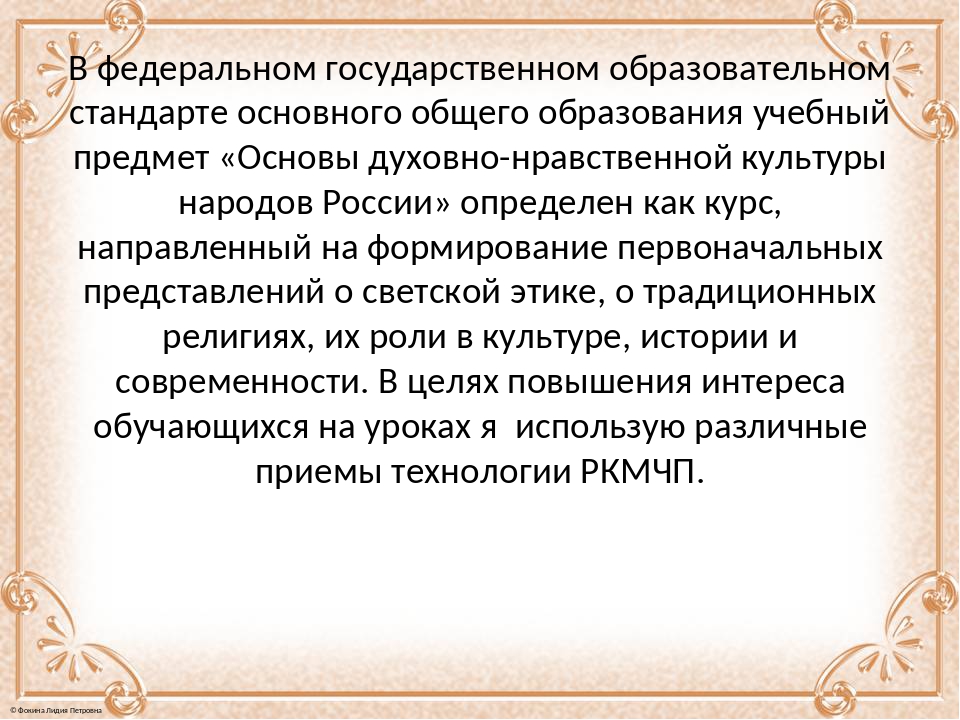 Быть нравственным человеком в восточных обществах может больше отражать групповые нормы, чем индивидуальную мораль.
Быть нравственным человеком в восточных обществах может больше отражать групповые нормы, чем индивидуальную мораль.
Конфуцианство обеспечивает дальнейшую поддержку социально ориентированной моральной системы в восточных культурах.С точки зрения конфуцианства, понимание морали помогает социализировать людей, побуждая их подавлять личные желания в социальных взаимодействиях и устранять «Сяо Ву», личностно-ориентированные действия, вместо этого подчеркивая «Да Ву», социально-ориентированные действия (Хван , 1999). Вследствие восточной идеологии высокоморальный человек «Я» трансформируется в «мы» и, как следствие, укрепляются чувства общества внутри группы.
Китайская система образования использовала конфуцианские ценности усердного и уважительного обучения (Hwang, 1999).Следовательно, на протяжении тысячелетий китайские граждане привыкли отдавать, подчиняться и следовать власти. Расширенные семьи с иерархическими отношениями также были важны в традиционном китайском обществе. Более того, в современной истории Китая культурная революция охватила нацию в 1970-х годах, подтолкнув китайцев к «ориентированному на нацию» коллективизму (Yao, 2000). Очень популярная китайская аналогия этой национальной ценности гласит, что «китайцы подобны кирпичам», что означает, что у всех людей одни и те же функции и что они готовы быть назначенными во всем обществе там, где «общество» в них нуждается (Yao, 2000). .Таким образом, китайцы должны придавать национальный и общественный смысл концепции высокоморального человека, основываясь на моральной идеологии, согласно которой нация является самым основным и важным источником коллективной идентичности.
Культурный подход к изучению моральной идентичности
Эмпирически Герц и Креттенауэр (2016) отмечают, что большинство исследований моральной идентичности основано на опроснике «Самооценка моральной идентичности» (Aquino and Reed, 2002). Эта мера предоставляет участникам список из девяти качеств, которые характерны для высокоморального человека ( заботливого, сострадательного, справедливого, дружелюбного, щедрого, полезного, трудолюбивого, честного, доброго ).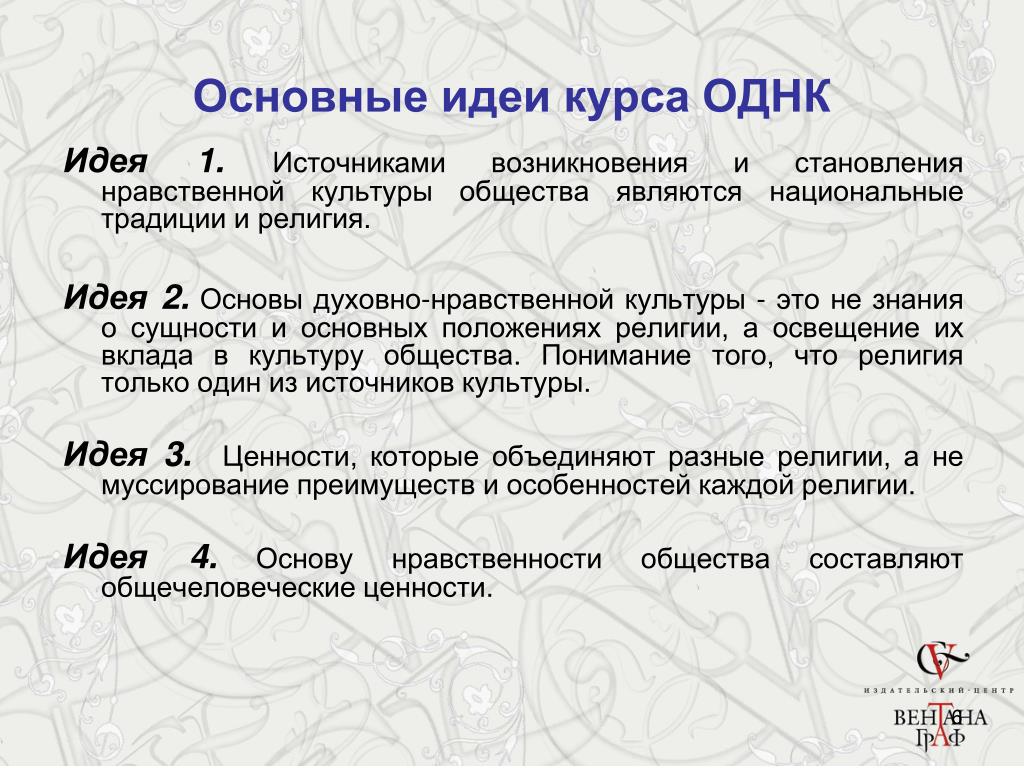 Однако недавние исследования этики добродетели, воспитания характера и политической ориентации в различных культурах и религиозных традициях показали, что это западные моральные ценности, которые необходимо расширять (Miller, 2007). Описание западных моральных ценностей может не дать адекватного обобщения ценностей других незападных культур, потому что западные моральные ценности ограничены западным пониманием морали. Например, лицо — это интересная ценность, которая имеет большое значение во многих восточных обществах, хотя многие жители Запада плохо ее понимают (Ting-Toomey, 1994).В западной терминологии лицо концептуализируется как позиционируемая личность человека (Hwang, 2006). В восточной культуре лицо считается социальной оценкой моральных качеств человека, которая является основой целостности личности (Hwang, 2006). Согласно конфуцианской этике, если кто-то из членов семьи делает что-то аморальное, все члены семьи могут потерять лицо (Hwang, 2006). Кроме того, другие ценности, такие как «культура чести» (Leung and Cohen, 2011) и «сыновняя почтительность» (Hwang, 1999), должны рассматриваться как моральные ценности в незападных культурах.Таким образом, мы предполагаем, что уникальные в культурном отношении моральные ценности необходимо генерировать посредством всестороннего изучения вариативности культурной специфической моральной идентичности в незападных культурах.
Однако недавние исследования этики добродетели, воспитания характера и политической ориентации в различных культурах и религиозных традициях показали, что это западные моральные ценности, которые необходимо расширять (Miller, 2007). Описание западных моральных ценностей может не дать адекватного обобщения ценностей других незападных культур, потому что западные моральные ценности ограничены западным пониманием морали. Например, лицо — это интересная ценность, которая имеет большое значение во многих восточных обществах, хотя многие жители Запада плохо ее понимают (Ting-Toomey, 1994).В западной терминологии лицо концептуализируется как позиционируемая личность человека (Hwang, 2006). В восточной культуре лицо считается социальной оценкой моральных качеств человека, которая является основой целостности личности (Hwang, 2006). Согласно конфуцианской этике, если кто-то из членов семьи делает что-то аморальное, все члены семьи могут потерять лицо (Hwang, 2006). Кроме того, другие ценности, такие как «культура чести» (Leung and Cohen, 2011) и «сыновняя почтительность» (Hwang, 1999), должны рассматриваться как моральные ценности в незападных культурах.Таким образом, мы предполагаем, что уникальные в культурном отношении моральные ценности необходимо генерировать посредством всестороннего изучения вариативности культурной специфической моральной идентичности в незападных культурах.
Один из практических методов, позволяющий приблизиться на один шаг к измерению моральной идентичности, не имеющей предубеждений в культурном отношении, — это составить список культурных ценностей как западной, так и восточной культур. Сначала участников из каждой культуры (как минимум из двух стран) просят описать прототипные концепции высокоморального человека.Например, Уокер и Питтс (1998) попросили 120 взрослых канадцев создать характеристики личности, которые рассматривались как описательные для высокоморального человека, с помощью процедуры бесплатного включения в список. Общее количество атрибутов, предоставленных участниками, составило 1249.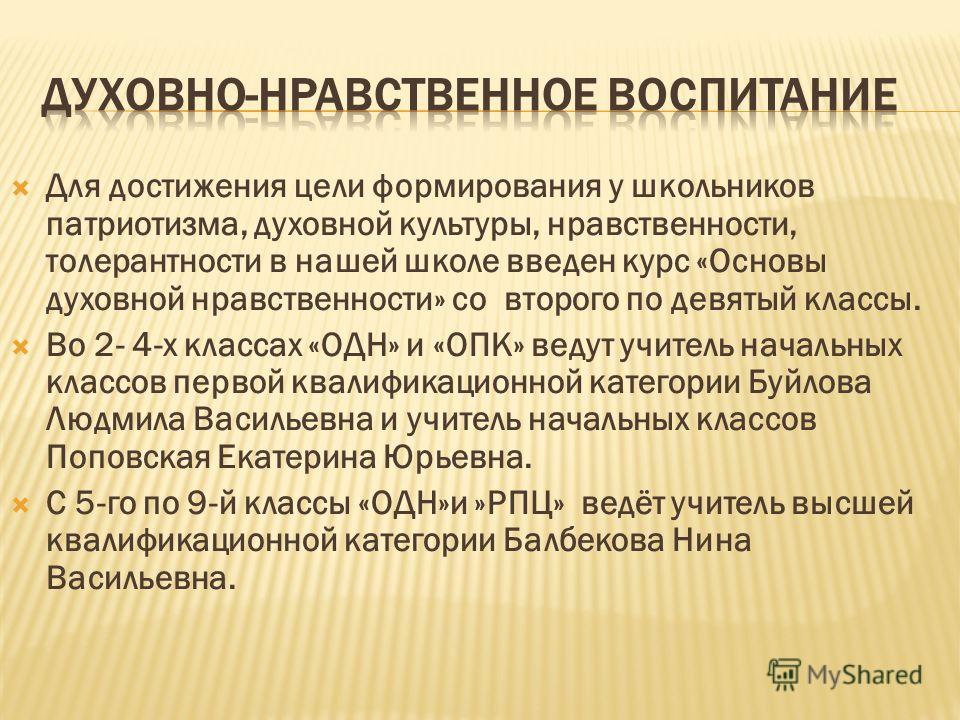 Несколько правил суждения использовались для уменьшения количества описателей, перечисленных участниками: любые фразы и предложения были разделены на отдельные дескрипторы; вместо существительных использовались прилагательные; синонимичные термины были объединены; пары антонимов, которые генерировались реже, удалялись; идиосинкразические реакции были устранены (Walker and Pitts, 1998).Наконец, в исследование были включены 92 атрибута, описывающих высокоморального человека. Аналогичная процедура также использовалась в США (Aquino and Reed, 2002; Hardy et al., 2011).
Несколько правил суждения использовались для уменьшения количества описателей, перечисленных участниками: любые фразы и предложения были разделены на отдельные дескрипторы; вместо существительных использовались прилагательные; синонимичные термины были объединены; пары антонимов, которые генерировались реже, удалялись; идиосинкразические реакции были устранены (Walker and Pitts, 1998).Наконец, в исследование были включены 92 атрибута, описывающих высокоморального человека. Аналогичная процедура также использовалась в США (Aquino and Reed, 2002; Hardy et al., 2011).
Однако прототипные представления о высокоморальном человеке в восточных культурах игнорировались. Мы предлагаем сначала повторить предыдущую процедуру, чтобы попросить участников из восточных стран (например, Китая, Кореи, Индии) бесплатно перечислить моральные ценности, представляющие восточный взгляд на высокоморального человека. Во-вторых, восточные моральные ценности должны быть пересмотрены в соответствии с правилами суждения Уокера и Питтса (1998).В-третьих, исследователи должны сравнить оставшиеся восточные моральные ценности с моральными ценностями, сформированными в западной культуре. Общие дескрипторы между двумя культурными списками должны быть идентифицированы как культурно разделяемые моральные ценности. Уникальные дескрипторы между двумя культурными списками должны рассматриваться как культурно не разделяемые моральные ценности в каждой культуре. Наконец, объединенный список общих и необщих дескрипторов иллюстрирует культурно инклюзивные моральные ценности, которые характеризуют высокоморального человека как в западном, так и в восточном обществах.Мы предлагаем исследователям рассмотреть этот непредвзятый в культурном отношении подход к исследованию моральной идентичности в различных культурах, хотя эта процедура требует времени на использование.
В первом исследовании (Jia, 2016) мы стремились выявить ценностные атрибуты, которые описывают прототипные представления индивидов о «высокоморальном человеке» в китайской культуре.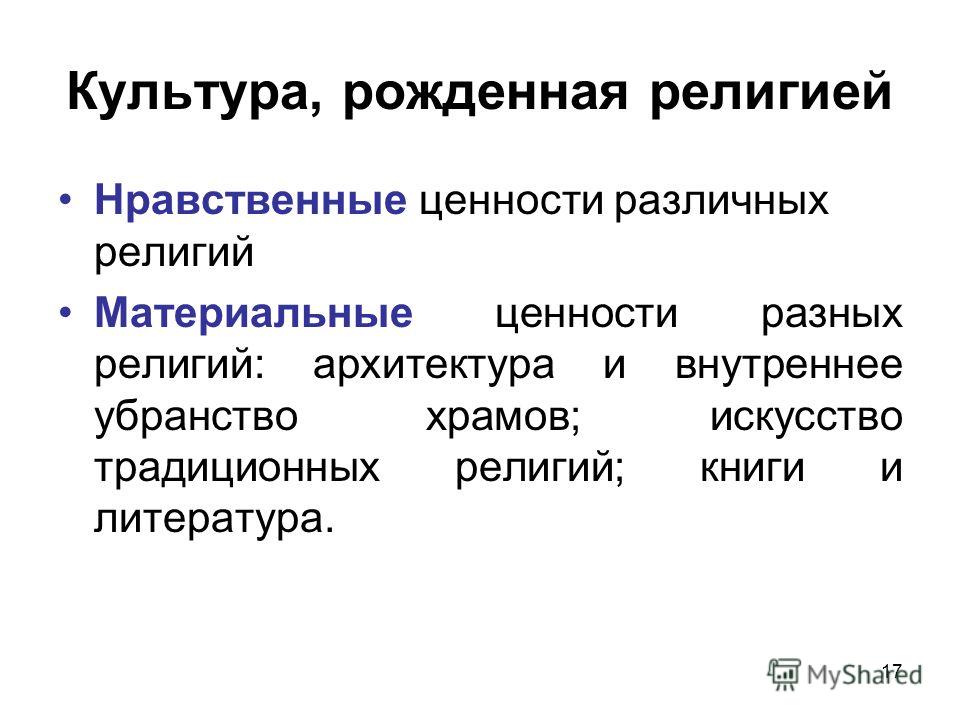 Мы попросили 109 китайских студентов колледжей записать по крайней мере 10 качеств высоконравственного человека в своей точке зрения.Всего было создано 1924 атрибута. На втором этапе мы применили процедуру Уокера и Питтса (1998), чтобы уменьшить количество атрибутов. На третьем этапе мы сравнили оставшиеся атрибуты со списком моральных ценностей, часто используемых в преимущественно западных культурах (Krettenauer et al., 2016). Мы обнаружили 17 культурных особенностей из китайской выборки: « мирных, заслуживающих доверия, неподкупных, сердечных, мотивированных, амбициозных, прилежных, цивилизованных, патриотичных, солидарных, осторожных, благоразумных, сыновней почтительности, преданных, принципиальных, активных и общительных. . Кроме того, мы обнаружили 17 уникальных западных атрибутов, которые китайские участники не упоминали в своих описаниях высоконравственного человека. Эти качества были следующими: « принимает, уверенный, последовательный, образованный, следует правилам, веселый, хороший, счастливый, имеет высокие стандарты, здоровый, скромный, делает правильный выбор, не осуждает, послушен, порядочен, горд, религиозен». »Китайский список, используемый для определения нравственного человека, был проиллюстрирован конкретными ценностями, которые не только отражают индивидуально ориентированную мораль, например« заслуживающий доверия и сердечный », но также подразумевают социально ориентированную мораль (например,г., патриотичный и расчетливый ). Существуют определенные концепции, такие как сыновняя почтительность и солидарность , которые долгое время упоминались в литературе как специфические восточные ценности (Hwang, 1999). Другие атрибуты, такие как миролюбивый, принципиальный, заслуживающий доверия и неподкупный , которые соответствуют конфуцианским ценностям жизни в гармонии с другими людьми и обществами.
Мы попросили 109 китайских студентов колледжей записать по крайней мере 10 качеств высоконравственного человека в своей точке зрения.Всего было создано 1924 атрибута. На втором этапе мы применили процедуру Уокера и Питтса (1998), чтобы уменьшить количество атрибутов. На третьем этапе мы сравнили оставшиеся атрибуты со списком моральных ценностей, часто используемых в преимущественно западных культурах (Krettenauer et al., 2016). Мы обнаружили 17 культурных особенностей из китайской выборки: « мирных, заслуживающих доверия, неподкупных, сердечных, мотивированных, амбициозных, прилежных, цивилизованных, патриотичных, солидарных, осторожных, благоразумных, сыновней почтительности, преданных, принципиальных, активных и общительных. . Кроме того, мы обнаружили 17 уникальных западных атрибутов, которые китайские участники не упоминали в своих описаниях высоконравственного человека. Эти качества были следующими: « принимает, уверенный, последовательный, образованный, следует правилам, веселый, хороший, счастливый, имеет высокие стандарты, здоровый, скромный, делает правильный выбор, не осуждает, послушен, порядочен, горд, религиозен». »Китайский список, используемый для определения нравственного человека, был проиллюстрирован конкретными ценностями, которые не только отражают индивидуально ориентированную мораль, например« заслуживающий доверия и сердечный », но также подразумевают социально ориентированную мораль (например,г., патриотичный и расчетливый ). Существуют определенные концепции, такие как сыновняя почтительность и солидарность , которые долгое время упоминались в литературе как специфические восточные ценности (Hwang, 1999). Другие атрибуты, такие как миролюбивый, принципиальный, заслуживающий доверия и неподкупный , которые соответствуют конфуцианским ценностям жизни в гармонии с другими людьми и обществами.
Заключение
Хотя мы, конечно, не первые, кто беспокоится об обобщениях преобладающих западных теорий и методологий моральной психологии, наши усилия по обобщению теоретических и эмпирических случаев выявили тревожную ситуацию в исследованиях, касающихся моральной идентичности. Предыдущие результаты могут быть воспроизведены на множестве выборок в западных обществах с использованием различных методов, таких как самоотчет и интервью, и эти методы могут быть применимы к незападному обществу; однако исследователи также должны исследовать уровни и степени, в которых концепция моральной идентичности может быть доступна в разных культурах (Henrich et al., 2010). Таким образом, мы делаем вывод: (1) концептуально моральная идентичность состоит как из индивидуальных, так и из социальных ориентаций; (2) Эмпирически исследование моральной идентичности требует методологического инструмента без предвзятости в культурном отношении.
Предыдущие результаты могут быть воспроизведены на множестве выборок в западных обществах с использованием различных методов, таких как самоотчет и интервью, и эти методы могут быть применимы к незападному обществу; однако исследователи также должны исследовать уровни и степени, в которых концепция моральной идентичности может быть доступна в разных культурах (Henrich et al., 2010). Таким образом, мы делаем вывод: (1) концептуально моральная идентичность состоит как из индивидуальных, так и из социальных ориентаций; (2) Эмпирически исследование моральной идентичности требует методологического инструмента без предвзятости в культурном отношении.
Авторские взносы
FJ концептуализировал точку зрения и написал полный черновик. Т.К. руководила доктором философии FJ. диссертацию и предоставил критическую обратную связь в этом исследовании.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Список литературы
Блази, А. (1983). Моральное познание и моральное действие: теоретическая перспектива. Dev. Ред. 3, 178–210. DOI: 10.1016 / 0273-2297 (83)
-1CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дьен, Д. С. Ф. (1982). Китайский взгляд на теорию нравственного развития Кольберга. Dev. Ред. 2, 331–341. DOI: 10.1016 / 0273-2297 (82)
-XCrossRef Полный текст | Google Scholar
Эриксон, Э. Х. (1980). Идентичность и жизненный цикл: переиздание. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Нортон.
Google Scholar
Гиббс, Дж.К., Бейсингер, К. С., Грайм, Р. Л., и Снарей, Дж. Р. (2007). Развитие моральных суждений в разных культурах: пересмотр утверждений Кольберга об универсальности. Dev. Ред. 27, 443–500. DOI: 10.1016 / j.dr.2007.04.001
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Харди, С. А., и Карло, Г. (2005). Идентичность как источник моральной мотивации. Гум. Dev. 48, 232–256. DOI: 10.1159 / 000086859
А., и Карло, Г. (2005). Идентичность как источник моральной мотивации. Гум. Dev. 48, 232–256. DOI: 10.1159 / 000086859
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Харди, С.А., Уокер, Л.Дж., Олсен, Дж. А., Скальски, Дж. Э. и Бейсингер, Дж. К. (2011). Подростковые натуралистические представления о нравственной зрелости. Soc. Dev. 20, 562–586. DOI: 10.1111 / j.1467-9507.2010.00590.x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Герц, С. Г., Креттенауэр, Т. (2016). Эффективно ли моральная идентичность предсказывает моральное поведение ?: метаанализ. Rev. Gen. Psychol. 20, 129–140. DOI: 10.1037 / gpr0000062
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хван, К.(1999). Сыновнее благочестие и верность: два типа социальной идентификации в конфуцианстве. Asian J. Soc. Psychol. 2, 163–183. DOI: 10.1111 / 1467-839X.00031
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хван, К. К. (2006). Моральное и социальное лицо: условная самооценка в конфуцианском обществе. Внутр. J. Psychol. 41, 276–281. DOI: 10.1080 / 002075000040
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Цзя, Ф. (2016). Моральная идентичность в кросс- и бикультурной перспективе (неопубликованная докторская диссертация).Университет Уилфрида Лорье, Ватерлоо, ОН.
Google Scholar
Кольберг, Л. (1969). Этап и последовательность: когнитивно-развивающий подход к социализации. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Рэнд МакНалли.
Google Scholar
Креттенауэр, Т., и Цзя, Ф. (2013). Исследование влияния актера на ожидания моральных эмоций в разных культурах: сравнение китайских и канадских подростков. руб. J. Dev. Psychol. 31, 249–362. DOI: 10.1111 / bjdp.12012
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Леунг, А. К. Ю., Коэн, Д. (2011). Вариации внутри и между культурами: индивидуальные различия и культурная логика культур чести, лица и достоинства. J. Pers. Soc. Psychol. 100, 507–526. DOI: 10.1037 / a0022151
J. Pers. Soc. Psychol. 100, 507–526. DOI: 10.1037 / a0022151
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Маркус, Х. Р. и Китайма, С. (1991). Культура и личность: значение для познания, эмоций и мотивации. Psychol. Ред. 98, 224–253. DOI: 10.1037 / 0033-295X.98.2.224
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Миллер, Дж. Г. (2007). «Культурная психология нравственного развития», в Handbook of Cultural Psychology , ред. С. Китайма и Д. Коэн (Нью-Йорк, Нью-Йорк: Guilford Press), 477–499.
Google Scholar
Шварц, С. Дж. (2001). Эволюция эриксоновской и неоэриксонской теории идентичности и исследований: обзор и интеграция. Идентификационный номер 1, 7–58.DOI: 10.1207 / S1532706XSCHWARTZ
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шведер Р., Муч Н., Махапатра М. и Парк Л. (1997). «Большая тройка» морали (автономия, общность, божественность) и «большая тройка» объяснений страдания », в Мораль и здоровье , ред. А. Брандт и П. Розин (Нью-Йорк, Нью-Йорк: Рутледж) .
Google Scholar
Тинг-Туми, С. (1994). Проблема облицовки: межкультурные и межличностные проблемы. Олбани, Нью-Йорк: SUNY Press.
Google Scholar
Воклер, К. М., и Фишер, Р. (2011). Предсказывают ли культурные ценности моральные установки людей? Межкультурный многоуровневый подход. Eur. J. Soc. Psychol. 41, 645–657. DOI: 10.1002 / ejsp.794
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Нравственность из культуры | Деловая этика
Первый кандидат в источник нравственности — культура. Люди очень часто считают, что социальные условности создают мораль и что их культура определяет, что допустимо, а что недопустимо, посредством своего рода негласного консенсуса.Люди, придерживающиеся этой точки зрения, думают, что все, что большинство людей в их обществе считает допустимым, — по этой самой причине — допустимо, и точно так же все, что большинство людей в этой культуре считает недопустимым, недопустимо.
Эта точка зрения называется культурным релятивизмом, позиция, согласно которой мораль соотносится с культурой человека. Культурный релятивизм — это моральная теория. Это теория, в научном смысле, это система для объяснения того, как работает мораль, точно так же, как квантовая теория является системой для объяснения поведения квантовых (субатомных) частиц.Хотя тот, кто придерживается точки зрения, что культура является источником морали, определенно был бы культурным релятивистом, дело обстоит не так, чтобы каждый источник морали имел соответствующую моральную теорию. Некоторые источники морали могут привести к нескольким моральным теориям, а некоторые моральные теории можно проследить до более чем одного источника морали. Не волнуйтесь, мы будем идти по одному, чтобы не усложнять задачу.
Итак, признание: есть причина, по которой мы сначала обсуждаем культурный релятивизм.Причина в том, что культурный релятивизм — ерунда, и хотя это может быть наиболее распространенная точка зрения людей, никогда не изучавших этику, это наименее правдоподобное объяснение того, как работает мораль, и, возможно, вовсе не настоящая моральная теория. Сначала мы обсуждаем это, чтобы устранить и перейти к более разумным теориям.
«Но подождите! — воскликнете вы, — культурный релятивизм кажется вполне разумным взглядом, и если так много людей верят в него, они не могут все ошибаться!» Я понимаю ваше беспокойство.Вы выросли в обществе, которое защищает разнообразие и уважает культурные различия людей. Всем известно, что мы должны уважать разные культуры и их моральные убеждения. Вы можете подумать: «Если они считают, что что-то дозволено, тогда кто мы такие, чтобы говорить им, что они неправы?»
Во-первых, да, все они могут ошибаться (вспомните Коперника), а во-вторых, поскольку многие люди — возможно, целая культура людей — все могут ошибаться, нам не нужно уважать каждые культурных различий.Фактически, причина, по которой большинство людей считают себя культурными релятивистами, на самом деле является точной причиной того, почему они таковыми не являются. Большинство релятивистов думают, что им следует уважать другие культуры, а не судить людей других культур по стандартам своей собственной. Но это показывает, что есть одна вещь, которую релятивисты не считают относительной: уважение к другим культурам. Если всегда морально обязательно уважать другие культуры, то идея уважения других культур не должна исходить из культуры.Он должен исходить из одного из других источников морали.
Большинство релятивистов думают, что им следует уважать другие культуры, а не судить людей других культур по стандартам своей собственной. Но это показывает, что есть одна вещь, которую релятивисты не считают относительной: уважение к другим культурам. Если всегда морально обязательно уважать другие культуры, то идея уважения других культур не должна исходить из культуры.Он должен исходить из одного из других источников морали.
Так почему же умные, благонамеренные люди защищают культурный релятивизм? Часто люди, считающие себя культурными релятивистами, являются антропологами или социологами, людьми, изучающими поведение культур и людей в них. Это умные люди, которые просто сделали одну ключевую ошибку. Они предполагают, что то, что люди на самом деле делают , совпадает с тем, что они должны делать . Но если подумать, это предположение не имеет никакого смысла.Люди делают то, что им не следует делать все время. Абсурдно думать, что люди должны делать то, что они на самом деле делают , и, кроме того, что люди должны делать что-то , потому что они на самом деле это делают в любом случае (утверждение культурного релятивизма). Другой способ, которым кто-то может попытаться защитить релятивизм, — это сказать, что это не то, что люди в культуре на самом деле делают , а то, во что они верят. Но, конечно, вера в то, что что-то истинно, не делает это правдой, а вера в то, что что-то морально дозволено, не делает это дозволенным.Так что эта защита релятивизма так же неудачна, как и первая.
Давайте возьмем пример из реальной жизни, который фокусируется на другом аспекте культурного релятивизма. Если культуры морально оправданы в том, что они делают, потому что они верят, что это правильно, то мы должны согласиться с тем, что это верно всегда. То есть, что бы ни считала культура правильным в какой-то момент в прошлом, культурный релятивист должен был бы признать, что это было морально допустимым в то время.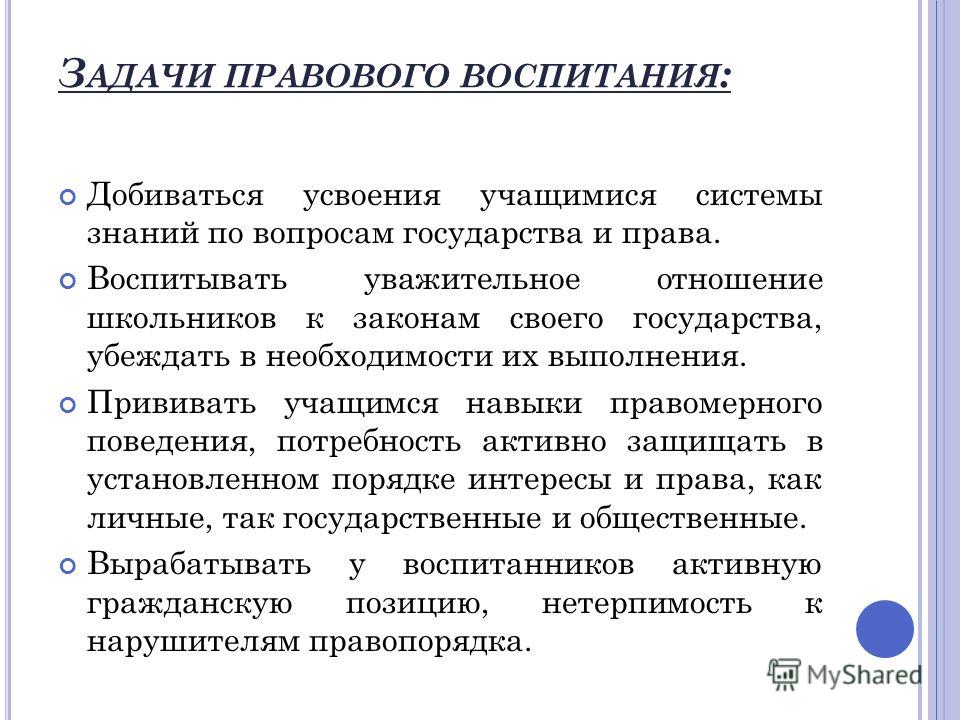 Даже если с тех пор та же культура изменила свои взгляды.Конкретный пример этого, который я представляю, — это история рабства в Америке. Когда-то в американской истории большинство людей в этой культуре считали морально допустимым владение другими людьми как собственностью, и это утверждение мы находим сейчас морально отталкивающим. Культурный релятивист должен был бы признать, что, поскольку американцы в то время считали рабство морально допустимым, было . Для релятивиста дело не в том, что рабство всегда было неправильным, и людям просто нужно время, чтобы это понять.Культурные релятивисты должны признать, что рабство было на самом деле морально правильным в Америке середины девятнадцатого века, потому что оно было общепринятым.
Даже если с тех пор та же культура изменила свои взгляды.Конкретный пример этого, который я представляю, — это история рабства в Америке. Когда-то в американской истории большинство людей в этой культуре считали морально допустимым владение другими людьми как собственностью, и это утверждение мы находим сейчас морально отталкивающим. Культурный релятивист должен был бы признать, что, поскольку американцы в то время считали рабство морально допустимым, было . Для релятивиста дело не в том, что рабство всегда было неправильным, и людям просто нужно время, чтобы это понять.Культурные релятивисты должны признать, что рабство было на самом деле морально правильным в Америке середины девятнадцатого века, потому что оно было общепринятым.
Может ли утверждение типа «рабство недопустимо с моральной точки зрения» быть ложным в одно время и истинным в другое время? Может ли утверждение типа «к женщинам следует относиться наравне с мужчинами» может быть истинным в Америке и ложным в Саудовской Аравии? Может ли что-нибудь быть одновременно истинным и ложным? Если бы это было так, это было бы чепухой в буквальном смысле слова. Мы не могли понять этого.
Прежде чем мы продолжим, необходимо сделать еще одно замечание по поводу культурного релятивизма. Это характерно не для всех. Если мораль проистекает из общего для всех людей, культура на самом деле не работает. Очевидно, что не у всех есть общая культура. Есть много культур, которые радикально отличаются друг от друга. Таким образом, культурный релятивизм как система принятия решений о том, что правильно и неправильно с моральной точки зрения, не только ненадежен, но и противоречив и в конечном итоге бессмыслен.
Этика, обзор | Безграничное управление
Определение этики
Этика — это набор моральных принципов, которыми руководствуется человек.
Цели обучения
Дайте определение этике и ее применению к организациям
Основные выводы
Ключевые моменты
- Этическое поведение основывается на письменных и неписаных кодексах принципов и ценностей, которых придерживается общество.

- Этика отражает представления о том, что правильно, что неправильно, что справедливо, что несправедливо, что хорошо и что плохо с точки зрения человеческого поведения.
- Этические принципы и ценности служат руководством к поведению на личном уровне, внутри профессии и на уровне организации.
Ключевые термины
- поведение : поведение живого существа.
- этика : Изучение принципов, касающихся правильного и неправильного поведения.
- ценности : Собрание руководящих принципов; то, что каждый считает правильным, важным и желательным в жизни, особенно в отношении личного поведения.
Этика — это набор моральных принципов, которыми руководствуется человек. Эти нравы формируются социальными нормами, культурными обычаями и религиозными влияниями.Этика отражает представления о том, что правильно, что неправильно, что справедливо, что несправедливо, что хорошо и что плохо с точки зрения человеческого поведения. Они служат компасом, определяющим, как люди должны вести себя по отношению друг к другу, понимать и выполнять свои обязательства перед обществом и жить своей жизнью.
Хотя этические убеждения разделяются отдельными людьми, они также могут быть отражены в ценностях, практике и политике, которые определяют выбор, сделанный лицами, принимающими решения, от имени их организаций.Фразы деловой этики и корпоративная этика часто используются для описания применения этических ценностей в деловой деятельности. Этика применяется ко всем аспектам поведения и имеет отношение к действиям отдельных лиц, групп и организаций.
Помимо индивидуальной этики и корпоративной этики существует профессиональная этика. Такие профессионалы, как менеджеры, юристы и бухгалтеры, — это люди, которые обладают специальными знаниями и навыками при предоставлении услуг клиентам или населению.В силу своей профессии у них есть обязательства перед теми, кому они служат. Например, юристы должны сохранять конфиденциальность разговоров с клиентами, а бухгалтеры должны демонстрировать высочайший уровень честности и порядочности при ведении документации и финансовом анализе. Профессиональные организации, такие как Американская медицинская ассоциация, и лицензирующие органы, такие как правительства штатов, устанавливают и обеспечивают соблюдение этических стандартов.
Например, юристы должны сохранять конфиденциальность разговоров с клиентами, а бухгалтеры должны демонстрировать высочайший уровень честности и порядочности при ведении документации и финансовом анализе. Профессиональные организации, такие как Американская медицинская ассоциация, и лицензирующие органы, такие как правительства штатов, устанавливают и обеспечивают соблюдение этических стандартов.
Пример
Концепция корпоративной социальной ответственности подчеркивает этическое поведение, поскольку требует от организаций понимания, выявления и устранения неэтичного экономического, экологического и социального поведения.
Обучение этике
Моральное мышление — это процесс, в котором человек пытается определить, что правильно, а что нет.
Цели обучения
Объясните роль этического и морального обоснования в деловой среде
Основные выводы
Ключевые моменты
- Есть четыре компонента морального поведения: моральная чувствительность, моральное суждение, моральная мотивация и моральный облик.
- Чтобы дать моральную оценку, нужно сначала знать, для чего предназначено действие и каковы его возможные последствия для других.
- Исследования выявили четыре набора навыков, которые играют решающую роль в применении морального опыта: моральное воображение, моральное творчество, разумность и настойчивость.
Ключевые термины
- гудвилл : способность физического лица или бизнеса оказывать влияние в сообществе, клубе, рынке или другом типе группы без необходимости прибегать к использованию актива (например, денег или собственности).
- этика : Изучение принципов, касающихся правильного и неправильного поведения.
Моральное мышление — это процесс, в котором человек пытается определить разницу между тем, что правильно и что неправильно в личной ситуации, с помощью логики. Чтобы сделать такую оценку, нужно сначала знать, для чего предназначено действие и каковы его возможные последствия для других. Люди используют моральное рассуждение в попытке поступить правильно. Люди часто сталкиваются с моральным выбором, например, солгать, чтобы не задеть чьи-то чувства, или предпринять действия, которые принесут пользу одним, а другим причинят вред.Такие суждения принимаются с учетом цели и вероятных последствий действия. Моральное обоснование — это рассмотрение факторов, имеющих отношение к таким оценкам.
Люди используют моральное рассуждение в попытке поступить правильно. Люди часто сталкиваются с моральным выбором, например, солгать, чтобы не задеть чьи-то чувства, или предпринять действия, которые принесут пользу одним, а другим причинят вред.Такие суждения принимаются с учетом цели и вероятных последствий действия. Моральное обоснование — это рассмотрение факторов, имеющих отношение к таким оценкам.
По мнению консультанта Линн В. Свонер, моральное поведение состоит из четырех компонентов:
- Моральная чувствительность , то есть «способность видеть этическую дилемму, включая то, как наши действия повлияют на других».
- Моральное суждение , то есть «способность правильно рассуждать о том, что« следует »делать в конкретной ситуации.”
- Моральная мотивация , которая представляет собой «личную приверженность моральному действию, принятие ответственности за результат».
- Моральный характер , который представляет собой «мужественную стойкость, несмотря на усталость или искушение выбрать легкий путь».
Таким образом, способность обдумывать моральные проблемы и дилеммы требует знания набора моральных и этических ценностей; способность объективно и рационально думать о том, что может быть эмоциональной проблемой; готовность отстаивать то, что правильно, даже перед лицом оппозиции; а также стойкость и стойкость для поддержания своих этических и моральных стандартов.
Осознание хорошего поведения, умение быть эффективным моральным деятелем и привнесение ценностей в свою работу — все это требует навыков в дополнение к моральным наклонностям. Исследования выявили четыре набора навыков, которые играют решающую роль в применении морального опыта.
- Моральное воображение : Способность видеть ситуацию глазами других. Моральное воображение достигает баланса между потерей взглядов других и неспособностью оставить свою собственную точку зрения.Адам Смит называет этот баланс «пропорциональностью», которого мы можем достичь, сопереживая.

- Моральное творчество : Моральное творчество тесно связано с моральным воображением, но в основе его лежит способность по-разному формировать ситуацию.
- Разумность : Разумность уравновешивает открытость взглядам других с приверженностью моральным ценностям и другим важным целям. То есть разумный человек открыт, но не до такой степени, когда он готов верить чему угодно и / или не выполняет основополагающие обязательства.
- Настойчивость : Настойчивость — это способность принять решение о моральном плане действий, а затем адаптироваться к любым препятствиям, которые возникают, чтобы продолжать работать над достижением этой цели.
Пример
Уильям Лемессер спроектировал здание Citicorp Building в Нью-Йорке. Когда студент обнаружил критический недостаток конструкции в здании во время обычного упражнения в классе, LeMesseur отреагировал не выстрелом в мессенджер, а разработал замысловатый и эффективный план исправления проблемы до того, как она приведет к серьезным последствиям в реальном мире.
Культура и этика
Культура отражает моральные ценности и этические нормы, определяющие, как люди должны вести себя и взаимодействовать с другими.
Цели обучения
Объяснять роль культуры в формировании морального и этического поведения
Основные выводы
Ключевые моменты
- Культура относится к мировоззрению, отношениям, ценностям, целям и практике, разделяемым группой, организацией или обществом.
- На толкование того, что является моральным, влияют культурные нормы, и в разных культурах могут быть разные представления о том, что правильно, а что неправильно.
- Согласно теории культурного релятивизма, не существует единственной истины, на которой можно было бы основывать этическое или моральное поведение, поскольку наши интерпретации истин находятся под влиянием нашей собственной культуры.

Ключевые термины
- этноцентрический : Из идеи или веры в то, что собственная культура важнее других культур или превосходит их.
- моральный релятивизм : Относится к любой из нескольких философских позиций, связанных с различиями в моральных суждениях между разными людьми и представителями разных культур.
- нормы : Правила или законы, регулирующие поведение группы или общества.
Культура описывает коллективный образ жизни или способ ведения дел. Это сумма взглядов, ценностей, целей и практик, разделяемых отдельными людьми в группе, организации или обществе. Культуры меняются в разные периоды времени, между странами и географическими регионами, а также между группами и организациями. Культура отражает моральные и этические убеждения и стандарты, которые говорят о том, как люди должны вести себя и взаимодействовать с другими.
Культурная карта мира : На этой диаграмме предпринята попытка отобразить разные страны по важности различных типов ценностей. Одна ось представляет традиционные ценности для секулярно-рациональных ценностей, а другая ось учитывает ценности выживания и ценности самовыражения. Различные группы стран могут быть сгруппированы в определенные категории, например, католическая Европа, англоговорящие страны и бывшие коммунисты.
Культурные нормы — это общие, санкционированные и интегрированные системы убеждений и практик, которые передаются из поколения в поколение и характеризуют культурную группу.Нормы создают надежные руководящие принципы повседневной жизни и способствуют здоровью и благополучию культуры. Они действуют как рецепты правильного и нравственного поведения, придают жизни смысл и последовательность и обеспечивают средство достижения чувства целостности, безопасности и принадлежности. Эти нормативные убеждения вместе с соответствующими культурными ценностями и ритуалами навязывают чувство порядка и контроля аспектам жизни, которые в противном случае могли бы казаться хаотичными или непредсказуемыми.
Здесь культура пересекается с этикой.Поскольку на интерпретацию того, что является моральным, влияют культурные нормы, существует вероятность того, что то, что этично для одной группы, не будет считаться таковым кем-то, живущим в другой культуре. Согласно культурным релятивистам, это означает, что не существует единственной истины, на которой можно было бы основывать этическое или моральное поведение для любого времени и географического пространства, поскольку наши интерпретации истин находятся под влиянием нашей собственной культуры. Такой подход контрастирует с универсализмом, который придерживается позиции, согласно которой моральные ценности одинаковы для всех.Культурные релятивисты считают это этноцентрическим взглядом, поскольку универсальный набор ценностей, предлагаемый универсалистами, основан на их наборе ценностей. Культурный релятивизм также считается более терпимым, чем универсализм, потому что, если нет оснований для моральных суждений между культурами, тогда культуры должны быть терпимыми друг к другу.
Пример
Французы и американцы по-разному относятся к изобличению. По сравнению с французскими, американские компании считают это естественной частью бизнеса.Настолько естественно, что они открыли анонимные горячие линии. С другой стороны, французы склонны рассматривать разоблачения как подрыв солидарности между коллегами.
Роль менеджера в этическом поведении
Сотрудникам легче принимать этические решения, продвигающие ценности компании, если их личные ценности соответствуют нормам компании.
Цели обучения
Объяснять роль личных ценностей в влиянии на поведение в организациях
Основные выводы
Ключевые моменты
- Личные ценности служат внутренним ориентиром для того, что хорошо, полезно, важно, полезно, красиво, желательно и конструктивно.
- Личные ценности приобретают большее значение в зрелом возрасте, поскольку они призваны влиять на то, как мы выполняем наши обязанности перед другими.

- Чтобы сделать этический и моральный выбор, нужно четко понимать свои личные ценности.
Ключевые термины
- значение : Стандарт, по которому человек определяет, что хорошо или желательно; мера относительной ценности или важности.
- нормы : Согласно социологам, социальные нормы — это законы, регулирующие поведение общества.
Личные ценности служат внутренним ориентиром для того, что хорошо, полезно, важно, полезно, красиво, желательно и конструктивно. Со временем публичное выражение личных ценностей заложило основы закона, обычаев и традиций. Таким образом, личные ценности существуют по отношению к культурным ценностям, либо согласующиеся с преобладающими нормами, либо расходясь с ними.
Личные ценности развиваются по-разному:
- Самое важное влияние на наши ценности оказывают семьи, в которых мы растем.Семья несет ответственность за то, чтобы учить детей тому, что правильно и что неправильно, задолго до того, как появятся другие влияния. Таким образом, говорится, что ребенок является отражением своих родителей.
- Учителя и одноклассники помогают формировать ценности детей в школьные годы.
- Религия (или ее отсутствие) также играет роль в обучении детей ценностям.
Личные ценности приобретают большее значение в зрелом возрасте, поскольку они призваны влиять на то, как мы выполняем наши обязанности перед другими.Это верно на рабочем месте, особенно для менеджеров и лидеров, которым поручено контролировать ресурсы на благо других. Благодаря своей структуре власти, социальным нормам и культуре организации могут оказывать сильное влияние на своих сотрудников. Работодатели делают все возможное, чтобы нанять людей, которые соответствуют нормам и ценностям организации. Таким образом они стремятся продвигать свои стандарты этичного поведения.
И наоборот, могут возникать конфликты между моральными ценностями человека и тем, что он воспринимает как ценности других в своей организации. Поскольку моральные суждения основаны на анализе последствий поведения, они включают интерпретации и оценки. Кого-то могут попросить сделать что-то, что нарушает личные убеждения, но другие сочтут уместным. Чтобы сделать этический и моральный выбор, нужно четко понимать свои личные ценности. Без этого осознания может быть трудно оправдать решение этическими или моральными соображениями так, чтобы другие сочли его убедительным.
Поскольку моральные суждения основаны на анализе последствий поведения, они включают интерпретации и оценки. Кого-то могут попросить сделать что-то, что нарушает личные убеждения, но другие сочтут уместным. Чтобы сделать этический и моральный выбор, нужно четко понимать свои личные ценности. Без этого осознания может быть трудно оправдать решение этическими или моральными соображениями так, чтобы другие сочли его убедительным.
Пример
Если вы цените равные права для всех и идете работать в организацию, которая гораздо лучше относится к своим менеджерам, чем к своим работникам, у вас может сложиться мнение, что компания — это несправедливое место для работы; следовательно, вы можете не работать хорошо или даже уйти из компании.Вполне вероятно, что если бы у компании была более эгалитарная политика, ваше отношение и поведение были бы более позитивными.
Размытые этические линии
Этические решения включают суждения о фактах и ситуациях, которые подлежат интерпретации и другим влияниям.
Цели обучения
Анализируйте серые зоны этических ожиданий в контексте принятия корпоративных решений и этической деловой практики
Основные выводы
Ключевые моменты
- Идентификация этического выбора может быть трудной, поскольку многие ситуации неоднозначны, а факты подлежат интерпретации.
- В организациях сотрудники могут обратиться к этическому кодексу или заявлению о ценностях, чтобы узнать, как работать с этическими серыми зонами.
- Индивидуальные этические суждения могут быть омрачены рационализациями, оправдывающими свои действия.
Ключевые термины
- деловая этика : Раздел этики, изучающий вопросы морального права и зла, возникающие в контексте деловой практики или теории.
- нормы : Согласно социологам, социальные нормы — это законы, регулирующие поведение общества.
Закон и этика — это не одно и то же.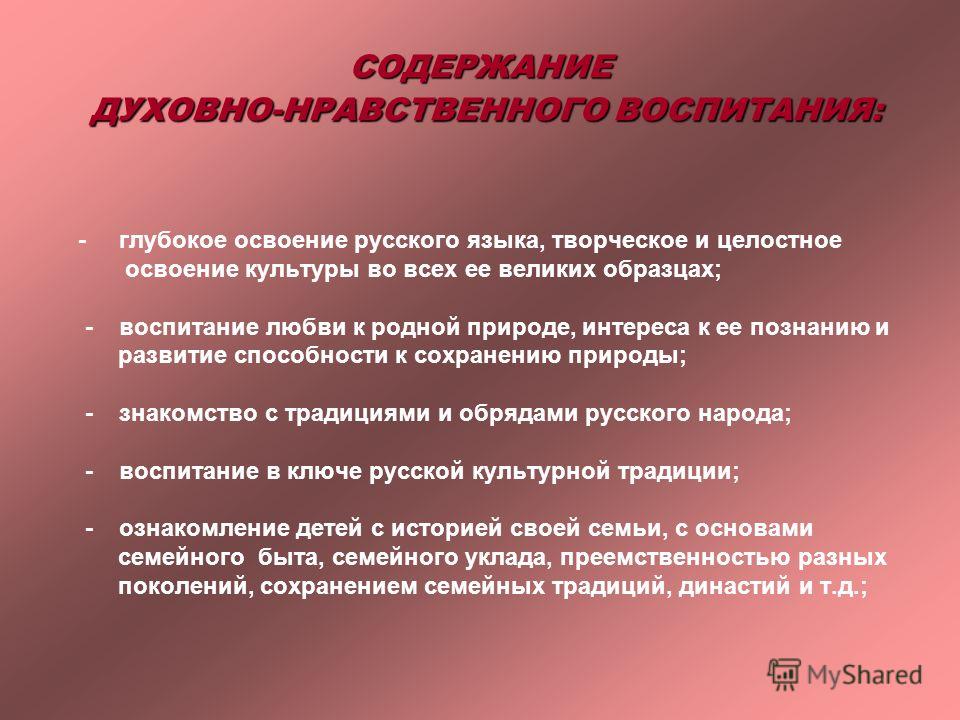 Оба существуют, чтобы влиять на поведение, но соблюдение закона является обязательным, а соблюдение этического кодекса является добровольным. Законы определяют, что допустимо, а этика говорит о том, что правильно, хорошо и справедливо. Юристы и судьи несут ответственность за разъяснение значения закона, когда есть двусмысленность или когда вопрос подлежит толкованию. Что касается этики, ответственность лежит на каждом человеке. В организациях сотрудники могут обратиться к этическому кодексу или заявлению о ценностях, чтобы узнать, как справляться с этическими серыми зонами.
Оба существуют, чтобы влиять на поведение, но соблюдение закона является обязательным, а соблюдение этического кодекса является добровольным. Законы определяют, что допустимо, а этика говорит о том, что правильно, хорошо и справедливо. Юристы и судьи несут ответственность за разъяснение значения закона, когда есть двусмысленность или когда вопрос подлежит толкованию. Что касается этики, ответственность лежит на каждом человеке. В организациях сотрудники могут обратиться к этическому кодексу или заявлению о ценностях, чтобы узнать, как справляться с этическими серыми зонами.
Даже если у человека есть четкое представление о том, что правильно и неправильно, или хорошо и плохо, может быть трудно понять, что этично в данной ситуации. Этический выбор предполагает осуждение, потому что он предполагает взвешивание потенциальных последствий своих действий для других людей. Один анализирует этические проблемы, задавая такие вопросы, как: Что могло бы случиться? Насколько это вероятно? В чем может быть вред? Кто может пострадать? Ответы не всегда однозначны.
На индивидуальные суждения может повлиять или даже неясно ряд факторов.Исследование профессора Роберта Прентиса предполагает, что самооценка может влиять на процесс принятия решений человеком, заставляя его или ее чувствовать себя оправданным в выборе кратчайших путей или в действиях, которые могут рассматриваться как этически сомнительные. Кроме того, бывают случаи, когда люди считают, что цель оправдывает средства. Другими словами, если результат действия хороший, то это нормально, если само действие неэтично.
Есть поговорка, что хороший человек — это тот, кто делает добрые дела, когда никто не смотрит.То же самое и с этическими решениями. Этичные люди следуют своим убеждениям, даже если они верят, что никто не узнает о том, что они сделали. Во многих случаях этических нарушений в организациях те, кто действовал неэтично, полагали, что их не обнаружат. Другие могли подумать, что, если проблемы будут обнаружены, их действия не будут прослежены до них.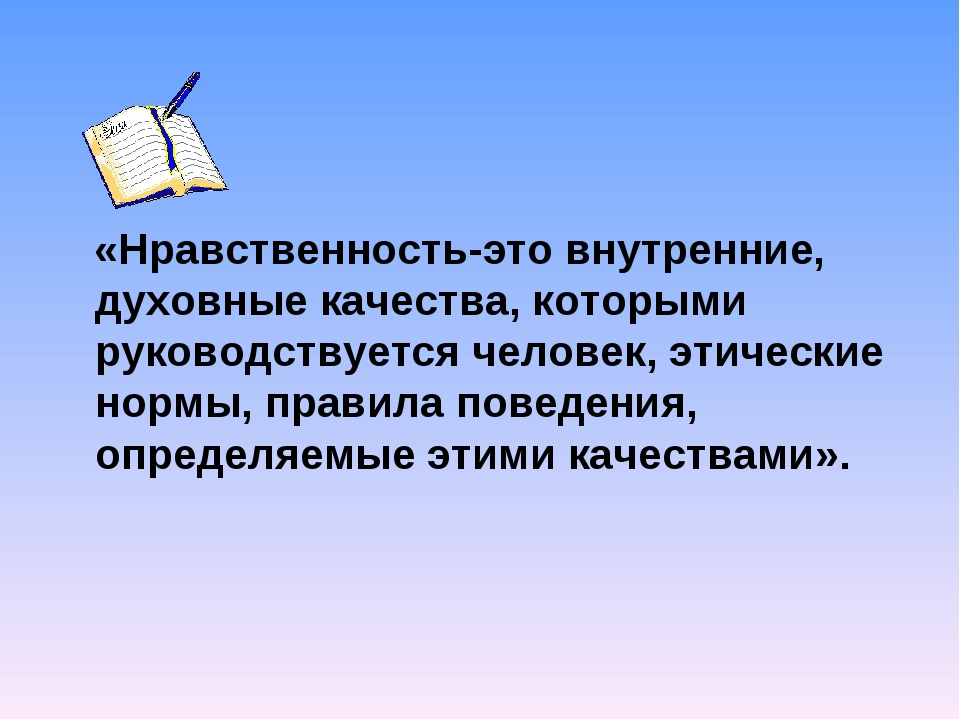 У них была возможность быть этичными, но они предпочли этого не делать.
У них была возможность быть этичными, но они предпочли этого не делать.
Деловая этика во всем мире
Социальные нормы не идентичны в разных странах, и этические стандарты также могут отличаться.Компания может вести деятельность в стране, в которой разрешены действия, которые будут считаться неэтичными в соответствии с этическим кодексом этого бизнеса. Как сотрудники, работающие в этой стране, справятся с этой ситуацией, особенно если то, что в одном месте может считаться неэтичным, на самом деле считается важным для успеха бизнеса в другом? Например, в некоторых культурах принято приглашать деловых партнеров и клиентов на свадьбу с ожиданием, что гости сделают денежный подарок жениху и невесте.Компания может рассматривать подарок как неэтичную взятку в обмен на бизнес клиента, однако выход на новый рынок может оказаться необходимым. Придерживаться этических стандартов в таких случаях может быть сложно.
Этот путь к этике : Этические решения не всегда однозначны.
Пример
американских компаний часто критикуют за обращение с рабочими, производящими свою продукцию в Китае. Однако правила, касающиеся прав рабочих, в Китае гораздо более мягкие, чем в Соединенных Штатах.Вправе ли американская компания приказывать владельцам заводов в Китае изменить способ ведения бизнеса? Это один из примеров этической серой зоны в сегодняшней глобализированной экономике.
Несколько типов
Несколько типовЭТИКА |
Глава третья: Релятивизм |
Раздел 1. Несколько типов |
Люди развивают
размышления о морали с течением времени.
Они делают это в результате взаимодействия с отдельными людьми и общественностью.
учреждения. В различных
общества, каждое со своей культурой, есть разные идеи
относительно того, как люди должны себя вести. Разные общества и культуры имеют разные правила, разные
нравы, законы и моральные представления.
Разные общества и культуры имеют разные правила, разные
нравы, законы и моральные представления.
В ХХ веке люди стали вполне осознавать эти различия. Влияние этой информации в сочетании с теориями экзистенциалисты и прагматики стали весьма значимыми в сфере этики.В Экзистенциалисты с их теорией радикальной свободы и человеческого выбора и ответственность поместила мораль в сферу принятия решений каждым человеком. До существования существ не было сущностей, и не было бы не быть правил до существования существ, которые будут устанавливать правила для себя. В Прагматики также отошли от веры в абсолюты, обобщения и любые универсальные критерии суждения. Для прагматиков реальность была не данностью, а человеческим фактором. строить и отражать критерии общества для суждения по поводу истины. Итак, пришло передать как часть постмодернизма, что была бы школа или традиция мысли, согласно которой все размышления об этике также зависит от принятия решений людьми в социальных рамках. Эта школа считает, что не существует универсального или абсолютного этические принципы, которым должны подчиняться все люди.
Через двадцатое столетия многие люди пришли к тому, чтобы принять большую часть релятивистских перспектива. Релятивизм имеет вошли в сознание многих людей, даже тех, кто придерживался некоторые абсолютистские идеи. Да , есть люди, придерживающиеся непоследовательных и противоречивых представлений о мораль и этика. Как это случилось?
Сначала проясним некоторые термины:
Культурный релятивизм
Описательный этический релятивизм
нормативный этический релятивизм
Культурный релятивизм описывает тот простой факт, что существуют разные
культурах, и у каждого свой образ поведения, мышления и
чувство, как его члены учатся этому у предыдущего поколения.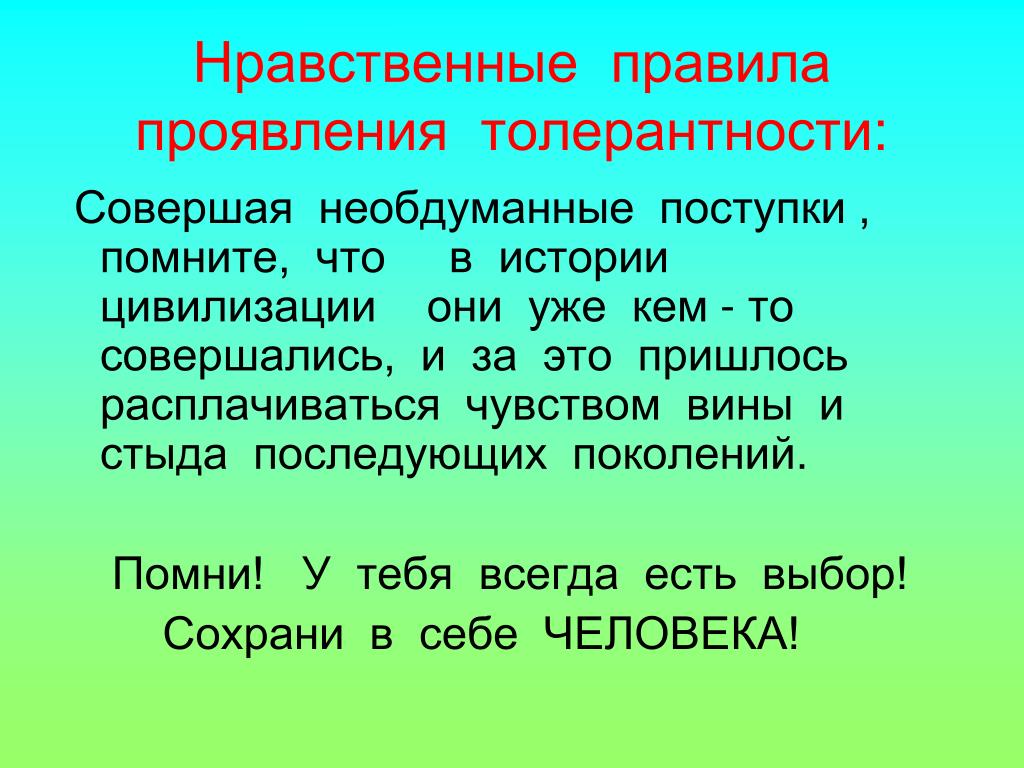 Существует огромное количество доказательств, подтверждающих это утверждение.
Практически каждый человек на планете хорошо знает, что
люди во всем мире действуют по-разному.
Люди по-разному одеваются, по-разному едят, по-разному говорят
языков, поют разные песни, имеют разную музыку и танцы и
много разных обычаев.
Существует огромное количество доказательств, подтверждающих это утверждение.
Практически каждый человек на планете хорошо знает, что
люди во всем мире действуют по-разному.
Люди по-разному одеваются, по-разному едят, по-разному говорят
языков, поют разные песни, имеют разную музыку и танцы и
много разных обычаев.
Это научная теория хорошо подтверждены доказательствами, собранными культурными антропологами.
Описательный этический релятивизм описывает тот факт, что в разных культурах одним из вариантов является чувство морали: нравы, обычаи и этические принципы могут различаться из одной культуры в другую. Там есть много информации, чтобы подтвердить это. То, что считается моральным в одной стране, может считаться аморально и даже незаконно в другой стране.
Это научная теория хорошо подтверждены доказательствами, собранными культурными антропологами.
Примеры:
Мораль в США | Аморальный |
Есть говядина | Индия |
Распитие алкогольных напитков, Азартные игры | Ближневосточные исламские страны |
Женщины в школе или на работе | Афганистан под Талибаном |
Женщины в шортах с открытым лицом | Иран, Саудовская Аравия, Судан |
Или в обратном порядке
Аморально в США | Морально или приемлемо |
Убийство новорожденных самок | Китай, Индия |
Калечение женских половых органов | Многие африканские народы (Это женский обрезание) |
Семья убивает женщину, члена семьи, которая изнасилован | Сомали, Судан |
Можете ли вы подумать о другом Примеры?
Нормативный этический релятивизм — это теория, утверждающая, что не существует общепринятых моральных принципов.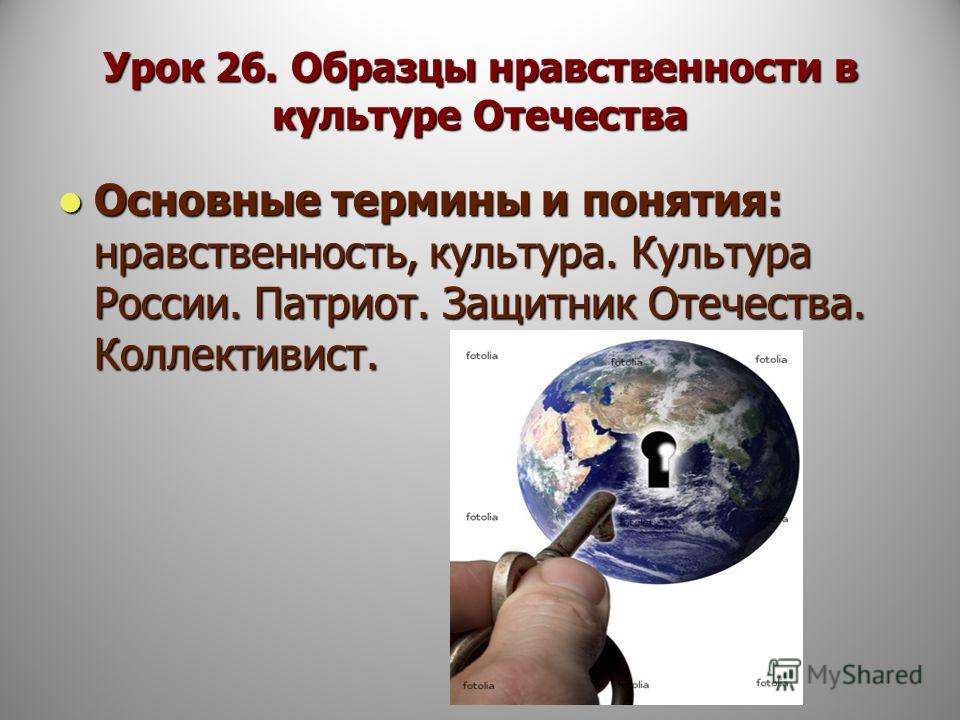 принципы.Теория нормативного этического релятивизма утверждает, что моральный
правильность и неправильность действий варьируется от общества к обществу, и это
нет никаких абсолютных универсальных моральных норм, обязательных для всех людей
раз. Теория
утверждает, что все размышления об основных принципах морали (этики)
всегда относительно. Каждый
культура устанавливает основные ценности и принципы, которые служат
основа нравственности. В
теория утверждает, что это так сейчас, всегда было так и будет
всегда будет так.
принципы.Теория нормативного этического релятивизма утверждает, что моральный
правильность и неправильность действий варьируется от общества к обществу, и это
нет никаких абсолютных универсальных моральных норм, обязательных для всех людей
раз. Теория
утверждает, что все размышления об основных принципах морали (этики)
всегда относительно. Каждый
культура устанавливает основные ценности и принципы, которые служат
основа нравственности. В
теория утверждает, что это так сейчас, всегда было так и будет
всегда будет так.
Это философский теория, которая НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ доказательствами, собранными культурными антропологами, и наука не могла подтвердить теорию о прошлом и будущее! Это теория, что есть доказательства против этого. (см. следующие разделы)
В следующем разделе мы внимательно изучите эту теорию, ее выводы и критику. рассмотрите приведенную ниже таблицу, в которой показано различие между абсолютизмом и релятивизм.
Релятивизм | Нигилизм — моральных принципов не существует | Абсолютизм Существуют универсальные этические принципы, применимые ко всем людям. Есть абсолюты. |
Культурный релятивизм | Существует моральное ядро, без которого и. ii. Физические лица не будет процветать | |
Описательный этический релятивизм | ||
Нормативный этический релятивизм | ||
нет универсальных критериев | А) существуют моральные истины | |
без абсолютных значений, даже без толерантности | B) Разум может открывать истину | |
без критики большинства | C) их продвижение в наших интересах | |
сводится к субъективизму | ||
Мы не должны выносить моральных суждений
в отношении других людей и обществ. | Мы судим и должны судить других людей и общества с разумом, сочувствием и пониманием.
|
Вы когда-нибудь думали или слышал и не оспаривал идею о том, что мы не должны выносить моральные суждения других людей? Есть ли у тебя когда-либо думал, что каждый человек должен принять собственное мнение о том, что его или ее моральные правила будут? Иметь вы когда-либо соглашались с мыслью, что «Если вы не пройдете милю в другом мужские мокасины, вы не можете судить о нем »?
Вы когда-нибудь думали, что в то время как какое-то действие может быть для вас морально неправильным, оно может быть правильным для другого человека или, наоборот, думали ли вы, что пока кто-то действует может быть морально правильным для вас может быть морально неправильным для вас другой человек? Есть ли у тебя думали, что каждый человек должен вырабатывать свою мораль?
Ну, если вы ответили, «Да» на любой из вышеперечисленных, у вас есть релятивистские идеи, работающие в вашей системе мышления.Теперь вы можете спросить себя, действительно ли вы принимаете эти идеи?
Вы верите, что должны выйти и убить нескольких человек, чтобы сделать вывод, что сериал убийца что-то не так делает? Делать вы действительно верите, что вам нужно похитить, изнасиловать, убить и съесть несколько молодых людей, чтобы прийти к выводу, что Джеффри Дамер что-то неправильное, морально неправильное и ужасное?
Вы думаете, что убийство
новорожденные младенцы, потому что они самки, это неправильно даже для китайцев?
Вам не кажется, что когда-то китайцы, индийцы и африканцы
более высокое качество жизни и более образованные, что они будут и должны
прекратить делать то, что причиняет вред, убивает или унижает женщин?
Если да, то и в вас работают абсолютистские идеи.
Как можно удерживать противоположные идеи на в то же время?
Давайте начнем думать об этих имеет значение.
Карл Веллман, « г. Этические последствия культурной относительности , The Journal of Философия , Vol. 60, выпуск 7 (28 марта 1963 г.): стр. 169–184.
Перейдем к некоторым важным отличиям.
Два типа Моральный релятивизм : культурный и индивидуальный
Культурный мораль Релятивизм
Часто можно услышать
следующего типа утверждения: с нашей стороны неправильно навязывать им свою мораль,
потому что у них другой набор убеждений.
Рене Декарт, 17 век
Французский философ отмечает в следующем отрывке разницу между
системы верований разных культур и очевидная разумность
каждый:
Но у меня было я осознал, даже еще во время учебы в колледже, что никакого мнения, однако абсурдным и невероятным, можно себе представить, чего не придерживаются некоторые философов; а потом, путешествуя, я заметил, что все те, чье мнение явно противоречит нашему, не попали в этот счет варваров и дикарей, но, напротив, многие из этих народов одинаково хорошо, если не лучше, использует свой разум, чем мы.- Начиная с г. Беседа о методе правильного ведения рассудка и поиске истины в Наук
Аборт запрещен в
Ирландия. Более того, вера в аборт — это ужасная мораль.
преступность широко распространена. В Японии аборты не только легальны, но и очень часто
считается морально нейтральным. Отвечая на вопрос: является ли аборт моральным
неправильный? культурный релятивист говорит: Да, в Ирландии аборт — это плохо.В
Япония, нет —
это не морально неправильно.
Обратите внимание, что
релятивист не говорит: «В Ирландии люди считают, что это неправильно, и
в Японии люди считают, что это не так ». Нет, его точка зрения сильнее
чем это. В Ирландии аборт — это морально неправильно, а в Японии — НЕЛЬЗЯ.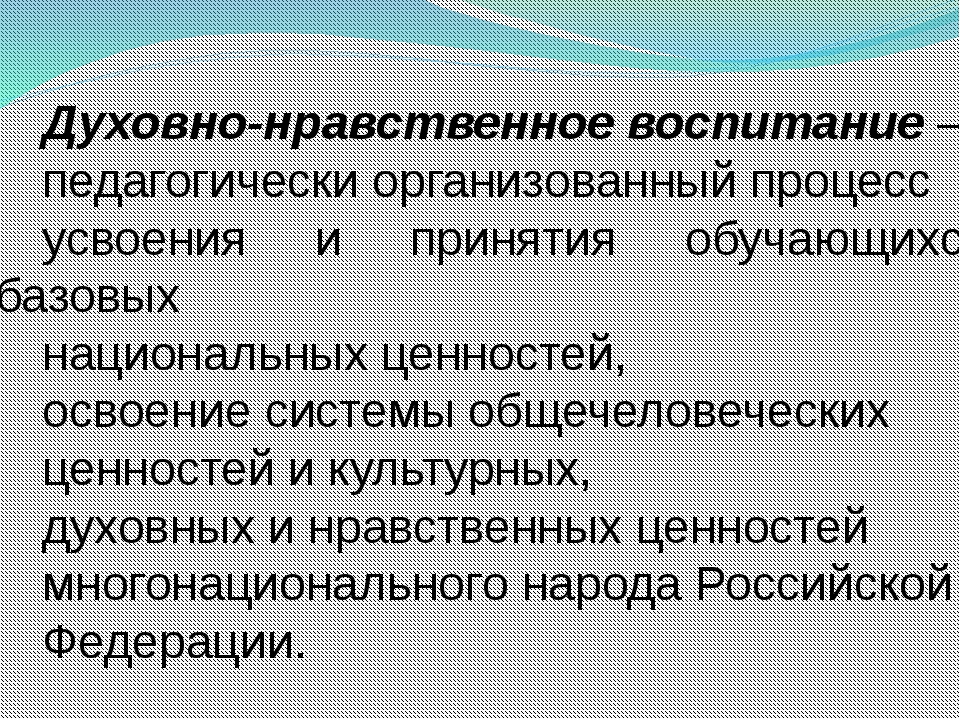 аморально.
аморально.
Индивидуальная мораль
Релятивизм (также называемый
Субъективный релятивизм, или просто субъективизм)
Если вы физическое лицо
релятивист, вы считаете, что моральные обязательства зависят от
убеждений, но вы думаете, что релевантным является убеждение индивидуального морального
агента, а не культуры, из которой происходит агент.
Опять же, обратите внимание субъективист не просто говорит: Джо считает, что списывание экзаменов — это морально приемлемо, когда нужна хорошая оценка, в то время как Мэри не думает, что обман всегда приемлем с моральной точки зрения. Нет, субъективист делает сильнее утверждают, что измена НЕПРАВИЛЬНА для Мэри, но НЕ для Джо.
Релятивизм и
Моральная объективность
Согласно моральной
релятивизм, является ли действие / суждение / решение / выбор морально правильным или
обязательно зависит от убеждения, что это действие / суждение / решение / выбор
морально правильные или обязательные.Релятивисты не утверждают, что нет
источник обязательства, ни то, что нет никаких действий, которые являются морально неправильными. Релятивисты часто заявляют, что действие / суждение и т. Д. Требуется с моральной точки зрения.
человек. Например, если человек считает аборт морально неправильным, тогда
это неправильно — для нее. Другими словами, для Сьюзан было бы морально неправильно
сделать аборт, если Сьюзен считала, что аборт — это всегда морально неправильно. (Это
также было бы морально неправильным, по мнению релятивистов, если бы Сьюзен сделала аборт
когда она считала, что иметь один — неправильно только ей.) Суммируя,
релятивистам не нужно отказываться от объективности моральных суждений; но они
нужно отказаться от других ключевых концепций, таких как универсализм; подробнее об этом позже.
Повторяю:
релятивизм не влечет * отсутствие объективных обязательств. Человек может верить
что моральные обязательства относятся к культуре и в то же время верят
что человек из этой культуры действительно обязан соблюдать все
моральный кодекс, которого придерживается культура.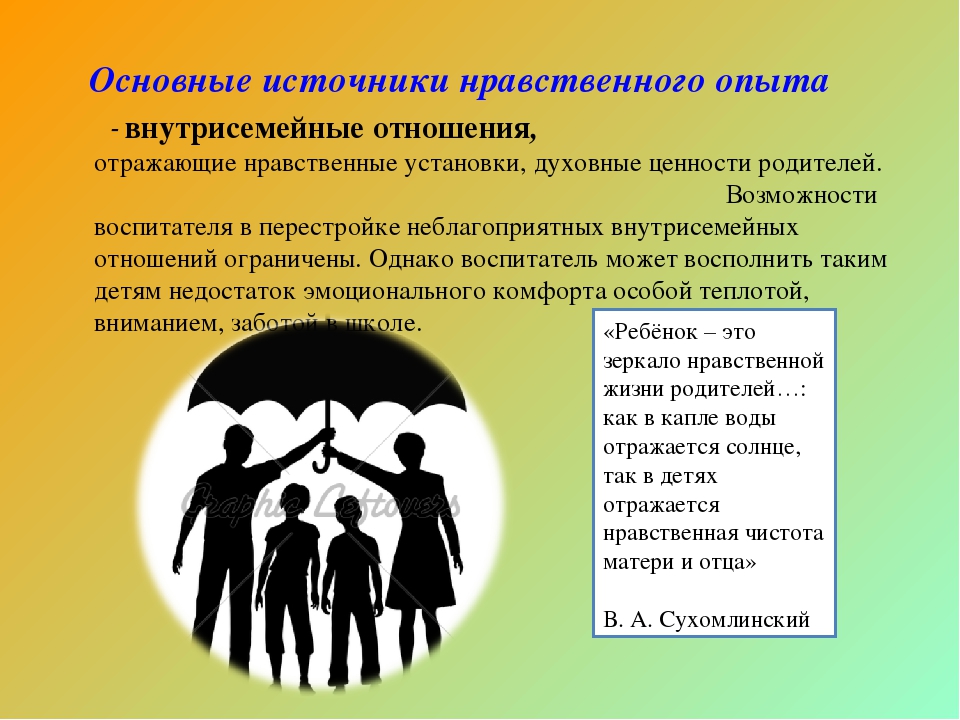
* Entail — если A влечет за собой B, то, если A истинно, B должно быть истинным.
Релятивизм — Интернет-энциклопедия философии
===================================================
Чтобы перейти к следующему разделу главы, нажмите здесь >> раздел.
Авторские права Стивен О Салливан и Филип А.Пекорино 2002. Все права зарезервированный.
Мораль: природа или культура?
Недавно я наткнулся на две доступные работы двух молодых философов, которые вместе взятые прекрасно иллюстрируют, как классический спор нативистов и эмпириков принимает форму в современной моральной психологии.
Хомский — Изображение из Википедии
В коротком и приятном посте на сайте Psychology Today Скотт Джеймс, автор книги An Introduction to Evolutionary Ethics (и мой друг из аспирантуры) предлагает краткое изложение современной моральной нативистской точки зрения, вдохновленной Ноамом Хомским и Джоном. Ролз.Хомский в своем знаменитом аргументе «бедность стимула» утверждал, что в опыте ребенка недостаточно информации, чтобы объяснить приобретение ею знаний о правилах грамматики. Следовательно, заключил он, должна быть какая-то врожденная языковая способность. В несколько загадочной сноске в A Theory of Justice John Rawls предположил, что мы можем обладать аналогичной моральной способностью, которая объясняет нашу компетентность в применении моральных правил. Если мы хотим серьезно отнестись к аналогии Ролза, имеет смысл спросить, не является ли моральный опыт детства слишком «обедненным», чтобы учитывать компетентные моральные суждения детей.Джеймс кратко рассматривает работу Элиота Туриэля о способности детей различать общепринятые правила, которые необходимо усвоить, и моральные правила, которые могут быть встроены в:
Поскольку дети с широким спектром жизненного опыта демонстрируют эту способность отличать моральные правила от общепринятых правил, возможно ли, чтобы дети научились этому из своего окружения? Если ответ отрицательный (как некоторые настаивают), тогда разум вполне может содержать моральный аналог Устройства овладения языком. И этот вывод будет подкреплен, если мы сможем определить (как утверждают некоторые) другие моральные качества, которым дети не учатся.
И этот вывод будет подкреплен, если мы сможем определить (как утверждают некоторые) другие моральные качества, которым дети не учатся.
Однако Джеймс отмечает: «Гипотеза морального нативизма никоим образом не является общепризнанной точкой зрения». Чтобы убедиться в этом, нам нужно просто перейти по ссылкам, которые он предоставляет, или взглянуть на аргумент Джесси Принца о том, что «мораль — это культурно обусловленная реакция» в книге Philosophy Now .
Принц, автор книги The Emotional Construction of Morals (пару лет назад я болтал с Джесси о его книге на Bloggingheads TV), утверждает, что удивительное изменение того, что считается морально приемлемым, несовместимо с тем, что он называет «моральным объективизмом».»Принц пишет:
Мораль сильно меняется в зависимости от времени и места. Добро одной группы может быть злом другой группы. Рассмотрим каннибализм, который практикуют группы во всех частях мира. Антрополог Пегги Ривз Сандей обнаружила доказательства каннибализма в 34% культур в одном кросс-историческом образце. Или возьмем кровавые виды спорта, такие как те, что практикуются в римских амфитеатрах, когда тысячи возбужденных фанатов наблюдали за людьми, участвующими в смертельной схватке. Убийство ради удовольствия также было зарегистрировано в культурах охоты за головами, в которых обезглавливание иногда использовалось как развлечение.Многие общества также практиковали крайние формы публичных пыток и казней, как это было в Европе до 18 века. И есть культуры, которые занимаются болезненными формами модификации тела, такими как скарификация, инфибуляция гениталий или связывание ног — практика, которая длилась в Китае 1000 лет и включала умышленное и мучительное нанесение увечий молодым девушкам. Различия в отношении к насилию сопровождаются разным отношением к сексу и браку. Изучая культурно независимые общества, антропологи обнаружили, что более 80% допускают полигамию.Брак по договоренности также обычен, и в некоторых культурах девушки выдают замуж, пока они еще не достигли полового возраста или даже моложе.
В некоторых районах Эфиопии половина девочек выходит замуж до достижения 15-летнего возраста.
Конечно, в морали есть и межкультурные сходства. Ни одна группа не продержалась бы долго, если бы она поощряла беспричинные нападения на соседей или препятствовала воспитанию детей. Но в рамках этих широких ограничений возможно почти все. Некоторые группы запрещают нападения на соседнюю хижину, но поощряют нападения на соседнюю деревню.Некоторые группы побуждают родителей совершать выборочное детоубийство, применять телесные наказания к детям или заставлять их заниматься физическим трудом или сексуальным рабством.
Такой вариант требует объяснения. Если бы мораль была объективной, разве мы не увидели бы большего согласия?
Принц здесь не обращается конкретно к моральному нативизму, вдохновленному Хомским / Ролзом, но существование такого рода широких моральных вариаций, как мне кажется, до предела напрягает лингвистическую аналогию.Конечно, естественные языки используют разные звуки и знаки для выражения одних и тех же понятий. И поверхностные грамматики естественных языков различаются. Но утверждение Хомского состоит в том, что на более глубоком уровне все языки используют одну и ту же грамматику — универсальную грамматику, которая встроена. Универсальная грамматика допускает вариации по определенному количеству параметров, и это объясняет грамматические вариации, которые мы наблюдаем в естественный язык. Но, что принципиально важно, это изменение ограничено. Природа принципов универсальной грамматики ограничивает то, что можно считать грамматикой естественного языка.Не существует языка, на котором правильно переведенная версия предложения «Sock burger as as loggerheads» считалась бы грамматической. Тем не менее, существовала мораль, согласно которой каннибализм, ритуальные увечья, рабство и изнасилование считались морально допустимыми. Если предполагаемая моральная способность может порождать мораль, которая допускает вещи, которые кажутся нам чудовищно аморальными — если она на самом деле ничего не исключает, — она не может объяснить нормативность наших суждений, и лингвистическая аналогия терпит неудачу.
Гипотеза о врожденных моральных способностях еще объясняет, работает. Например, теория пяти оснований Джонатана Хайдта направлена на объяснение измерений, по которым морали различаются, и в этом смысле она помогает объяснить как межкультурные закономерности в моральном суждении, так и моральные разногласия. Но он ничего не делает для установления врожденной способности, которая генерирует правильных суждений о морали действия точно так же, как лингвистическая способность генерирует правильные суждения о грамматичности предложений.
Идея о том, что мораль является культурно обусловленной реакцией, прямо подразумевает моральный релятивизм, и Принц ее принимает. Думаю, он прав. И я думаю, что его попытка прояснить то, что он считает неправильными представлениями о моральном релятивизме, верна:
Люди часто сопротивляются релятивизму, потому что считают его неприемлемым. В заключение рассмотрим некоторые утверждения и ответы.
Утверждение: Релятивизм предполагает, что все идет.
Ответ: Релятивисты признают, что если бы вы привили какой-либо заданный набор ценностей, эти ценности были бы верны для тех, кто ими обладал. Но у нас мало стимулов произвольно внушать ценности. Если мы научим наших детей быть безжалостными убийцами, они могут убить нас или погибнуть. Совершенно саморазрушительные ценности не могут длиться вечно.
Утверждение: Релятивизм предполагает, что у нас нет возможности критиковать Гитлера.
Ответ: Прежде всего, действия Гитлера были частично основаны на ложных убеждениях, а не на ценностях («научный» расизм, моральный абсолютизм, вероятность мирового господства).Во-вторых, проблема Гитлера заключалась не в том, что его ценности были ложными, а в том, что они были пагубными . Релятивизм не означает, что мы должны мириться с кровавой тиранией. Когда кто-то угрожает нам или нашему образу жизни, у нас есть сильная мотивация защитить себя.
Утверждение: Релятивизм влечет за собой бессмысленность моральных споров, поскольку все правы.
Ответ: Это серьезное заблуждение. У многих людей совпадают моральные ценности, и можно разрешать споры, обращаясь к общим моральным принципам.У нас также могут быть предметные дискуссии о том, как применять и расширять наши основные ценности. Однако некоторые споры бессмысленны. Убежденные либералы и консерваторы редко убеждают друг друга, но публичные дебаты по поводу политики могут сплотить базу и повлиять на нерешительных.
Утверждение: Релятивизм не допускает морального прогресса.
Ответ: В каком-то смысле это правильно; моральные ценности не подтверждаются. Но они могут стать лучше по другим критериям. Например, некоторые наборы ценностей более последовательны и больше способствуют социальной стабильности.Если моральный релятивизм верен, мораль можно рассматривать как инструмент, и мы можем подумать о том, что мы хотели бы, чтобы этот инструмент сделал для нас, и соответствующим образом пересмотреть мораль.
Можно резюмировать эти моменты, сказав, что релятивизм не подрывает способность критиковать других или улучшать собственные ценности. Однако релятивизм говорит нам, что мы ошибаемся, когда думаем, что обладаем единственной истинной моралью. Мы можем пытаться придерживаться моральных ценностей, которые ведут к более полноценной жизни, но мы должны помнить, что самореализация является относительной, поэтому ни один набор ценностей не может быть признан универсальным.Открытие истинности релятивизма может помочь каждому из нас индивидуально, поскольку наши ценности изменчивы и ограниченны. Мы не должны предполагать, что другие разделяют наши взгляды, и мы должны признать, что наши взгляды были бы разными, если бы мы жили в разных обстоятельствах. Эти открытия могут сделать нас более терпимыми и гибкими. Релятивизм не предполагает терпимости или каких-либо иных моральных ценностей, но, как только мы увидим, что единственной истинной морали не существует, мы потеряем один стимул для попытки навязать наши ценности другим.
Как вы думаете?
Прав ли моральный релятивизм? —
Доцент философии Дэвид Дженсен разобрал труды Томаса Нагеля и идею морального релятивизма в недавнем выпуске серии лекций по философии.
Прово, Юта (27 октября 2016 г.) — В 2008 г. Кристиан Смит, социолог из Нотр-Дама, провел опрос среди широкой выборки молодых людей по всей Америке, чтобы высказать свое мнение о морали по нескольким ключевым вопросам.Подавляющее большинство ответило, что мораль — это вопрос личного вкуса, и типичным ответом было что-то вроде «Кто я такой, чтобы говорить, что для них правильно?» Это классический ответ теорий морального релятивизма.
Дэвид Дженсен, доцент философии в BYU, затронул идею морального релятивизма в недавней лекции. «[Моральный релятивизм] — это не люди, придерживающиеся разных моральных убеждений», — объяснил Дженсен. «Но позиция, согласно которой разные, даже противоречащие друг другу моральные взгляды в каком-то смысле одинаково верны или верны.Моральные истины или факты варьируются от человека к человеку и от группы к группе ».
Томас Нагель в книге Взгляд из ниоткуда, подчеркивает трудности философов в борьбе с идеями морального релятивизма. «Это больше, чем обычное желание превзойти своих предшественников, поскольку оно включает в себя бунт против самого философского импульса, который воспринимается как унизительный и нереалистичный», — цитирует Дженсена. Он продолжил, выразив трудность теоретической проблемы моральной относительности: «Очень трудно дать правильную и убедительную теорию морали.”
Существует два типа практического морального релятивизма: индивидуальный и культурный. Индивидуальный моральный релятивизм — это идея о том, что ценности варьируются от человека к человеку, и у каждого человека есть свой собственный действующий набор моральных принципов. Нет концепции правильных моральных принципов; все основано на желаниях человека.
Проблема с индивидуальным моральным релятивизмом в том, что ему не хватает концепции руководящих принципов правильного или неправильного. «Один из пунктов морали — направлять нашу жизнь, указывать нам, что делать, чего желать, против чего возражать, какие качества характера развивать, а какие не развивать», — сказал Дженсен.Если мораль уже основана на личном желании, продолжил он, невозможно дистанцироваться от ситуации, чтобы найти действительно объективную моральную основу и принять решение, основанное на том, что правильно.
Культурный релятивизм предполагает, что «культура имеет различные стандарты, и они составляют мораль». Эта точка зрения решает проблему руководства, но также поднимает проблему, которую большинство людей отождествляет с несколькими различными культурами, которые могут иметь противоположные ценности. Также существует проблема терпимости.Хотя мыслители культурного релятивизма убеждены в том, что неправильно навязывать свои собственные культурные ценности другим, в некоторых культурах главной ценностью является нетерпимость.
Примером, приведенным Дженсеном, были религиозные экстремистские группы. В таких случаях группы часто придерживаются морального принципа уничтожения культур, отличных от их собственной, тем самым опровергая представление о том, что культурный релятивизм всегда терпим. Дженсен объяснил, что для того, чтобы толерантность стала истинной частью культурного релятивизма, «толерантность должна рассматриваться как универсальная моральная ценность», что делает ее более не относительной.
Есть и другие проблемы с культурным релятивизмом. «[Проблема культурного релятивизма] заключается в том, что что-то одновременно является правильным и неправильным», — сказал Дженсен. «Категория культуры недостаточно точна, чтобы выполнять работу морали, потому что это некий вид обобщения».
— Ханна Сандорф (бакалавр искусствоведения и кураторских исследований ’17)
Ханна освещает мероприятия факультета философии гуманитарного колледжа.Она учится на младших курсах, изучает историю искусств с незначительной степенью в искусстве.
Изображение Дэвида Дженсена
Микроагрессия и изменение моральных культур
В наши дни, если вы провели много времени в кампусе колледжа, вы, вероятно, слышали о микроагрессиях. Этот термин относится к 1970-м годам, но только в последние годы он стал заметным среди активистов университетского городка и других левых политических сил. Микроагрессия — это высказывания, воспринимаемые как сексистские, расистские или иным образом оскорбительные для маргинализованной социальной группы.Те, кто популяризирует эту концепцию, говорят, что, хотя правонарушения незначительны и иногда непреднамерены, неоднократное их повторение причиняет членам групп меньшинств большой вред, который необходимо исправить.
Некоторые студенты рассказывают о микроагрессиях, часто через такие сайты, как Microaggressions Project и отдельные сайты в Оберлине, Карлтоне, Уилламетте, Сент-Олафе и других колледжах. На этих сайтах люди жаловались, например, на неиспаноязычное лицо, использующее слово futbol , на мать, спрашивающую свою дочь, встречалась ли она с хорошими мальчиками в колледже, на кого-то, кто сказал женщине 30-ти лет, что она тоже выглядит молодой, чтобы стать профессором, и кто-то спрашивает белую мать черной дочери, ее ли ребенок.
Некоторые колледжи перешли к институциональному признанию микроагрессии. Студенческое самоуправление Итака-колледжа, например, приняло законопроект, призывающий к созданию онлайн-системы на территории кампуса, через которую студенты могли бы анонимно сообщать о микроагрессиях. Система Калифорнийского университета выпустила инструкции для преподавателей, предупреждающие, что такие утверждения, как «Америка — это плавильный котел» или «Я считаю, что работу должен получить самый квалифицированный человек», могут быть микроагрессией.
В ответ на этот документ профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Юджин Волох написал: «Что ж, я рад сообщить, что просто собираюсь продолжать микроагрессию.«Очевидно, что не все согласны с такой политикой.
Мы сможем лучше понять жалобы на микроагрессию и реакцию на них, если поймем, что каждая сторона дебатов исходит из разной моральной культуры. Те, кто привлекает внимание к микроагрессиям, отвергли мораль, господствовавшую среди среднего класса американцев в 20-м веке — то, что социологи и историки иногда называли культурой достоинства, которая не терпит частной мести и побуждает людей обращаться в полицию или обращаться в суд, когда они серьезно пострадал.Менее серьезные оскорбления можно игнорировать, и, конечно же, следует игнорировать любое простое словесное оскорбление. Таким образом, родители учат своих детей говорить: «Палки и камни могут сломать мне кости, но слова никогда не причинят мне вреда».
Жалобы на микроагрессию ясно показывают, что это уже не устоявшаяся мораль. Те, кто рассматривает микроагрессию как серьезную проблему и допускает незначительные и непреднамеренные пренебрежения, отвергают идею о том, что слова не могут причинить вреда, что пренебрежение следует отбрасывать, что даже откровенные оскорбления следует игнорировать.Такое отношение свидетельствует о возникновении новой моральной культуры, которую мы называем культурой виктимности, поскольку она повышает ценность жертвы.
Жалобы на микроагрессию — лишь одно из проявлений; из тех же кругов активистов кампуса также приходят призывы к срабатыванию предупреждений, чтобы предупредить чувствительных студентов о материалах курса, которые могут их беспокоить, и о создании «безопасных пространств» для защиты студентов от оскорбительных идей.
Но чем объясняются жалобы на микроагрессию и возникновение культуры виктимности? Моральные культуры являются продуктом социальных условий.Дональд Блэк, социолог из Университета Вирджинии, утверждает, что акты социального доминирования — например, принижение кого-либо оскорблениями — более оскорбительны в местах или отношениях, где люди относительно равны. Точно так же акты культурной нетерпимости, такие как пренебрежение другой этнической группой или полом, являются более оскорбительными в условиях высокой степени культурного разнообразия.
Продолжая эти идеи, преступления против исторически неблагополучных социальных групп стали более табуированными именно потому, что теперь различные группы более равны, чем в прошлом, например, во времена Джима Кроу или когда гомосексуальное поведение считалось преступлением.И чувствительность к любым действиям, которые могут быть восприняты как расистские, гомофобные и т. Д., Выше в местах, где больше разнообразия таких групп и равенство между ними, например, среди студентов колледжей. По иронии судьбы, чувствительность к угнетению, которая заставляет так много студентов осуждать даже скрытые и непреднамеренные пренебрежения, развивается потому, что они участвуют в одной из самых эгалитарных и терпимых социальных сред в истории человечества.
Сегодня те, чья мораль зиждется на идеалах достоинства, видят истцов микроагрессии и других людей, которые считают свою жертву тонкокожими, безжалостными и, возможно, бредовыми.Тем временем те, кто опирается на новую мораль жертвы, считают своих критиков нечувствительными, привилегированными и, возможно, фанатичными.
Несомненно, каждая сторона выиграет от лучшего понимания друг друга. Дебаты могли бы быть более плодотворными, а отношения в университетском городке — более коллегиальными, если бы мы более внимательно относились к моральным заботам тех, кто с нами не согласен. Это не означает, что конфликт, порожденный этим моральным разделением, не будет или не должен продолжаться.
Конфликт важен, потому что его исход определит судьбу высшего образования.Культура жертвенности и ее проявления в университетском городке угрожают целям академии. Честное расследование и общение обязательно кого-то обидят, и, чтобы колледжи продолжали работать, в них должен быть климат, в котором люди будут менее — не более — склонны к возмущению, чем где-либо еще.
Тем не менее, хотя мы симпатизируем более старой культуре достоинства, мы видим достоинства в заботе о жертвах и чуткости к страданиям, которые лежат в основе культуры жертвы.


 Разновидностью такого поведения являются лицемерие, ханжество, сознательный обман.
Разновидностью такого поведения являются лицемерие, ханжество, сознательный обман.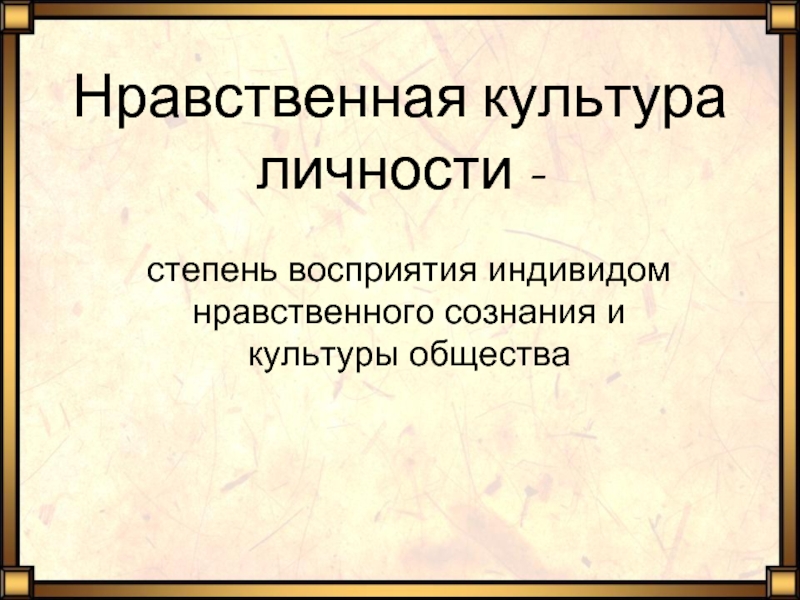
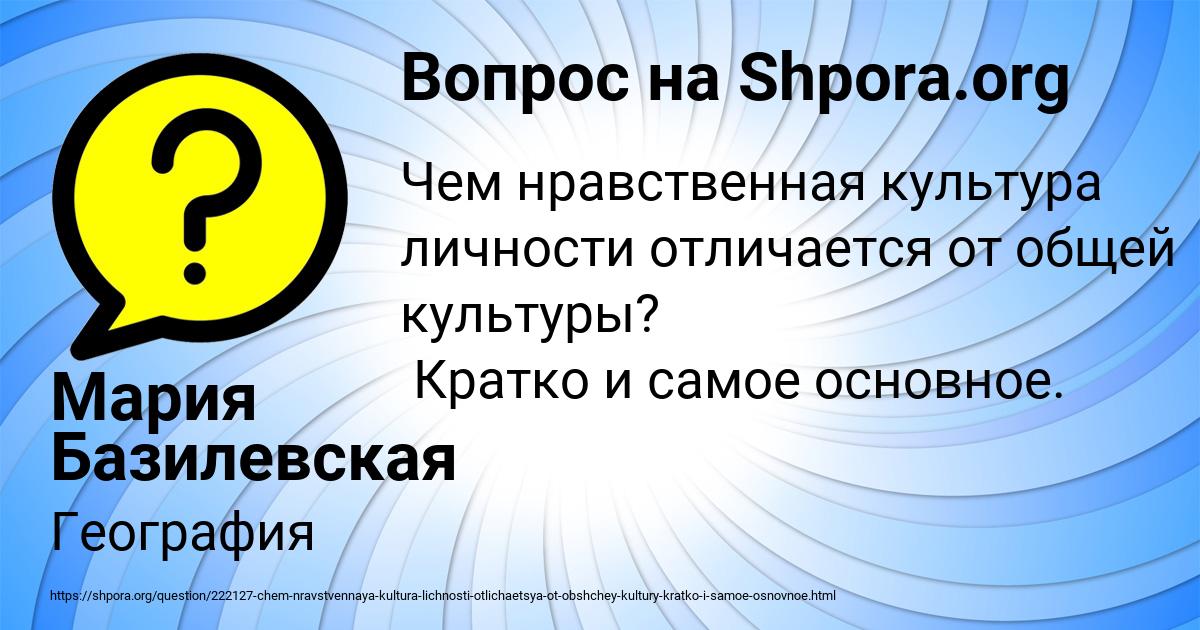

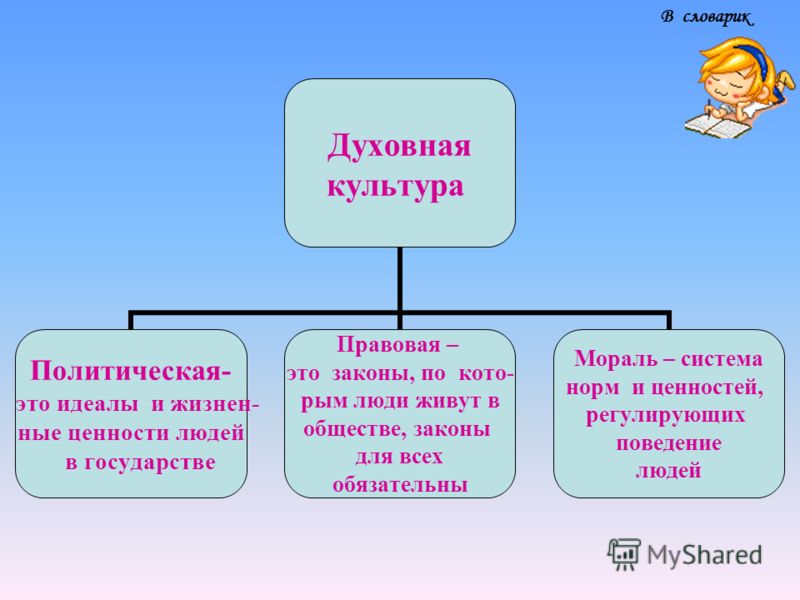
 общество
не будет процветать
общество
не будет процветать
 В некоторых районах Эфиопии половина девочек выходит замуж до достижения 15-летнего возраста.
В некоторых районах Эфиопии половина девочек выходит замуж до достижения 15-летнего возраста.