|
Мимесис (иногда пишется как «мимезис»), или подражание — это понятие, принятое для обозначения имитации, но при этом указывающее, прежде всего, на действие мимирования, то есть на подражание действию или следование образцу. Понятие «мимесис» широко используется в современных социально-психологических дискурсах и различных исследованиях в области массовых коммуникаций, политики, психологии, социологии, эстетики, антропологии культуры, этологии. Диапазон человеческой способности к подражанию обширен. Можно выделить три наиболее устойчивых типа миметических отношений:
I. Подражание в природе. Человек и животноеШироко толкуемое понятие подражания (уподобления, гипнотического заражения, сопричастности), представленное в теориях Л. Леви-Брюля, Э. Канетти, Г. Лебона, Г. Тарда, оспаривается К. Лоренцем, К. Животное рассматривается как неотъемлемая часть человеческого целого. Благодаря мимесису животное становится знаком (фигурой) отношения человека к самому себе, собственным «животным страстям» (поэтому опасным, угрожающим жизни, несущим безумие, страх, ненависть, грех, смерть и так далее, и, напротив, воплощающим в себе лучшие моральные и физические качества). В учениях об аффектах (страстях) Р. Декарта или Б. Спинозы «животное» не имеет своего мира, выступает лишь как символ одной из примитивных форм мимесиса. Образ «безумия» в ранней медицинской практике описывается в чисто животных терминах и качествах (М. Фуко). Подражая животному, его повадкам, мимике, жестам, агрессивности, страстности, надменности, глупости, человек «работает» с живым природным объектом как со своей частью, вырванной из некоего целого «животно-духовного царства» (Г. В. Ф. Гегель). Мир картезианского субъекта конституировался на первоначальном архитепическом подобии человеческого и божественного Разума; все миметические связи («страсти») устранялись как нарушающие процессы мысли. В классическом психоанализе мимесис-подражание получает развитие в области симптоматики патологических нарушений человеческой психики. Животное здесь — знак-симптом травматической ситуации (характерны в этом отношении имена пациентов, описанных З. Фрейдом и Ш. Ференци: человек-волк, человек-лошадь, человек-крыса и другие). Животное проявляется в качестве психического события или, точнее, аффекта, например, собака («волк») вызывает естественную реакцию страха, так как мы боимся быть покусанными. Но Фрейд указывает на страх иного рода, требующий более глубинного толкования (такие признания, как «боюсь, что меня укусит лошадь, что меня сожрет волк», интерпретируются им как невозможность преодолеть пациентом бессознательного страха, «вины» перед отцом). Человеческое существо, переживающее аффект животного страха, испытывает один из сильных припадков истерии (Фрейд, Л. Клагес и другие), которая в психиатрии XIX века рассматривалась как симуляция: истерик пытается «раствориться», исчезнуть в том, чему он подражает. В исследованиях К. Лоренца, Т. Тинбергена, П. Шовена и других были заложены основы этологического знания, то есть экспериментально-теоретического исследования животного мира как управляемого определёнными законами, которые не могут быть интерпретированы с антропоморфной точки зрения. «Живое существо — не подобие чего-то иного, оно само есть знающая реальность» (К. Лоренц). При исследовании поведения различных сообществ животных этология отказалась от использования понятия подражания в широком смысле: то, что в XIX веке представлялось подчинённым функции подражания, оказалось сложнейшим механизмом инстинктивной активности, где каждый, даже самый мельчайший, знак несёт в себе важную для выживания животного информацию (знаки гормональные, территориальные, ритмические, пищевые, знаки агрессии, сексуальные, миграционные, ритуальные и так далее): мимесису противостоит семиозис, философии подражания — теории связи и массовых коммуникаций. Место человека в системе природы должно быть определено исходя из уже достигнутых результатов в области полевой антропологии, этнологии и этологии. К. Леви-Стросс в серии работ («Дикое мышление», «Тотемизм сегодня» и другие) пришёл к выводу, что архаический человек не подражал, и его отношение к животному определялось не внешним подобием, но внутренней гомологией. Когда люди одного клана избирают медведя в качестве тотема, то это не значит, что они собираются подражать его повадкам и обрести в подражании нечто медвежье, но тотем-медведь будет матрицей изначальных отношений между архаическим сообществом и окружающей природой. Согласно Д. Лилли, человек не должен уклоняться от общения с животным миром и быть безучастным наблюдателем; при контакте «… подражание является одной из программ демонстрации сиюминутного состояния модели дельфина в нас и нас в дельфинах. Адекватность функционирования человека в контакте человек-дельфин измеряется обратной связью, представленной в подражании». II. Подражание в обществе и историиПодражание в обществе и истории (заражение, повторение, отражение, идентификация, симпатия как различные аспекты социального феномена подражания) согласно постулату Г. Тарда: «Общество — это подражание, а подражание — род гипноза». Ситуативное действие эффекта подражания трудно предсказуемо. В современном обществе подражание охватывает циклическими (ритмическими) волнами так называемое общественное мнение. Принцип подражания-заражения лежит в основе многих влиятельных и оригинальных концепций «массового общества» (Э. Канетти, З. Кракауэр). То, что называют массой, формируется на основе отношений заражения-подражания в определённые кризисные этапы развития общества. Э. Эриксон называет их глобальным кризисом идентичности (для которого характерно падение или полная утрата прежних духовных и социально значимых ценностей, образцов поведения). Социальный опыт массы (массовых движений) — это опыт регрессивный, скорее эпидемический: человек массы не выбирает, а заражается энергией массовых настроений, провоцируемый любым поводом к действиям, чьи последствия он не в силах предугадать. Важное значение имеет принцип подражания в философии истории (Ф. Ницше, О. Шпенглер, Н. Я. Данилевский, Л. Н. Гумилёв). Теория цивилизаций А. Тойнби целиком определяется доктриной подражания: творческое меньшинство становится объектом подражания со стороны малоактивного и инертного большинства. Однако с распадом прежней группы творческого меньшинства подражающее большинство само начинает распадаться, выделяя из себя новое творческое меньшинство, и процесс цивилизационного мимесиса идёт дальше. Этот процесс особенно заметен на границах цивилизаций: граница той или иной доминирующей цивилизации становится пересечением разнообразных энергий подражания, избирательного мимесиса. Философия этногенеза Л. Н. Гумилёва перекликается с концепциями О. Шпенглера и А. Тойнби: внутри пассионарного целого («этноса») действует принцип «пассионарной индукции», пассионарность «заразительна», и вид заражения-подражания даёт возможность пассионарного взрыва, приводящего к развитию этноса, его господству над другими. III. Подражание образцу (действия). Античная форма мимесисаДлительное время понятие мимесиса использовалось в основном при эстетическом анализе действительности. Наиболее полно эта точка зрения представлена в «Государстве» Платона и «Поэтике» Аристотеля. Однако следует различать их позиции. Подражание захватывает всегда часть целого, но не целое (Платон). Подражание не есть имитация (воспроизведение определённой черты в имитируемом объекте) и есть отражение действительности, а именно подражание ей, «обман», и этот симулякр одновременно есть и она сама, и её сокрытие. Здесь отличие платоновской от аристотелевской теории мимесиса. «Своеобразие трагедии в том, что только она одна из всех видов драмы, придав мимесису очистительный характер, перевела его катартику из конкретной физической категории в отвлечённую: зрительный мимесис обратился под влиянием понятий в мимесис нравственный» (О. Фрейденберг). Аристотелевская эстетика делает акцент не на механизме мимесиса, а на этосе литературной формы греческой трагедии: именно в качестве завершённого в себе миметического целого трагедия назидает, воспитывает, образовывает, то есть предпосылает акту подражания обязательный катарсис (очищение страстей). IV. «Негативный» мимесисВ. Беньямин в работах 1930-х годов, анализируя массовую культуру эпохи Луи Бонапарта, установил принцип подражания мёртвому фетишу, товару: сфера потребления пронизана идолопоклонством мёртвому, технически воспроизводимому и постоянно повторяемому. В этологических разработках Р. Кайуа 1930-х годов даётся материал, близкий беньяминовской модели мимесиса: в природе существуют такие формы подражания, которые определяются стремлением животного «притвориться мёртвым» и «принять защитную окраску среды», что, по мнению Кайуа, должно объясняться не только целью выживания, но и тем, что имитацией неживой природы животное стремится обрести наиболее устойчивое положение. Однако наиболее широко, но в направлении противоположном изысканиям Беньямина и Кайуа понятие негативного мимесиса сформулировал Т. В. Адорно, противопоставив его формам «реалистической» аристотелевской эстетики: необходимо восстановить первоначальное, непонятийно-миметическое отношение к реальности, которым обладал человек в архаические времена и которое определяется как «способность чему-либо ужасаться (irgend zu erschauern)». |
Мимесис . Эстетика
Уже с античности европейская философская мысль достаточно ясно показала, что основу искусства как особой человеческой деятельности составляет мимесис – специфическое и разнообразное подражание (хотя это русское слово не является адекватным переводом греческого, поэтому в дальнейшем мы чаще, что и принято в эстетике, будем пользоваться греческим термином без перевода). Исходя из того что все искусства основываются на мимесисе, самую сущность этого понятия мыслители античности истолковывали по-разному. Пифагорейцы полагали, что музыка подражает «гармонии небесных сфер»; Демокрит был убежден, что искусство в широком его понимании (как продуктивная творческая деятельность человека) происходит от подражания человека животным (ткачество от подражания пауку, домостроительство – ласточке, пение – птицам и т.п.). Более подробно теория мимесиса была разработана Платоном и Аристотелем. При этом термин «мимесис» наделялся ими широким спектром значений, Платон считал, что подражание составляет основу всякого творчества. Поэзия, например, может подражать истине и благу. Однако обычно искусства ограничиваются подражанием предметам или явлениям материального мира, и в этом Платон усматривал их ограниченность и несовершенство, ибо сами предметы видимого мира он понимал лишь как слабые «тени» (или подражания) мира идей.
Пифагорейцы полагали, что музыка подражает «гармонии небесных сфер»; Демокрит был убежден, что искусство в широком его понимании (как продуктивная творческая деятельность человека) происходит от подражания человека животным (ткачество от подражания пауку, домостроительство – ласточке, пение – птицам и т.п.). Более подробно теория мимесиса была разработана Платоном и Аристотелем. При этом термин «мимесис» наделялся ими широким спектром значений, Платон считал, что подражание составляет основу всякого творчества. Поэзия, например, может подражать истине и благу. Однако обычно искусства ограничиваются подражанием предметам или явлениям материального мира, и в этом Платон усматривал их ограниченность и несовершенство, ибо сами предметы видимого мира он понимал лишь как слабые «тени» (или подражания) мира идей.
Собственно эстетическая концепция мимесиса принадлежит Аристотелю. Она включает в себя и адекватное отображение действительности (изображение вещей такими, «как они были или есть»), и деятельность творческого воображения (изображение их такими, «как о них говорят и думают»), и идеализацию действительности (изображение их такими, «какими они должны быть»). В зависимости от творческой задачи художник может сознательно или идеализировать, возвысить своих героев (как поступает трагический поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что присуще авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, – приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения, созерцания и познавания предмета.
В зависимости от творческой задачи художник может сознательно или идеализировать, возвысить своих героев (как поступает трагический поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что присуще авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, – приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения, созерцания и познавания предмета.
Неоплатоник Плотин, углубляя идеи Платона, усматривал смысл искусств в подражании не внешнему виду, но самим визуальным идеям (эйдосам) видимых предметов, т.е. в выражении их сущностных ( = прекрасных в его эстетике) изначальных оснований. Эти идеи уже на христианской основе были переосмыслены в ХХ в. неоправославной эстетикой, особенно последовательно С. Булгаковым, как мы видели (гл. I. § 1.), в принцип софийности искусства.
Художники античности чаще всего ориентировались на один из указанных аспектов понимания мимесиса. Так, в древнегреческой теории и практике изобразительных искусств господствовала тенденция к созданию иллюзорных изображений (например, знаменитая бронзовая «Телка» Мирона, завидев которую, быки мычали от вожделения; или изображение винограда художником Зевксидом, клевать который, согласно легенде, слетались птицы), понять которые помогают, например, поздние образцы подобной живописи, сохранившиеся на стенах домов засыпанного некогда пеплом Везувия римского города Помпеи. В целом же для эллинского изобразительного искусства характерно имплицитное понимание мимесиса как идеализаторского принципа искусства, т.е. внесознательное следование той концепции изображения визуальных эйдосов вещей и явлений, которую только в период позднего эллинизма вербально зафиксировал Плотин. Впоследствии этой тенденции придерживались художники и теоретики искусства Возрождения и классицизма. В Средние века миметическая концепция искусства характерна для западноевропейской живописи и скульптуры, а в Византии господствует ее специфическая разновидность – символическое изображение; сам термин «мимесис» наполняется в Византии новым содержанием.
Так, в древнегреческой теории и практике изобразительных искусств господствовала тенденция к созданию иллюзорных изображений (например, знаменитая бронзовая «Телка» Мирона, завидев которую, быки мычали от вожделения; или изображение винограда художником Зевксидом, клевать который, согласно легенде, слетались птицы), понять которые помогают, например, поздние образцы подобной живописи, сохранившиеся на стенах домов засыпанного некогда пеплом Везувия римского города Помпеи. В целом же для эллинского изобразительного искусства характерно имплицитное понимание мимесиса как идеализаторского принципа искусства, т.е. внесознательное следование той концепции изображения визуальных эйдосов вещей и явлений, которую только в период позднего эллинизма вербально зафиксировал Плотин. Впоследствии этой тенденции придерживались художники и теоретики искусства Возрождения и классицизма. В Средние века миметическая концепция искусства характерна для западноевропейской живописи и скульптуры, а в Византии господствует ее специфическая разновидность – символическое изображение; сам термин «мимесис» наполняется в Византии новым содержанием. У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, как мы видели в гл. I, «неподражаемым подражанием» назван символический образ, «по контрасту» обозначающий умонепостигаемый архетип.
У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, как мы видели в гл. I, «неподражаемым подражанием» назван символический образ, «по контрасту» обозначающий умонепостигаемый архетип.
В поствозрожденческой (новоевропейской) эстетике концепция мимесиса влилась в контекст «теории подражания», которая на разных этапах истории эстетики и в различных школах, направлениях, течениях понимала «подражание» (или мимесис) часто в самых разных смыслах (нередко – в диаметрально противоположных), восходящих, тем не менее к широкому антично-средневековому семантическому спектру: от иллюзорно-фотографического подражания видимым формам материальных предметов и жизненных ситуаций (натурализм, фотореализм) через условно обобщенное выражение типических образов, характеров, действий обыденной действительности (реализм в различных его формах) до «подражания» неким изначальным идеальным принципам, идеям, архетипам, недоступным непосредственному в и дению (романтизм, символизм, некоторые направления авангардного искусства ХХ в. ).
).
В целом в визуальных искусствах с древнейших времен до начала ХХ в. миметический принцип был господствующим, ибо магия подражания – создания копии, подобия, визуального двойника, отображения скоропреходящих материальных предметов и явлений, стремление к преодолению времени путем увековечивания их облика в более прочных материалах искусства генетически присуща человеку. Только с появлением фотографии она стала ослабевать, и большинство направлений авангардного и модернистского искусства (см.: Раздел второй) сознательно отказываются от миметического принципа в элитарных визуальных искусствах. Он сохраняется только в массовом искусстве и консервативно-коммерческой продукции.
В наиболее «продвинутых» арт-практиках ХХ в. мимесис часто вытесняется реальной презентацией самой вещи (а не ее подобия) и активизацией ее реальной энергетики в контексте специально созданного арт-пространства или создаются симулякры – псевдо-подобия, не имеющие прототипов ни на каком уровне бытия или экзистенции. И здесь же нарастает ностальгия по иллюзорным подражаниям. В результате в самых современных арт-проектах все большее место начинают занимать фотография (особенно старая), документальные кино– и видеообразы, документальные фонозаписи. На сегодня достаточно очевидно, что мимесис является неотъемлемой потребностью человеческой деятельности и в принципе не может быть исключен из эстетического опыта человека, какие бы исторические трансформации он ни притерпевал. И таким образом -он остается сущностным принципом искусства, хотя в ХХ в. его диапазон значительно расширился от презентации самой вещи в качестве произведения искусства (мимесис только за счет изменения контекста функционирования вещи с обыденного на художественно-экспозиционный) до симулякра – сознательного художественного «обмана» реципиента (ироническая игра) в постмодернизме путем презентации в качестве «подражания» некоего образа, в принципе не имеющего никакого прообраза, т.е. объекта подражания. В обоих случаях принцип мимесиса практически выводится за свои смысловые границы, свидетельствуя о конце классической эстетики и классического ( = миметического) искусства.
И здесь же нарастает ностальгия по иллюзорным подражаниям. В результате в самых современных арт-проектах все большее место начинают занимать фотография (особенно старая), документальные кино– и видеообразы, документальные фонозаписи. На сегодня достаточно очевидно, что мимесис является неотъемлемой потребностью человеческой деятельности и в принципе не может быть исключен из эстетического опыта человека, какие бы исторические трансформации он ни притерпевал. И таким образом -он остается сущностным принципом искусства, хотя в ХХ в. его диапазон значительно расширился от презентации самой вещи в качестве произведения искусства (мимесис только за счет изменения контекста функционирования вещи с обыденного на художественно-экспозиционный) до симулякра – сознательного художественного «обмана» реципиента (ироническая игра) в постмодернизме путем презентации в качестве «подражания» некоего образа, в принципе не имеющего никакого прообраза, т.е. объекта подражания. В обоих случаях принцип мимесиса практически выводится за свои смысловые границы, свидетельствуя о конце классической эстетики и классического ( = миметического) искусства.
Сущность миметического искусства в целом составляет изоморфное (сохраняющее определенное подобие форм) отображение, или выражение с помощью образов. Искусство – это образное, т.е. принципиально невербализуемое (адекватно не передаваемое в речевых словесных конструкциях, или формально-логическим дискурсом) выражение некой смысловой реальности. Отсюда художественный образ – основная и наиболее общая форма выражения в искусстве, или основной способ художественного мышления, бытия произведения искусства. Мимесис в искусстве наиболее полно осуществляется с помощью художественных образов.
Двадцать рук и семь голов
Двадцать рук и семь голов | Colta.ru5 июля 2017Искусство
14775
текст: Ольга Дерюгина The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun Waugh
The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun WaughЭтот текст — попытка проследить, что происходит с объектностью в течение ХХ — начале XXI века: от истоков и последствий медиум-специфичности через процесс дематериализации к нынешнему постцифровому состоянию; он о том, как эти перемены отражаются на статусе автора и какие пути обновления может предложить искусству теория нового материализма.
Личный взгляд: от мимесиса к перформансу
Тезис о миметическом характере искусства был введен Платоном в «Государстве» и оставался актуальным вплоть до XIX века. За это время, разумеется, идея получила различные трактовки. Согласно версии Платона, сам материальный мир является лишь подражанием единственно истинному миру идей. Поэтому живопись или скульптура (суть подражание подражанию) уже совсем далека от истины. То есть здесь мы видим, что мимесис опирается на дуалистическую концепцию мира идей и мира вещей. Эту концепцию в приложении к собственно эстетике затем подробно разработал Аристотель в «Поэтике». «Искусство подражает природе», — писал он, имея в виду не механическое копирование природных явлений, а образное их воспроизведение в соответствии с законами того или иного вида искусства. Поэт и живописец должны «подражать непременно чему-то одному из трех»: изображать вещи такими, «как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть». В эпоху Возрождения теория мимесиса достигла своего апогея. Тогда же впервые появился тезис о том, что подражать следует не только природе, но также и мастерам. Девиз подражания античности возник уже в XV веке, а к концу XVII он стал доминирующим, превратив теорию искусства из классической в академическую.
«Искусство подражает природе», — писал он, имея в виду не механическое копирование природных явлений, а образное их воспроизведение в соответствии с законами того или иного вида искусства. Поэт и живописец должны «подражать непременно чему-то одному из трех»: изображать вещи такими, «как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть». В эпоху Возрождения теория мимесиса достигла своего апогея. Тогда же впервые появился тезис о том, что подражать следует не только природе, но также и мастерам. Девиз подражания античности возник уже в XV веке, а к концу XVII он стал доминирующим, превратив теорию искусства из классической в академическую.
К XIX веку мотив начал обретать иное звучание: по мере того как общество становилось секулярным, а вера в науку побеждала религиозную, формировался запрос на правдивость, причем истина теперь была связана с имманентным, а не трансцендентным. Ричард Сеннет в своей книге «Падение публичного человека» описывает произошедшее таким образом: «Представление о секулярном решительно изменилось от восемнадцатого к девятнадцатому столетию. “Вещи и люди” были поняты в восемнадцатом столетии в той мере, в какой им можно было приписать некое место в порядке Природы. Этот порядок Природы не был чем-то физическим, осязаемым, также он никогда не наделялся земными вещами. Растение или чувство занимает то или иное место в порядке Природы, но не определяет его ни в частном, ни в общем. Порядок Природы был, следовательно, идеей секулярного как трансцендентального» [1]. В XIX же столетии «все имманентное, мгновенное, фактическое становилось реальностью само по себе». В обществе больших городов, в Париже и Лондоне, создавалась среда для активного звучания и продвижения идеи Личности, индивидуальности. Теория Сеннета построена на аналогии публичного человека с актером, а большого города — с театром. Он рассматривает, как менялось поведение «публики» на улице и зрителей в театре на рубеже XVIII—XIX веков. В большом городе одним из основных кодов, позволявших мгновенно определить роль незнакомца, была одежда. Вплоть до середины XVIII века костюм позволял определить род деятельности человека.
“Вещи и люди” были поняты в восемнадцатом столетии в той мере, в какой им можно было приписать некое место в порядке Природы. Этот порядок Природы не был чем-то физическим, осязаемым, также он никогда не наделялся земными вещами. Растение или чувство занимает то или иное место в порядке Природы, но не определяет его ни в частном, ни в общем. Порядок Природы был, следовательно, идеей секулярного как трансцендентального» [1]. В XIX же столетии «все имманентное, мгновенное, фактическое становилось реальностью само по себе». В обществе больших городов, в Париже и Лондоне, создавалась среда для активного звучания и продвижения идеи Личности, индивидуальности. Теория Сеннета построена на аналогии публичного человека с актером, а большого города — с театром. Он рассматривает, как менялось поведение «публики» на улице и зрителей в театре на рубеже XVIII—XIX веков. В большом городе одним из основных кодов, позволявших мгновенно определить роль незнакомца, была одежда. Вплоть до середины XVIII века костюм позволял определить род деятельности человека. Кофейни были местами, где социальные различия не имели значения — во всяком случае, на уровне коммуникации: любой посетитель мог подсесть за соседний столик и принять участие в оживленной дискуссии. Во время театрального представления считалось нормальным выражать свои эмоции громко и непосредственно — с помощью криков и хлопков, а если сцена пользовалась особенным успехом, ее могли исполнить несколько раз кряду. Фиксированных цен на тот момент еще не существовало, поэтому непременным городским ритуалом являлся рыночный торг. Для того чтобы совершить сделку, продавцу и покупателю необходимо было вступить в своеобразную игру, демонстрируя друг другу ораторские и перформативные навыки.
Кофейни были местами, где социальные различия не имели значения — во всяком случае, на уровне коммуникации: любой посетитель мог подсесть за соседний столик и принять участие в оживленной дискуссии. Во время театрального представления считалось нормальным выражать свои эмоции громко и непосредственно — с помощью криков и хлопков, а если сцена пользовалась особенным успехом, ее могли исполнить несколько раз кряду. Фиксированных цен на тот момент еще не существовало, поэтому непременным городским ритуалом являлся рыночный торг. Для того чтобы совершить сделку, продавцу и покупателю необходимо было вступить в своеобразную игру, демонстрируя друг другу ораторские и перформативные навыки.
Диалог традиционных медиумов с фотографией перевел постановку вопроса о достоверности в иную плоскость — вместо реалистичности теперь стали говорить о документальности и свидетельстве.
В связи с развитием промышленного производства население больших городов постепенно расширялось. Возникла новая прослойка: парижский буржуа понимал, что он — новый человек, но не знал, как себя определить. К середине XIX века одежда стала предметом массового производства — это означало, что разные группы городской публики принимали всё более сходный вид между собой. Мода того времени содержала в себе противоречие: люди старались не привлекать к себе внимание, но в то же время вглядывались в детали костюма в попытке распознать незнакомца. Отныне, приходя в магазин с фиксированными ценами, а не на рынок, достаточно было просто выбрать товар с полки, не заводя диалог с продавцом. Новый код поведения в публичном пространстве стал связан с молчанием и попутно способствовал вуайеризму. Одновременно с этим менялся статус актера: социальный взлет артиста (еще недавно занимавшего положение наравне с прислугой) был обусловлен его возможностью (и обязанностью) публично проявлять чувства, самовыражаться. Именно этой привилегии была лишена буржуазия [2].
Возникла новая прослойка: парижский буржуа понимал, что он — новый человек, но не знал, как себя определить. К середине XIX века одежда стала предметом массового производства — это означало, что разные группы городской публики принимали всё более сходный вид между собой. Мода того времени содержала в себе противоречие: люди старались не привлекать к себе внимание, но в то же время вглядывались в детали костюма в попытке распознать незнакомца. Отныне, приходя в магазин с фиксированными ценами, а не на рынок, достаточно было просто выбрать товар с полки, не заводя диалог с продавцом. Новый код поведения в публичном пространстве стал связан с молчанием и попутно способствовал вуайеризму. Одновременно с этим менялся статус актера: социальный взлет артиста (еще недавно занимавшего положение наравне с прислугой) был обусловлен его возможностью (и обязанностью) публично проявлять чувства, самовыражаться. Именно этой привилегии была лишена буржуазия [2].
Сеннет называет современное состояние общества «тиранией интимности» и заключает: «Теперь в социальных отношениях на первый план выходит нарциссизм, ибо в культуре нет больше веры в публичность, она управляема интимным чувством как мерой значения реальности».
Принимая во внимание описанную выше социальную подоплеку, рассмотрим, как менялся статус (а вернее, прежде всего — самоопределение) художника в XIX веке.
Вплоть до XIX века искусство и ремесло были фактически неразделимы, а авторитет Академии — непререкаемым. До появления в 1863 году Салона отверженных, в котором принимали участие произведения, не прошедшие отбор жюри Парижского салона (среди них работы Моне, Мане, Ренуара и Курбе). Благодаря возникшей оппозиции Академии художники впервые смогли провозгласить свою независимость (от знатного покровителя и академического истеблишмента). Отстраненность стала своего рода кредо живописцев: так, реалисты (первым, конечно, был Курбе) стали изображать на своих полотнах представителей маргинальной прослойки общества, а картины импрессионистов превозносили не столько глаз автора, сколько новейшие научные открытия (теории цвета Шеврёля, Гельмгольца и Руда) и технические средства (в 1840 году появилась краска в тюбиках, благодаря чему стало возможным рисовать на пленэрах). Также следует отметить влияние фотографии на импрессионизм — художники применяли принцип серийности, а композиция зачастую была построена на фрагментах и «крупных планах». Таким образом, начиная с Салона отверженных в искусстве стали соседствовать две идеи: индивидуализм (построенный на рыночных отношениях) и отстраненность. На протяжении ХХ века подобное соседство в современном искусстве лишь усугублялось, так как в полной мере соответствовало запросам капиталистического общества. (Закономерным образом отказ от автономии и режима репрезентации возможен был только при отказе от логики капитализма — такую идею выдвигали в ХХ веке только авангард и дадаизм, однако им, в свою очередь, вменяли идеологическую ангажированность.) По мере того как искусство осознавало себя обособленной сферой (автономией), а технический прогресс диктовал интерес ко всему «новому», становилась все важнее концепция медиум-специфичности, достигшая своего пика к 1940-м годам и популяризированная Клементом Гринбергом.
Также следует отметить влияние фотографии на импрессионизм — художники применяли принцип серийности, а композиция зачастую была построена на фрагментах и «крупных планах». Таким образом, начиная с Салона отверженных в искусстве стали соседствовать две идеи: индивидуализм (построенный на рыночных отношениях) и отстраненность. На протяжении ХХ века подобное соседство в современном искусстве лишь усугублялось, так как в полной мере соответствовало запросам капиталистического общества. (Закономерным образом отказ от автономии и режима репрезентации возможен был только при отказе от логики капитализма — такую идею выдвигали в ХХ веке только авангард и дадаизм, однако им, в свою очередь, вменяли идеологическую ангажированность.) По мере того как искусство осознавало себя обособленной сферой (автономией), а технический прогресс диктовал интерес ко всему «новому», становилась все важнее концепция медиум-специфичности, достигшая своего пика к 1940-м годам и популяризированная Клементом Гринбергом. Однако после более чем десятилетия концентрации на этой теме живопись зашла в тупик. Ее постепенно стали теснить другие медиумы, стремившиеся воплотить в себе запросы времени.
Однако после более чем десятилетия концентрации на этой теме живопись зашла в тупик. Ее постепенно стали теснить другие медиумы, стремившиеся воплотить в себе запросы времени.
Модернистская живопись, сконцентрировавшись на идее медиум-специфичности, требовала от зрителя полного отождествления лишь с одним органом чувств — зрением.
Спустя полвека после Салона отверженных история про легитимацию и непризнанность снова была разыграна, но уже в качестве фарса: дюшановский «Фонтан» был не чем иным, как провокацией, направленной против косности и непрозрачности критериев экспертной оценки. Ирония, однако, заключается в том, что авторитет самого Дюшана превратил его шутку во вполне серьезный эмансипаторный жест. «Фонтан» был создан после инцидента, случившегося в 1912 году вокруг картины «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», когда непосредственно перед открытием экспозиции в парижском Салоне независимых от Дюшана потребовали снять работу с выставки. Через год «Обнаженная» была представлена в Нью-Йорке на Armory Show и вызывала значительный резонанс. В 1917 году, будучи одним из учредителей нью-йоркского Салона независимых, Дюшан отправил организаторам безымянную посылку — перевернутый писсуар, названный «Фонтан, реди-мейд» и подписанный «Р. Мутт». Предложенный объект был отвергнут экспертным советом. Тем не менее писсуар был представлен на выставке в обход вердикта организаторов, а вскоре появилась заметка в журнале Blind Man в защиту представленного объекта. Когда же раскрылось имя истинного автора этого реди-мейда, художественная общественность поспешила признать работу остроумной и влиятельной — так произошла встреча авторитета художника и овеществления искусства [3]. Мастерство окончательно уступило место новаторству.
Через год «Обнаженная» была представлена в Нью-Йорке на Armory Show и вызывала значительный резонанс. В 1917 году, будучи одним из учредителей нью-йоркского Салона независимых, Дюшан отправил организаторам безымянную посылку — перевернутый писсуар, названный «Фонтан, реди-мейд» и подписанный «Р. Мутт». Предложенный объект был отвергнут экспертным советом. Тем не менее писсуар был представлен на выставке в обход вердикта организаторов, а вскоре появилась заметка в журнале Blind Man в защиту представленного объекта. Когда же раскрылось имя истинного автора этого реди-мейда, художественная общественность поспешила признать работу остроумной и влиятельной — так произошла встреча авторитета художника и овеществления искусства [3]. Мастерство окончательно уступило место новаторству.
Armory Show. 1917© Courtesy of the Art Institute of Chicago
Связка индивидуального и вещественного проявляла себя иначе в творчестве сюрреалистов: практика «автоматического письма» позволяла, по словам художников, выразить «то, что не знает голова». На первый взгляд, такой подход противостоял идее художника-гения, но вместе с тем приводил к психологизации предметов, наделению вещей субъективной природой. В работах сюрреалистов были неизбежны коннотации с фетишизмом; вещи, изъятые из товарооборота и причудливо скомбинированные между собой, превращались в идеальные объекты для созерцания и коллекционирования.
На первый взгляд, такой подход противостоял идее художника-гения, но вместе с тем приводил к психологизации предметов, наделению вещей субъективной природой. В работах сюрреалистов были неизбежны коннотации с фетишизмом; вещи, изъятые из товарооборота и причудливо скомбинированные между собой, превращались в идеальные объекты для созерцания и коллекционирования.
Диалог традиционных медиумов с фотографией перевел постановку вопроса о достоверности в иную плоскость — вместо реалистичности теперь стали говорить о документальности и свидетельстве. Кризис традиционных медиумов совпал с глубоким общественным кризисом и последующими войнами. Фигуративное уступило место абстрактному, аморфному, деформированному.
В книге «Vision and Visuality» Розалинд Краусс приводит шутку, которую ей рассказывает в начале 1960-х известный художественный критик Майкл Фрид. Он спрашивает, знает ли Краусс, кого Франк Стелла считает самым великим американцем.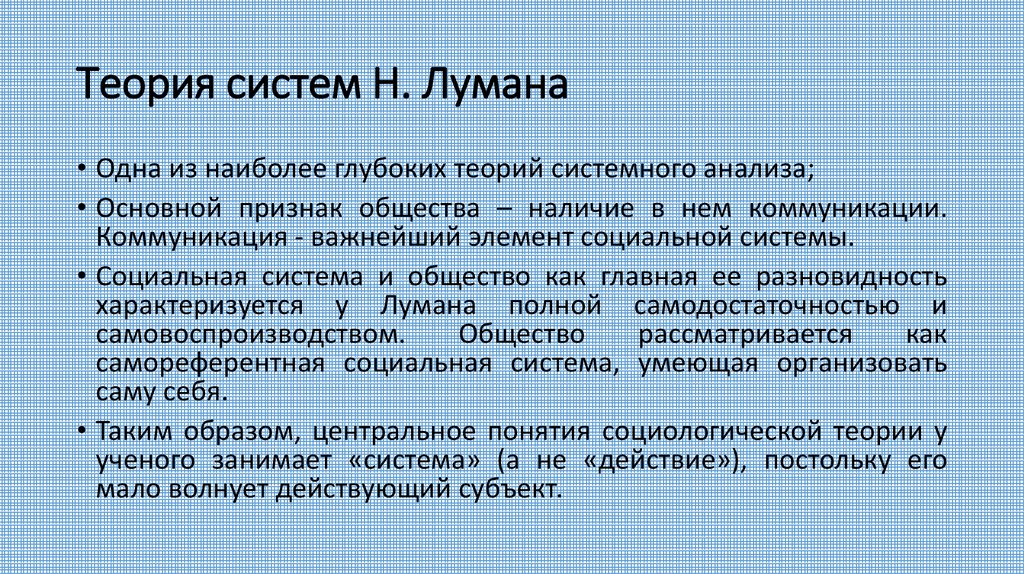 Ответ оказывается следующим: это игрок бейсбольной команды Red Sox Тэд Уильямс. Потому что он видит быстрее, чем любой другой человек. Ему удается разглядеть шов на бейсбольном мяче, летящем через поле со скоростью девять миль в час, благодаря чему Тэд может сделать точный удар. Вот почему Франк считает этого игрока гением [4]. Фактически в этой шутке идет речь о взгляде, стремящемся отделиться от субъекта, — то есть о желании автономии взгляда. Модернистская живопись, сконцентрировавшись на идее медиум-специфичности, требовала от зрителя полного отождествления лишь с одним органом чувств — зрением. В этой точке опыт восприятия живописи был интенсифицирован до предела и заложил основу для последующей дематериализации искусства.
Ответ оказывается следующим: это игрок бейсбольной команды Red Sox Тэд Уильямс. Потому что он видит быстрее, чем любой другой человек. Ему удается разглядеть шов на бейсбольном мяче, летящем через поле со скоростью девять миль в час, благодаря чему Тэд может сделать точный удар. Вот почему Франк считает этого игрока гением [4]. Фактически в этой шутке идет речь о взгляде, стремящемся отделиться от субъекта, — то есть о желании автономии взгляда. Модернистская живопись, сконцентрировавшись на идее медиум-специфичности, требовала от зрителя полного отождествления лишь с одним органом чувств — зрением. В этой точке опыт восприятия живописи был интенсифицирован до предела и заложил основу для последующей дематериализации искусства.
В 1960-е годы возник концептуализм как критика модернистской концепции визуальности. Концептуалисты пренебрегали материальным статусом произведения и понимали его скорее как алгоритм, но им все же не удавалось уйти от главной парадигмы модернизма — идеи автономии и репрезентативной функции искусства. Произведение искусства здесь рождалось вместе со словом автора. В конечном счете для истории искусства оказывалось важнее не содержание инструкции, а тот факт, что она была создана тем или иным художником.
Произведение искусства здесь рождалось вместе со словом автора. В конечном счете для истории искусства оказывалось важнее не содержание инструкции, а тот факт, что она была создана тем или иным художником.
Задача освоения больших площадей, в сущности, сделала основным медиумом ХХ века выставку.
Перформанс снял вопрос соотношения формы и идеи: в теле художника они наконец совпали. Едва ли можно представить себе более точную метафору тирании интимности и иллюстрацию кризиса публичности в современном обществе, чем акт публичного молчания и выставления себя напоказ, в котором исполнитель полностью слился со своей ролью. В перформансе искусство, завязанное на идее личности художника, достигло своей кульминации.
Искусство в публичном поле: от объекта к новой материальности
Если предыдущий раздел был посвящен тому, какие изменения происходили с медиумом в контексте истории искусства, значению личности автора и концепции, а также проблеме автономии, то здесь речь пойдет об искусстве, работающем с коллективным и его восприятием. Хотя любое произведение искусства всегда существует в общественном пространстве (галереи или музея), сами условия репрезентации впервые были поставлены под вопрос художниками лишь во второй половине ХХ века. После Второй мировой войны возвращение к утопическим проектам переустройства — или, лучше сказать, проектирования новой — социальной среды в духе авангардистов и дадаистов виделось невозможным; искусство не было устремлено в будущее, оно было всецело поглощено настоящим, в котором происходило стремительное наращивание темпов промышленного производства. К 1960-м годам возник интерес к процессуальному, общественное пространство теперь понималось не в структурно-формалистском плане, а именно как место коммуникации и действия. В послевоенные годы наблюдались рост и развитие институтов искусства: открывались новые музеи (к примеру, нью-йоркский МоМА), галереи, художники осваивали сквоты. Задача освоения больших площадей, в сущности, сделала основным медиумом ХХ века выставку.
Хотя любое произведение искусства всегда существует в общественном пространстве (галереи или музея), сами условия репрезентации впервые были поставлены под вопрос художниками лишь во второй половине ХХ века. После Второй мировой войны возвращение к утопическим проектам переустройства — или, лучше сказать, проектирования новой — социальной среды в духе авангардистов и дадаистов виделось невозможным; искусство не было устремлено в будущее, оно было всецело поглощено настоящим, в котором происходило стремительное наращивание темпов промышленного производства. К 1960-м годам возник интерес к процессуальному, общественное пространство теперь понималось не в структурно-формалистском плане, а именно как место коммуникации и действия. В послевоенные годы наблюдались рост и развитие институтов искусства: открывались новые музеи (к примеру, нью-йоркский МоМА), галереи, художники осваивали сквоты. Задача освоения больших площадей, в сущности, сделала основным медиумом ХХ века выставку.
This Is Tomorrow, Group 6: Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Allison Smithson and Peter Smithson. 1956
Выставка This is Tomorrow (1956), подготовленная куратором Брайаном Робертсоном, а также архитектором и арт-критиком Тео Кросби в коллаборации с «Независимой группой», маркировала этап смещения фокуса с материального производства на искусство как коллективную практику. В проекте приняли участие 38 авторов, организованных в 12 групп, — художники, дизайнеры, теоретики и кураторы мастерили экспозицию по принципу ассамбляжа.
Взаимодействие с публичным пространством стало ключевым аспектом творчества представителей «нового реализма». В их практике происходило размытие границы между работой художника и работой куратора. В 1957 году Ив Кляйн представил свою первую инсталляцию под названием «Пустота» — как нетрудно догадаться, публика увидела абсолютно пустую галерею, за ней в 1960-м последовала «Полнота» Армана — витрина галереи Ирис Клер была заполнена горой мусора.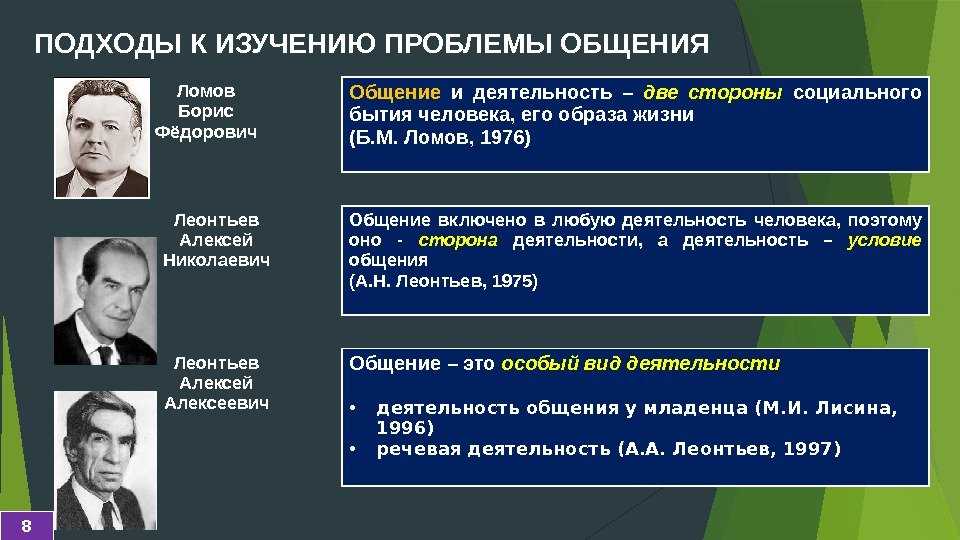 Затем Даниэль Спёрри задействовал в своей работе «найденный» продуктовый магазин (1961), а Христо и Жанн-Клод создали свою первую масштабную инсталляцию в городском пространстве. Это была «Стена из бочек. Железный занавес» (1962) — «баррикада из 240 нефтяных бочек на улице Висконти в Париже, отсылавшая к недавно возведенной Берлинской стене и положившая начало их бессрочному проекту расширения скульптуры до пространственных и временных масштабов спектакулярной культуры и одновременно сокращения ее материального присутствия до простого медиального образа» [5].
Затем Даниэль Спёрри задействовал в своей работе «найденный» продуктовый магазин (1961), а Христо и Жанн-Клод создали свою первую масштабную инсталляцию в городском пространстве. Это была «Стена из бочек. Железный занавес» (1962) — «баррикада из 240 нефтяных бочек на улице Висконти в Париже, отсылавшая к недавно возведенной Берлинской стене и положившая начало их бессрочному проекту расширения скульптуры до пространственных и временных масштабов спектакулярной культуры и одновременно сокращения ее материального присутствия до простого медиального образа» [5].
В 1959-м Аллан Капроу, вдохновившись той ролью, которую играла спонтанность в выступлениях Кейджа, организовал свой первый хеппенинг. Именно в хеппенинге как коллективном действии был разрушен барьер между зрителем и художником. Непосредственность опыта противопоставлялась процессу коммодификации искусства.
С возникновением интернета и появлением медиатеории абстрактное уступило место виртуальному.
Клас Олденбург выбрал противоположную стратегию: его «Магазин» доводил логику культурного потребления до абсурда — на полках теснились реплики предметов массового производства, неряшливо сделанные и сочетавшиеся в произвольных комбинациях, изобличая перепроизводство и взаимозаменяемость товаров (но в равной степени и объектов современного искусства).
Если все предшествующее концептуальное искусство базировалось на принципе противопоставления (действие против объектности, идея важнее формы, улица против музея и пр.), то главной установкой «Флюксуса» было преодоление бинарных оппозиций: «“Флюксус” был первым культурным проектом послевоенного периода, осознавшим, что коллективные конструкции идентичности и социальные связи теперь преимущественно и повсеместно опосредуются овеществленными объектами потребления и что это систематическое уничтожение традиционных форм субъективности требует столь же овеществленного и интернационально рассредоточенного эстетического выражения» [6]. Как и в хеппенингах Капроу, здесь на первый план выходили процессуальность и вовлеченность зрителя, при этом представители движения «Флюксус» не имели определенной медиальной приверженности, в их практиках можно было увидеть отголоски как дадаизма, так и концептуализма.
Как и в хеппенингах Капроу, здесь на первый план выходили процессуальность и вовлеченность зрителя, при этом представители движения «Флюксус» не имели определенной медиальной приверженности, в их практиках можно было увидеть отголоски как дадаизма, так и концептуализма.
В 1960—1970-е годы социальное было препарировано с точки зрения эпистемологии — художники ставили под вопрос то, каким образом формировалось знание. Этот процесс оформился посредством имманентной критики — критики музея как институции.
Ив Кляйн. Yves Klein: Monochrome Propositions, Blue Epoch. 1957© Yves Klein Archives
Самым первым примером институциональной критики являлась выставка Ива Кляйна 1957 года в Милане, где были представлены 11 одинаковых, но по-разному оцененных монохромных холстов. Кляйн таким образом указал на зависимость произведения искусства от выставочного контекста и некогерентность дискурса и рыночных отношений. В 1969—1972 годах был осуществлен проект Марселя Бротарса «Музей современного искусства, отдел орлов». Бротарс представил ироничную коллекцию разномастных предметов, которые объединял лишь общий визуальный мотив — изображение орла. Этот жест был одновременно направлен как против идеологического догматизма музея, так и против утопических надежд концептуализма, связанных с демократизацией искусства в связи с отказом от объекта, способов его распространения и институциональных рамок. В это же время была создана работа Ханса Хааке «Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена» (1971), разоблачавшая финансовые аферы Шапольски, который был владельцем крупной риэлторской фирмы, и хотя он напрямую не был связан с Музеем Гуггенхайма, однако принадлежал к тому же кругу, что и некоторые члены попечительского совета. Музей предпочел отменить персональную выставку художника. Инсталляция Хааке состояла из 146 фотографий, множества текстов, двух фотографий переговоров и карты проблемных зон города.
Бротарс представил ироничную коллекцию разномастных предметов, которые объединял лишь общий визуальный мотив — изображение орла. Этот жест был одновременно направлен как против идеологического догматизма музея, так и против утопических надежд концептуализма, связанных с демократизацией искусства в связи с отказом от объекта, способов его распространения и институциональных рамок. В это же время была создана работа Ханса Хааке «Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена» (1971), разоблачавшая финансовые аферы Шапольски, который был владельцем крупной риэлторской фирмы, и хотя он напрямую не был связан с Музеем Гуггенхайма, однако принадлежал к тому же кругу, что и некоторые члены попечительского совета. Музей предпочел отменить персональную выставку художника. Инсталляция Хааке состояла из 146 фотографий, множества текстов, двух фотографий переговоров и карты проблемных зон города.
Ханс Хааке. Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена. 1971
1971
Инверсию идеологического в публичном поле произвел ленд-арт: Роберт Смитсон выдвинул идею «антипамятников», основанную на отрицании традиционного монумента как локализации определенной идеологии и замершего взгляда на историческое событие. Если минимализм утверждал капитальный разрыв с контекстом (недаром Майкл Фрид обвинял его в театральности), воплощая в себе само молчание, само застывание, саму универсальность, и в силу своей нейтральности и выверенности превращался в антагониста не только природного, но и социального порядка, то инсталляции пионеров ленд-арта, несмотря на значительную долю спектакулярности, были полностью интегрированы в природный контекст и предполагали активное взаимодействие со средой. Фактически ленд-арт воплощал в себе искусство процесса, в котором в равной степени могли участвовать как люди, так и нечеловеческие акторы.
В 1990—2000-е годы на фоне появления интернет-арта продолжался проект институциональной критики, происходило расширение художественных тактик, новый этап получил название «этнографический поворот»: авторы изучали устройство систем и связей внутри них, вплотную приближаясь к социологическим и антропологическим практикам.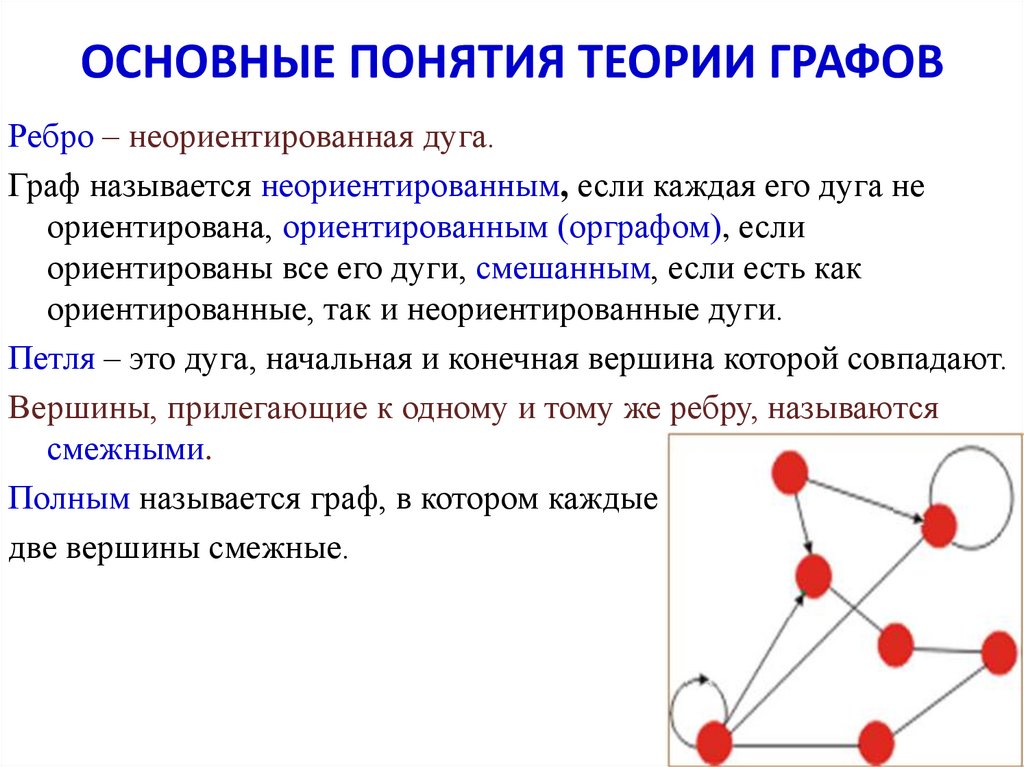 Среди самых известных работ этого периода можно выделить проекты «Подрывая музей» Майкла Фрида, «Разве они не милые?» Андреа Фрейзер и сайт-специфичные проекты Рене Грин. В нулевые годы такие художники, как Пьер Юиг и Риркрит Тиравания, разрабатывали проблемы дискурсивности и социальной вовлеченности.
Среди самых известных работ этого периода можно выделить проекты «Подрывая музей» Майкла Фрида, «Разве они не милые?» Андреа Фрейзер и сайт-специфичные проекты Рене Грин. В нулевые годы такие художники, как Пьер Юиг и Риркрит Тиравания, разрабатывали проблемы дискурсивности и социальной вовлеченности.
С возникновением интернета и появлением медиатеории абстрактное уступило место виртуальному. Казалось, что в пространстве интернета утопический проект общедоступности и эгалитарности осуществим. Искусство было избавлено от потребности институциональной легитимации и посредников в лице критиков, кураторов и галеристов.
Формально работы пионеров нет-арта во многом базировались на специфичности цифровой визуальности, эстетике ошибки (глитча), однако сама архитектура сети устроена таким образом, что привычная дуалистическая схема мышления — действие vs. репрезентация, подлинность vs. копия, статичность vs. процесс, вовлеченность vs. пассивность — здесь оказывалась нерелевантной. Несмотря на зачарованность кажущейся демократичностью глобальной сети, художники с самого начала выявляли ограничения и бреши, существовавшие в системе. Работы Вука Чосича, Jodi.org, Алексея Шульгина, Оли Лялиной и Хита Бантинга существовали на пересечении формального и идеологического. Вместе с тем становилось понятно, что цифровое — не столько про форму, сколько про способы распространения, сбора и хранения информации. В эпоху «веб 2.0» феномен мема показывает, что какая угодно картинка может иллюстрировать какую угодно идею (и такой подход эксплуатируется поколением постинтернет-художников, впрочем, очевидным образом ведя в тупик). Сегодня, когда виртуальность стала неотъемлемым дополнением реальности, а интернет превращается в арену борьбы за власть между корпорациями и национальными государствами, объяснимо и очевидно разочарование в утопических идеях нет-арта, а вслед за этим возвращение интереса к материальности.
Несмотря на зачарованность кажущейся демократичностью глобальной сети, художники с самого начала выявляли ограничения и бреши, существовавшие в системе. Работы Вука Чосича, Jodi.org, Алексея Шульгина, Оли Лялиной и Хита Бантинга существовали на пересечении формального и идеологического. Вместе с тем становилось понятно, что цифровое — не столько про форму, сколько про способы распространения, сбора и хранения информации. В эпоху «веб 2.0» феномен мема показывает, что какая угодно картинка может иллюстрировать какую угодно идею (и такой подход эксплуатируется поколением постинтернет-художников, впрочем, очевидным образом ведя в тупик). Сегодня, когда виртуальность стала неотъемлемым дополнением реальности, а интернет превращается в арену борьбы за власть между корпорациями и национальными государствами, объяснимо и очевидно разочарование в утопических идеях нет-арта, а вслед за этим возвращение интереса к материальности.
Вук Чосич. Unreal. 1999© Courtesy of the artist
Постцифровое искусство наполнено ностальгическими интонациями и растерянностью — не то перед вездесущностью «спектакля», не то перед неповоротливостью критического аппарата. Под влиянием постструктуралистских идей, акторно-сетевой теории и объектно ориентированной онтологии в культурном поле намечается движение от публичного к безличному; спекулятивный реализм ставит вопрос о проблеме доступа и о том, как представить искусство без представительства.
Под влиянием постструктуралистских идей, акторно-сетевой теории и объектно ориентированной онтологии в культурном поле намечается движение от публичного к безличному; спекулятивный реализм ставит вопрос о проблеме доступа и о том, как представить искусство без представительства.
Настольная книга каждого юного куратора, теоретика или художника «Искусство с 1900 года» завершается дискуссией между авторами — теоретиками искусства Розалинд Краусс, Ив-Аленом Буа, Бенджамином Бухло, Хэлом Фостером и Дэвидом Джослитом. В ходе разговора звучит сожаление Краусс, что понятие медиума в нынешней реальности растворяется, она настаивает на том, что «без логики медиума искусство рискует превратиться в китч», и трактует медиум как «источник правил, которые направляют работу, но и ограничивают ее и в конечном счете возвращают произведение к анализу этих правил как таковых». На что Бенджамин Бухло справедливо замечает: «Возможность сохранения модернистских практик не определяется волевыми решениями внутри культурной сферы. Не во власти критиков, историков, даже самих художников решать, что достижимо в эстетической области, а что нет, в противном случае художественная практика превращается в какую-то резервацию, пространство самосохранения» [7]. Характерно, что в книге абсолютно игнорируется интернет-искусство — теоретики упорно держатся за модернистскую парадигму, в которой за основу мышления взята гегельянская диалектика.
Не во власти критиков, историков, даже самих художников решать, что достижимо в эстетической области, а что нет, в противном случае художественная практика превращается в какую-то резервацию, пространство самосохранения» [7]. Характерно, что в книге абсолютно игнорируется интернет-искусство — теоретики упорно держатся за модернистскую парадигму, в которой за основу мышления взята гегельянская диалектика.
В эпоху «веб 2.0» феномен мема показывает, что какая угодно картинка может иллюстрировать какую угодно идею.
Между тем интернет и компьютерные технологии совершили исторический переворот в отношении медиальности: отныне любое техническое устройство по необходимости оказывается ассамбляжем. Разумеется, в медиатеории, рассказанной Режи Дебре и Маршаллом Маклюэном, можно найти немало примеров того, как в одном медиуме содержатся следы другого, но с распространением компьютерных технологий это становится частью нашей повседневности. Мы постоянно взаимодействуем с устройствами, опосредованными интерфейсами. Цифровое складывается из совокупного опыта как существующих в физическом мире условностей и установок, пребывающих в виртуальном пространстве в качестве собственных призрачных двойников, так и специфических правил, созданных для виртуальной активности (например, вводятся особые жесты — скроллинг, свайп и т.п.) Как точно замечает Александр Гэллоуэй, «существование интерфейса внутри медиального средства важно потому, что показывает неявное наличие внешнего во внутреннем. А “внешнее” всего лишь означает довольно специфическую вещь — социальное. <…> если недиегетическое занимает центральное место, можно быть уверенным, что “внешнее”, то есть социальное, вплетается в ткань эстетического основательнее, чем в предшествующие периоды» [8]. Миметическое изначально заложено в интерфейс — он стремится напомнить о знакомом объекте, но не посредством буквального копирования, а через обращение к метонимии. И что не менее важно — миметическое здесь является функциональным: изображение кнопки отсылает к физической кнопке, имея в виду ее назначение.
Мы постоянно взаимодействуем с устройствами, опосредованными интерфейсами. Цифровое складывается из совокупного опыта как существующих в физическом мире условностей и установок, пребывающих в виртуальном пространстве в качестве собственных призрачных двойников, так и специфических правил, созданных для виртуальной активности (например, вводятся особые жесты — скроллинг, свайп и т.п.) Как точно замечает Александр Гэллоуэй, «существование интерфейса внутри медиального средства важно потому, что показывает неявное наличие внешнего во внутреннем. А “внешнее” всего лишь означает довольно специфическую вещь — социальное. <…> если недиегетическое занимает центральное место, можно быть уверенным, что “внешнее”, то есть социальное, вплетается в ткань эстетического основательнее, чем в предшествующие периоды» [8]. Миметическое изначально заложено в интерфейс — он стремится напомнить о знакомом объекте, но не посредством буквального копирования, а через обращение к метонимии. И что не менее важно — миметическое здесь является функциональным: изображение кнопки отсылает к физической кнопке, имея в виду ее назначение. При этом дизайн современного интерфейса мобильного или веб-приложения принято делать «нейтральным», «незаметным», то есть его миметическая природа скрывается. Эта двойственность цифрового изображения является существенной: виртуальность парадоксальным образом приводит нас к новому материализму, акцентируя наше внимание на связях между объектами и подвижной границе между «новым» и «старым», контексте против автономности.
При этом дизайн современного интерфейса мобильного или веб-приложения принято делать «нейтральным», «незаметным», то есть его миметическая природа скрывается. Эта двойственность цифрового изображения является существенной: виртуальность парадоксальным образом приводит нас к новому материализму, акцентируя наше внимание на связях между объектами и подвижной границе между «новым» и «старым», контексте против автономности.
Компьютерный интерфейс обеспечивает перевод между двумя (языковыми) средами. Гэллоуэй сравнивает интерфейс с «пограничным состоянием», где отличить «раму» от «фона» предельно сложно. «Иными словами, интерфейс — это не вещь, интерфейс — это эффект. Это всегда процесс или перевод. Или как у Дагоне — плодотворная связь» [9]. Если говорить о социальном измерении, интерфейс (мобильного устройства или социальной сети) реструктурирует наше понимание частного и публичного: я понимаю под «частным» скорее локальное, а под «публичным» — общедоступное, или иначе — видимое и скрытое, между которыми существует ряд градаций, определяющих уровень доступа к данным. По мере того как биологическое и социальное тело индивида становится информацией, отделяясь от референта и превращаясь в предмет обмена, материя понимается как то, что позволяет связывать эффекты тела воедино. Пытаясь зафиксировать современное состояние визуальной культуры, теоретики вводят такие понятия, как «гиперматериальность», «неоматериальность» и «постцифровое». Так, Кристин Пол, куратор отдела новых медиа в Музее американского искусства Уитни, обозначает присутствие цифрового в объектах, картинках и структурах, с которыми мы ежедневно взаимодействуем, словом «неоматериальность» [10]. А французский философ и антрополог Бернар Стиглер утверждает, что не существует ничего нематериального. Он говорит о «гиперматериальности», определяя ее следующим образом: «это комплекс энергии и информации, где уже невозможно отличить материю от формы. <…> процесс, в котором информация — представленная в той или иной форме — является в реальности последовательностью состояний материи, созданной материалами и аппаратами» [11].
По мере того как биологическое и социальное тело индивида становится информацией, отделяясь от референта и превращаясь в предмет обмена, материя понимается как то, что позволяет связывать эффекты тела воедино. Пытаясь зафиксировать современное состояние визуальной культуры, теоретики вводят такие понятия, как «гиперматериальность», «неоматериальность» и «постцифровое». Так, Кристин Пол, куратор отдела новых медиа в Музее американского искусства Уитни, обозначает присутствие цифрового в объектах, картинках и структурах, с которыми мы ежедневно взаимодействуем, словом «неоматериальность» [10]. А французский философ и антрополог Бернар Стиглер утверждает, что не существует ничего нематериального. Он говорит о «гиперматериальности», определяя ее следующим образом: «это комплекс энергии и информации, где уже невозможно отличить материю от формы. <…> процесс, в котором информация — представленная в той или иной форме — является в реальности последовательностью состояний материи, созданной материалами и аппаратами» [11].
Дизайн современного интерфейса мобильного или веб-приложения принято делать «нейтральным», «незаметным», то есть его миметическая природа скрывается.
Термин «постцифровое» был впервые использован музыкантом Кимом Касконе в контексте современной электронной музыки. А в 2000 году австралийский саунд- и медиахудожник Ян Эндрюс использовал это слово в расширительном значении, имея в виду под «постцифровой эстетикой» отрицание «идеи цифрового прогресса», так же как и телеологического движения в сторону «идеальной» репрезентации.
Теоретик искусства Флориан Крамер выделяет несколько основных характеристик «постцифрового» [12]:
1) постцифровое = постколониальное; постцифровое ≠ постисторическое;
2) термин «постцифровое» описывает состояние медиа, искусства и дизайна после их оцифровки;
3) постцифровое = гибридизация «старых» и «новых» медиа;
4) постцифровое = «старые» медиа используются как «новые»;
5) DIY против корпоративности.
Один из самых интересных проектов, связанных с осмыслением новой материальности, был представлен в 2014 году Саймоном Денни — выставка The Personal Effects of Kim Dotcom представляла собой физическую репрезентацию вещей, конфискованных ФБР у Кима Доткома — основателя веб-сайтов Megaupload и Megavideo, специализировавшихся на шеринге цифровых файлов. Инсталляция состояла из 110 объектов, включая банковские счета, дорогие автомобили, произведения искусства, телевизоры, компьютерные серверы, видеокамеры и доменные имена. Часть из них была представлена в виде изображений, рядом с «настоящими» телевизорами стояли деревянные, некоторые объекты были представлены в виде уменьшенных копий. Денни превратил экспозицию в карнавал репрезентаций.
Саймон Денни. The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun Waugh
Другой остроумный проект, посвященный запутанным отношениям между физическим и виртуальным измерениями, сделал в 2013 году Сильвио Лоруссо — «Гранд-тур по дата-центрам». Художник покупал доменные имена и хостинги в разных странах по всему миру, затем делал веб-страницу, на которой транслировалось изображение со спутника реального места на карте, где и хранились данные. Каждая страница содержала ссылку на другую, составляя своеобразное виртуальное кругосветное путешествие по дата-центрам.
Художник покупал доменные имена и хостинги в разных странах по всему миру, затем делал веб-страницу, на которой транслировалось изображение со спутника реального места на карте, где и хранились данные. Каждая страница содержала ссылку на другую, составляя своеобразное виртуальное кругосветное путешествие по дата-центрам.
Сетевая структура означает не только изменение отношений между физическими объектами и их репрезентациями, между различными институциями и субъектами — сеть трансформирует само понятие социального: отныне оно включает в себя живое и неживое, природное и технологическое. Природные факторы, вирусы или транспортные сети вместе составляют многослойную и многоуровневую систему. Ключевым предметом изучения сетевой культуры становится обнаружение связей и способов взаимодействия между различными слоями и акторами. Или, иначе говоря, проблема сосуществования, сочетания. Именно изучением этой проблемы и занимается новый материализм, рассматривая материал как средство, с помощью которого связываются различные аспекты и измерения жизни — физическое, социальное, химическое и другие.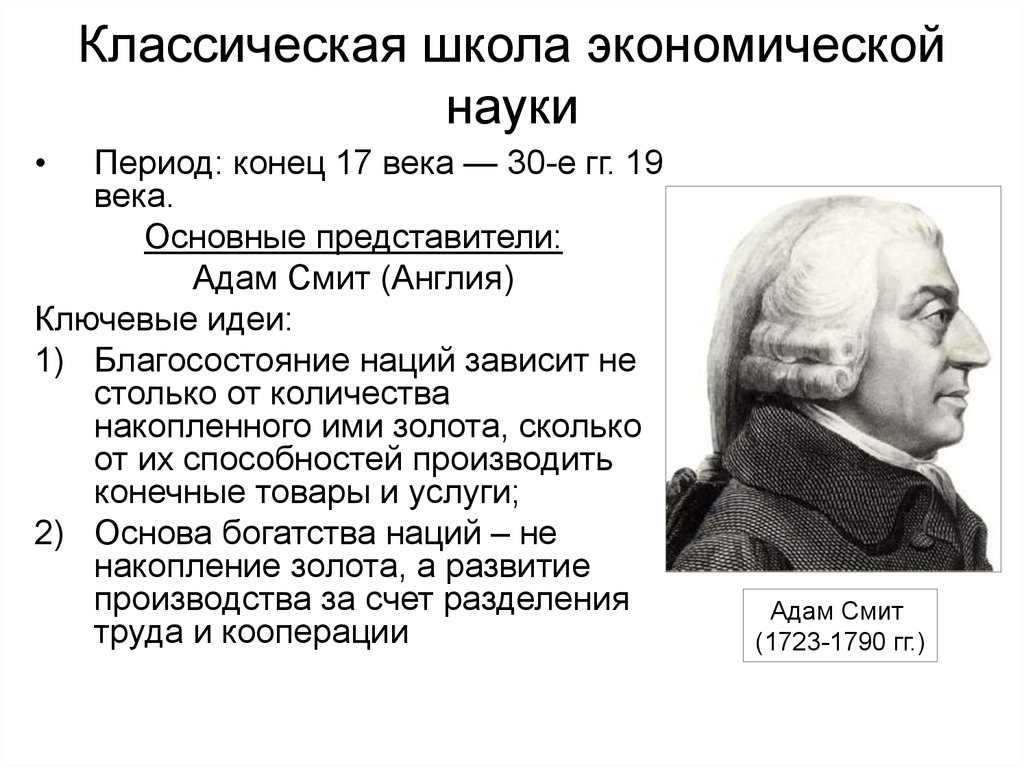
На пересечении возможностей: теория нового материализма
Мануэль ДеЛанда и Рози Брайдотти — независимо друг от друга — впервые стали использовать термин «новый материализм» во второй половине 1990-х. Новый материализм отчасти базируется на идеях Феликса Гваттари, Жиля Делеза и Мишеля Фуко (а также теории Джудит Батлер) и ставит своей главной задачей преодоление дуалистического мышления. Айрис ван дер Тюн и Рик Долфийн говорят о радикальной открытости — здесь нет места детерминистскому взгляду. ДеЛанда строит свою теорию на понятии «генеративной материи» — для него материя не является оппозицией означающего, а напротив, одновременно включает в себя и объект, и его репрезентацию. Философ также заимствует понятие трансверсальности у Гваттари, который, впервые применив этот термин в 1964 году, указывал на «микрополитическую» природу трансверсальности, открывавшую иное прочтение «нового» — не основанное на критике «старого», а ставившее под вопрос критический аппарат, поддерживавший подобную логику.
Теоретики нового материализма утверждают, что модернистская естественная наука и постмодернистская культурная теория обе суть гуманизм. Брайдотти вводит в своей работе термин «постгуманистический субъект», стремясь выйти за рамки как позитивизма, так и постмодернизма. Она отмечает, что новый материализм возникает как развитие феминистской теории; являя собой «метод, концептуальную рамку и политический взгляд, отрицающий лингвистическую парадигму, выдвигая на первый план непосредственную и сложную материальность тел, погруженных в социальное, участвующих во властных отношениях». Вместо понятия «взаимодействие» она вслед за Карен Барад употребляет неологизм «внутри-действие» (intra—action). Для Барад предметом изучения становится не природа, а наше участие в природе. Она говорит о внутри-действии наблюдателя, наблюдаемого и инструментов наблюдения, каждый из которых наделен агентностью. Вики Кирби интересует буквальность материи, она перечитывает Жака Деррида и Фердинанда де Соссюра, выделяя в их текстах концепцию материальности-в-становлении. В работах Кирби материя предстает не столько тем, о чем говорят или с помощью чего производят высказывание, сколько тем, что само по себе является говорящим. Природа и культура, слово и плоть находятся в поле дифференциаций, где не существует как такового финального внешнего воплощения. Ложный дуализм должен быть преодолен. Новый материализм возникает на пересечении постмодернистской и модернистской парадигм, показывая, что обе эпистемологии начинаются с дихотомии «репрезентация/материальность» [13].
В работах Кирби материя предстает не столько тем, о чем говорят или с помощью чего производят высказывание, сколько тем, что само по себе является говорящим. Природа и культура, слово и плоть находятся в поле дифференциаций, где не существует как такового финального внешнего воплощения. Ложный дуализм должен быть преодолен. Новый материализм возникает на пересечении постмодернистской и модернистской парадигм, показывая, что обе эпистемологии начинаются с дихотомии «репрезентация/материальность» [13].
Теоретики нового материализма утверждают, что модернистская естественная наука и постмодернистская культурная теория обе суть гуманизм.
Юсси Парикка — один из организаторов конференции «Новые материализмы и цифровая культура», впервые состоявшейся в 2010 году, — выделяет несколько основных аспектов теории. Первый — это фокус на нонрепрезентативном, на жизни и активности тела, не ограниченного материальностью. Второй — это то, как новая материальность соотносится с новыми медиа и цифровыми технологиями. Парикка замечает, что материя не является инертной, она постоянно меняется, или, по выражению Джейн Беннет, «вибрирует». В своей книге «Геология медиа» Парикка рассматривает медиатеорию с позиции материальности. Его исследование находится между естественными науками, искусством и изучением окружающей среды — вернее, оно посвящено их взаимному влиянию. Его интересует, как машинное соотносится с более фундаментальными запросами материи — когда материя предшествует агентности, как человеческой, так и технической [14].
Парикка замечает, что материя не является инертной, она постоянно меняется, или, по выражению Джейн Беннет, «вибрирует». В своей книге «Геология медиа» Парикка рассматривает медиатеорию с позиции материальности. Его исследование находится между естественными науками, искусством и изучением окружающей среды — вернее, оно посвящено их взаимному влиянию. Его интересует, как машинное соотносится с более фундаментальными запросами материи — когда материя предшествует агентности, как человеческой, так и технической [14].
Неопределенность здесь не равняется нерешительности или безразличию. Скорее это потенциальность и процессуальность. Все подлежит постоянному пересмотру. Однако этот самый пересмотр требует активности. Различия не даны изначально, они постоянно производятся, обнаруживаются, трансформируются. Проект нового материализма превращает фактически любое действие в кропотливый труд по переписыванию модернистского и постмодернистского мира. Это утопический (но и реалистический) проект с отложенным горизонтом.
Согласно одной из теорий политического, теории Карла Шмитта, мы имеем дело с политическим, когда у нас есть друзья и враги. Иными словами, политика как практика всегда базируется на дуализме. И риторику, построенную на этом принципе, мы можем наблюдать повсеместно и ежедневно. Отсюда вопрос — какое место может занять теория нового материализма в мире, где невозможно уйти от бинарных оппозиций? Возможно, пора переосмыслить концепцию особого положения искусства: что, если перестать понимать автономию искусства в терминах топологии и хронологии — как пространство невовлеченности в практику жизнедеятельности и одновременно как приостановку действия? Что, если помыслить искусство не как локус исключения, а как процесс подключений к различным дискурсам и практикам, инициирования точек пересечений и трассировки разветвляющихся маршрутов между ними? Тогда задача художника состоит в том, чтобы смещать акценты, менять ракурсы, с помощью которых мы смотрим на вещи. Тогда, как в одной из серий «Рика и Морти», художнику следует пройти через цепочку путешествий в машине времени, на каждом из временных отрезков совершить интервенцию и ускользнуть, для того чтобы иметь возможность вернуться в современность. Нужно иметь двадцать рук и семь голов. И понимать, что ни одна из них не может претендовать на аутентичность.
Нужно иметь двадцать рук и семь голов. И понимать, что ни одна из них не может претендовать на аутентичность.
[1] Сеннет Р. Падение публичного человека. — М.: Логос, 2003, с. 28.
[2] Там же, с. 35.
[3] Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. — М.: Прогресс-Традиция, 2004.
[4] Vision and Visuality. Ed. Hal Foster, Dia Art Foundation, 1988, с. 51—52.
[5] Искусство после 1900 года. — М.: Ad Marginem, 2005, с. 473.
[6] Там же, с. 494—500.
[7] Там же, с. 775—777.
[8] Гэллоуэй А. Неработающий интерфейс / Медиа: между магией и технологией. Под ред. Нины Сосны. — М.: Кабинетный ученый, 2014.
[9] Там же.
[10] From Immateriality to Neomateriality: Art and the Conditions of Digital Materiality.
[11] Stiegler B. Economie de l’Hypermatériel et Psychopouvoir. — Paris: Mille et une Nuits, 2009.
Economie de l’Hypermatériel et Psychopouvoir. — Paris: Mille et une Nuits, 2009.
[12] Cramer F. What is «Post-digital»?
[13] Dolphijn R. and van der Tuin I. New Materialism: Interviews & Cartographies. — Ann Arbor: MPublishing — University of Michigan Library, 2012.
[14] Janneke Adema. New Materialism and/or Post-Structuralism.
Понравился материал? Помоги сайту!
Тест
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
новости
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости
Новое в разделе «Искусство»Самое читаемое
Два мела на голубой бумаге
39575
Штрихкод березовой рощи и щебет искусственных птиц
33051
Тяжба о пенсии
11698
Протекающий контраст
11451
Темные лучи
10915
Против иллюстрации
12557
«Вместе с ковидом вернулось ощущение брежневского карантина»
12155
Марш микробов
13923
Воображать технологически
12373
Без пыли
18224
«Нужны картины с оттенком гражданской скорби»
19531
Проявленные светом
16847
Сегодня на сайте
Colta SpecialsОт редакции COLTA.
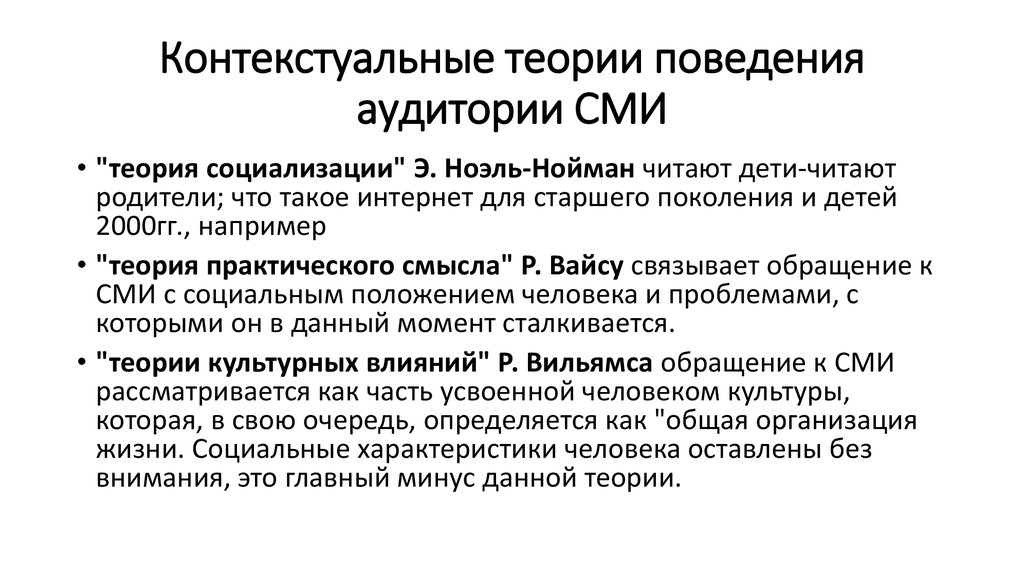 RU
RU Обращение к читателям
5 марта 202291962
Colta SpecialsКультура во время «военных операций»
Нужны ли сейчас стихи, выставки и концерты? Блиц-опрос COLTA.RU
3 марта 202283322
ОбществоПочему вина обездвиживает, и что должно прийти ей на смену?
Философ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию
1 марта 202271395
ОбществоРодина как утрата
Глеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины
1 марта 202251038
ЛитератураOften you write das Leid but read das Lied
Англо-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец
1 марта 202248864
ОбществоПисьмо из России
Надя Плунгян пишет из России в Россию
1 марта 202261709
Colta SpecialsПолифонические свидетели конца и начала.
 Эссе Ганны Комар
Эссе Ганны Комар В эти дни Кольта продолжает проект, посвященный будущему Беларуси
1 марта 202243273
ТеатрСлучайность и неотвратимость
Зара Абдуллаева о «Русской смерти» Дмитрия Волкострелова в ЦИМе
22 февраля 202236359
Литература«Меня интересуют второстепенные женские персонажи в прозе, написанной мужчиной»
Милена Славицка: большое интервью
22 февраля 202236284
ОбществоАрхитектурная история американской полиции
Глава из новой книги Виктора Вахштайна «Воображая город. Введение в теорию концептуализации»
22 февраля 202235701
ОбществоВиктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах»
Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока
22 февраля 202245514
ИскусствоДва мела на голубой бумаге
Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus
21 февраля 202239575
Искусство как подражание реферат по искусству и культуре | Сочинения Изобразительное искусство
Скачай Искусство как подражание реферат по искусству и культуре и еще Сочинения в формате PDF Изобразительное искусство только на Docsity! Cодержание Введение I. Понятие искусства. Классификация. Историческое развитие II. Искусство как подражание Заключение Список литературы 2 Введение Исторически первым опытом рассмотрения художественного творчества как познания явилась теория подражания (мимесиса), возникшая и упрочившаяся в Древней Греции. Первоначально подражанием называли воссоздание человеческих движений в танцах, позже – любое воспроизведение предметов. По словам Аристотеля, люди тем «отличаются от остальных живых существ, что склонное всех к подражанию». Подражание, по Аристотелю, составляет сущность и цель поэзии, которая воссоздает предметы на началах их сходства с реально существующими. Данная работа состоит из двух глав, введения, заключения и списка литературы. В первой главе мы дадим определение понятию «искусство», приведём классификацию искусства по разным основаниям, остановимся кратко на историческом развитии искусства. Во второй главе рассмотрим искусство как подражание, обратимся к истории концепции сущности искусства как подражания, определим современное состояние вопроса.
Понятие искусства. Классификация. Историческое развитие II. Искусство как подражание Заключение Список литературы 2 Введение Исторически первым опытом рассмотрения художественного творчества как познания явилась теория подражания (мимесиса), возникшая и упрочившаяся в Древней Греции. Первоначально подражанием называли воссоздание человеческих движений в танцах, позже – любое воспроизведение предметов. По словам Аристотеля, люди тем «отличаются от остальных живых существ, что склонное всех к подражанию». Подражание, по Аристотелю, составляет сущность и цель поэзии, которая воссоздает предметы на началах их сходства с реально существующими. Данная работа состоит из двух глав, введения, заключения и списка литературы. В первой главе мы дадим определение понятию «искусство», приведём классификацию искусства по разным основаниям, остановимся кратко на историческом развитии искусства. Во второй главе рассмотрим искусство как подражание, обратимся к истории концепции сущности искусства как подражания, определим современное состояние вопроса. При работе над рефератом были использованы учебные пособия («Теория литературы» В.Е. Хализева, «Эстетика» Ю.Б. Борева и «Эстетика» В.В. Бычкова), энциклопедические издания («Энциклопедия Кругосвет», БСЭ и др.), а так же труды Аристотеля («Поэтика») и Г.-Г. Гадамера («Актуальность прекрасного»). в борьбе за освобождение человека. Русские революционные мыслители видели в искусстве «учебник жизни» и высоко ценили его функцию быть «приговором» явлениям действительности. Художественный образ часто понимается как часть или компонент произведения искусства. Но художественный образ можно понимать и как способ бытия произведения искусства, взятого в целом. В этом случае имеется в виду выразительность произведения, его впечатляющее воздействие, энергетическое и смысловое, на зрителя или слушателя. Неразрывная связь художественного смысла с материальным, чувственным воплощением отличает художественный образ от научного понятия, абстрактной мысли. Художественный образ коммуникативен по своей природе.
При работе над рефератом были использованы учебные пособия («Теория литературы» В.Е. Хализева, «Эстетика» Ю.Б. Борева и «Эстетика» В.В. Бычкова), энциклопедические издания («Энциклопедия Кругосвет», БСЭ и др.), а так же труды Аристотеля («Поэтика») и Г.-Г. Гадамера («Актуальность прекрасного»). в борьбе за освобождение человека. Русские революционные мыслители видели в искусстве «учебник жизни» и высоко ценили его функцию быть «приговором» явлениям действительности. Художественный образ часто понимается как часть или компонент произведения искусства. Но художественный образ можно понимать и как способ бытия произведения искусства, взятого в целом. В этом случае имеется в виду выразительность произведения, его впечатляющее воздействие, энергетическое и смысловое, на зрителя или слушателя. Неразрывная связь художественного смысла с материальным, чувственным воплощением отличает художественный образ от научного понятия, абстрактной мысли. Художественный образ коммуникативен по своей природе. Его смысл, составляющий содержание художественного образа, создается художником в расчете на то, что он будет передан, доступен другим. Духовное содержание художественного образа может быть трагичным, комичным и т.п., но впечатление от его знаковой материальной формы представляет собой всегда в полноценном искусстве переживание прекрасного, красоты. Знаковая форма настроена ещё и на эстетическую функцию. Она имеет завершенную, законченную гармоническую структуру. Гармоническая структура формы — универсальная черта художественного образа. Важнейшим фактором удержания внимания в процессе восприятия художественного образа является сотворчество воспринимающего. Сотворчество держит внимание воспринимающего в творческом напряжении. Художественный образ в качестве художественного символа выступает не только своей вещественной, знаковой стороной, но и своим идеальным, духовным, содержательным аспектом. Художественный образ всегда образ чего-то, он наделен значением. В качестве символа художественный образ принципиально обладает неисчерпаемой многозначностью, смысловой глубиной и перспективой.
Его смысл, составляющий содержание художественного образа, создается художником в расчете на то, что он будет передан, доступен другим. Духовное содержание художественного образа может быть трагичным, комичным и т.п., но впечатление от его знаковой материальной формы представляет собой всегда в полноценном искусстве переживание прекрасного, красоты. Знаковая форма настроена ещё и на эстетическую функцию. Она имеет завершенную, законченную гармоническую структуру. Гармоническая структура формы — универсальная черта художественного образа. Важнейшим фактором удержания внимания в процессе восприятия художественного образа является сотворчество воспринимающего. Сотворчество держит внимание воспринимающего в творческом напряжении. Художественный образ в качестве художественного символа выступает не только своей вещественной, знаковой стороной, но и своим идеальным, духовным, содержательным аспектом. Художественный образ всегда образ чего-то, он наделен значением. В качестве символа художественный образ принципиально обладает неисчерпаемой многозначностью, смысловой глубиной и перспективой. Содержание художественного символа, как и всякого символа, заключает в себе обязательно какую-то идею, то есть интеллектуальный, понятийный момент. Это значит, что художественный образ, будучи индивидуально конкретен и уникален, в то же время несет в себе всегда обобщение и абстрактность. Но в отличие от понятия, например, в науке, обобщение и абстрактность в художественном символе дается не мыслительно — рассудочно (дискурсивно), а интуитивно — непосредственно. Искусство можно классифицировать по разным основаниям, следуя различным принципам классификации. Рассматривая материальное бытие художественной формы, различают искусство пространственные (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, архитектура), временные (музыка, словесное искусство) и синтетические, пространственно-временные (театр, кино, танец). Каждое из этих видов образует «семейства» искусства внутри которых можно выделить разновидности или роды. Так, например, в пространственных исскуствах выделяют три рода: станковые (станковая живопись, станковая графика и т.
Содержание художественного символа, как и всякого символа, заключает в себе обязательно какую-то идею, то есть интеллектуальный, понятийный момент. Это значит, что художественный образ, будучи индивидуально конкретен и уникален, в то же время несет в себе всегда обобщение и абстрактность. Но в отличие от понятия, например, в науке, обобщение и абстрактность в художественном символе дается не мыслительно — рассудочно (дискурсивно), а интуитивно — непосредственно. Искусство можно классифицировать по разным основаниям, следуя различным принципам классификации. Рассматривая материальное бытие художественной формы, различают искусство пространственные (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, архитектура), временные (музыка, словесное искусство) и синтетические, пространственно-временные (театр, кино, танец). Каждое из этих видов образует «семейства» искусства внутри которых можно выделить разновидности или роды. Так, например, в пространственных исскуствах выделяют три рода: станковые (станковая живопись, станковая графика и т. п.), монументальные (монументальная скульптура, стенная живопись и др.) и прикладные (типовая массовая архитектура, малая пластика, миниатюрная живопись, промышленная графика, плакат и др.). В словесно-временных искусствах различают три рода: эпос (роман, поэма и др.), лирика (стихотворения и др.) и драма (различные пьесы и др.). С точки зрения теории знаков, в которых воплощается и с помощью которых сообщается художественный образ зрителям и слушателям, искусства бывают изобразительные (живопись, графика, скульптура и др.), выразительные (музыка, танец, архитектура и др.) и словесные (литература), а также смешанные, синтетические (театр, кино и др.). Виды и роды искусства в свою очередь включают в себя различные типы произведений на основании устойчивых общих черт. Эти типы называются жанрами. Наиболее распространенным принципом выделения различных жанров является тематический, на основе области действительности, отражаемой в произведении (бытовой, авантюрный, исторический, любовный, батальный, натюрморт, портрет, пейзаж и т.
п.), монументальные (монументальная скульптура, стенная живопись и др.) и прикладные (типовая массовая архитектура, малая пластика, миниатюрная живопись, промышленная графика, плакат и др.). В словесно-временных искусствах различают три рода: эпос (роман, поэма и др.), лирика (стихотворения и др.) и драма (различные пьесы и др.). С точки зрения теории знаков, в которых воплощается и с помощью которых сообщается художественный образ зрителям и слушателям, искусства бывают изобразительные (живопись, графика, скульптура и др.), выразительные (музыка, танец, архитектура и др.) и словесные (литература), а также смешанные, синтетические (театр, кино и др.). Виды и роды искусства в свою очередь включают в себя различные типы произведений на основании устойчивых общих черт. Эти типы называются жанрами. Наиболее распространенным принципом выделения различных жанров является тематический, на основе области действительности, отражаемой в произведении (бытовой, авантюрный, исторический, любовный, батальный, натюрморт, портрет, пейзаж и т. д.). Другим основанием деления может выступать ведущая эстетически- эмоциональная доминанта (трагедия, комедия, фарс, мелодрама, ода и др.), тип композиции (сонет, рондо, триптих и т.д.) или объем и общая структура произведения (роман, повесть, рассказ, миниатюра, эпопея и др.). Жанры исторически формируются, развиваются, отмирают. В разные эпохи и в разных художественных направлениях границы между жанрами бывают более строгими (например в классицизме), в других — менее (романтизм) или даже условными (реализм). В современном искусстве наблюдается тенденция отрицания жанра как устойчивой формы художественного творчества (постмодернизм). В теории искусства встречаются классификации искусств с точки зрения тех социальных функций, которые они выполняют. Различают искусства и псевдоискусства. Например, различает шесть видов «псевдоискусств». Во-первых, искусство как развлечение. Для него характерны «иллюзия», «игра», но в то же время оно утилитарно. Примеры этого псевдоискусства — порнография, история ужасов, детективные истории.
д.). Другим основанием деления может выступать ведущая эстетически- эмоциональная доминанта (трагедия, комедия, фарс, мелодрама, ода и др.), тип композиции (сонет, рондо, триптих и т.д.) или объем и общая структура произведения (роман, повесть, рассказ, миниатюра, эпопея и др.). Жанры исторически формируются, развиваются, отмирают. В разные эпохи и в разных художественных направлениях границы между жанрами бывают более строгими (например в классицизме), в других — менее (романтизм) или даже условными (реализм). В современном искусстве наблюдается тенденция отрицания жанра как устойчивой формы художественного творчества (постмодернизм). В теории искусства встречаются классификации искусств с точки зрения тех социальных функций, которые они выполняют. Различают искусства и псевдоискусства. Например, различает шесть видов «псевдоискусств». Во-первых, искусство как развлечение. Для него характерны «иллюзия», «игра», но в то же время оно утилитарно. Примеры этого псевдоискусства — порнография, история ужасов, детективные истории. Второй вид псевдоискусства — искусство, как «магия», это — религиозное искусство, инструментальная музыка военных и танцевальных оркестров и др. Остальные четыре разновидности — это искусство, как «загадка», когда стимулируются интеллектуальные способности ради их упражнения, как «инструкция» типа рекламы или пропаганды, как «проповедь». Первоначально искусство было вплетено в синкретическую (нерасчлененную) форму деятельности, соединяющую в себе труд и магические действия, имеющие религиозный смысл. Если наскальные рисунки и фигурки зверей и женщин, относящиеся к эпохе верхнего палеолита (каменного века), считать древнейшими памятниками прекрасного и коммерческого в искусстве. Каждое художественное произведение должно намекать на другие произведения и комментировать их. В постмодернизме отразилась вся сложность и многообразие современной культуры западного мира (новые средства коммуникации, интернет, красочность и динамика современной среды и т.п.). Одновременно ему часто свойственна стилистическая анархия и поверхностная манерность.
Второй вид псевдоискусства — искусство, как «магия», это — религиозное искусство, инструментальная музыка военных и танцевальных оркестров и др. Остальные четыре разновидности — это искусство, как «загадка», когда стимулируются интеллектуальные способности ради их упражнения, как «инструкция» типа рекламы или пропаганды, как «проповедь». Первоначально искусство было вплетено в синкретическую (нерасчлененную) форму деятельности, соединяющую в себе труд и магические действия, имеющие религиозный смысл. Если наскальные рисунки и фигурки зверей и женщин, относящиеся к эпохе верхнего палеолита (каменного века), считать древнейшими памятниками прекрасного и коммерческого в искусстве. Каждое художественное произведение должно намекать на другие произведения и комментировать их. В постмодернизме отразилась вся сложность и многообразие современной культуры западного мира (новые средства коммуникации, интернет, красочность и динамика современной среды и т.п.). Одновременно ему часто свойственна стилистическая анархия и поверхностная манерность. Эстетический плюрализм часто сводит искусство к массовым продуктам, к образам массмедиа и его стереотипам. В постмодернистской иерархической структуре культуры искусство перестает занимать высшее место. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона дано следующее определение искусства: искусство — отрасль человеческой деятельности, стремящаяся к удовлетворению одной из духовных потребностей человека, а именно: любви к прекрасному; другими словами, искусство есть деятельность, в которой человек воспроизводит природу так, как она воспринята его внешними и внутренними чувствами, и притом во всей ее полноте, «очищенную от всего случайного». II. Искусство как подражание 0 3 0 1Мимесис (греч. μίμησις — подобие, воспроизведение, подражание) — категория эстетики, один из основополагающих компонентов искусства в целом. Мимесис является своего рода основой творческого процесса классического искусства, обусловленной стремлением автора подражать явлениям и феноменам природы, либо чистым идеям (в формулировке Платона) явлений и феноменов.
Эстетический плюрализм часто сводит искусство к массовым продуктам, к образам массмедиа и его стереотипам. В постмодернистской иерархической структуре культуры искусство перестает занимать высшее место. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона дано следующее определение искусства: искусство — отрасль человеческой деятельности, стремящаяся к удовлетворению одной из духовных потребностей человека, а именно: любви к прекрасному; другими словами, искусство есть деятельность, в которой человек воспроизводит природу так, как она воспринята его внешними и внутренними чувствами, и притом во всей ее полноте, «очищенную от всего случайного». II. Искусство как подражание 0 3 0 1Мимесис (греч. μίμησις — подобие, воспроизведение, подражание) — категория эстетики, один из основополагающих компонентов искусства в целом. Мимесис является своего рода основой творческого процесса классического искусства, обусловленной стремлением автора подражать явлениям и феноменам природы, либо чистым идеям (в формулировке Платона) явлений и феноменов. Уже с античности европейская философская мысль достаточно ясно показала, что основу искусства как особой человеческой деятельности составляет мимесис — специфическое и разнообразное подражание (хотя это русское слово не является адекватным переводом греческого, поэтому в дальнейшем мы чаще, что и принято в эстетике, будем пользоваться греческим термином без перевода). Исходя из того что все искусства основываются на мимесисе, самую сущность этого понятия мыслители античности истолковывали по-разному. Пифагорейцы полагали, что музыка подражает «гармонии небесных сфер»; Демокрит был убежден, что искусство в широком его понимании (как продуктивная творческая деятельность человека) происходит от подражания человека животным (ткачество от подражания пауку, домостроительство — ласточке, пение — птицам и т.п.). Более подробно теория мимесиса была разработана Платоном и Аристотелем. При этом термин «мимесис» наделялся ими широким спектром значений, Платон считал, что подражание составляет основу всякого творчества.
Уже с античности европейская философская мысль достаточно ясно показала, что основу искусства как особой человеческой деятельности составляет мимесис — специфическое и разнообразное подражание (хотя это русское слово не является адекватным переводом греческого, поэтому в дальнейшем мы чаще, что и принято в эстетике, будем пользоваться греческим термином без перевода). Исходя из того что все искусства основываются на мимесисе, самую сущность этого понятия мыслители античности истолковывали по-разному. Пифагорейцы полагали, что музыка подражает «гармонии небесных сфер»; Демокрит был убежден, что искусство в широком его понимании (как продуктивная творческая деятельность человека) происходит от подражания человека животным (ткачество от подражания пауку, домостроительство — ласточке, пение — птицам и т.п.). Более подробно теория мимесиса была разработана Платоном и Аристотелем. При этом термин «мимесис» наделялся ими широким спектром значений, Платон считал, что подражание составляет основу всякого творчества. Поэзия, например, может подражать истине и благу. Однако обычно искусства ограничиваются подражанием предметам или явлениям материального мира, и в этом Платон усматривал их ограниченность и несовершенство, ибо сами предметы видимого мира он понимал лишь как слабые «тени» (или подражания) мира идей. Собственно эстетическая концепция мимесиса принадлежит Аристотелю. Она включает в себя и адекватное отображение действительности (изображение вещей такими, «как они были или есть»), и деятельность творческого воображения (изображение их такими, «как о них говорят и думают»), и идеализацию действительности (изображение их такими, «какими они должны быть»). В зависимости от творческой задачи художник может сознательно или идеализировать, возвысить своих героев (как поступает трагический поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что присуще авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, — приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения, созерцания и познавания предмета.
Поэзия, например, может подражать истине и благу. Однако обычно искусства ограничиваются подражанием предметам или явлениям материального мира, и в этом Платон усматривал их ограниченность и несовершенство, ибо сами предметы видимого мира он понимал лишь как слабые «тени» (или подражания) мира идей. Собственно эстетическая концепция мимесиса принадлежит Аристотелю. Она включает в себя и адекватное отображение действительности (изображение вещей такими, «как они были или есть»), и деятельность творческого воображения (изображение их такими, «как о них говорят и думают»), и идеализацию действительности (изображение их такими, «какими они должны быть»). В зависимости от творческой задачи художник может сознательно или идеализировать, возвысить своих героев (как поступает трагический поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что присуще авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, — приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения, созерцания и познавания предмета. Неоплатоник Плотин, углубляя идеи Платона, усматривал смысл искусств в подражании не внешнему виду, но самим визуальным идеям (эйдосам) видимых предметов, т.е. в выражении их сущностных ( = прекрасных в его эстетике) изначальных оснований. Эти идеи уже на христианской основе были переосмыслены в ХХ в. неоправославной эстетикой, особенно последовательно С. Булгаковым, как мы видели, в принцип софийности искусства. Художники античности чаще всего ориентировались на один из указанных аспектов понимания мимесиса. Так, в древнегреческой теории и практике изобразительных искусств господствовала тенденция к созданию иллюзорных изображений (например, знаменитая бронзовая «Телка» Мирона, завидев которую, быки мычали от вожделения; или изображение винограда художником Зевксидом, клевать который, согласно легенде, слетались птицы), понять которые помогают, например, поздние образцы подобной живописи, сохранившиеся на стенах домов засыпанного некогда пеплом Везувия римского города Помпеи. В целом же для эллинского изобразительного искусства характерно имплицитное понимание мимесиса как идеализаторского принципа искусства, т.
Неоплатоник Плотин, углубляя идеи Платона, усматривал смысл искусств в подражании не внешнему виду, но самим визуальным идеям (эйдосам) видимых предметов, т.е. в выражении их сущностных ( = прекрасных в его эстетике) изначальных оснований. Эти идеи уже на христианской основе были переосмыслены в ХХ в. неоправославной эстетикой, особенно последовательно С. Булгаковым, как мы видели, в принцип софийности искусства. Художники античности чаще всего ориентировались на один из указанных аспектов понимания мимесиса. Так, в древнегреческой теории и практике изобразительных искусств господствовала тенденция к созданию иллюзорных изображений (например, знаменитая бронзовая «Телка» Мирона, завидев которую, быки мычали от вожделения; или изображение винограда художником Зевксидом, клевать который, согласно легенде, слетались птицы), понять которые помогают, например, поздние образцы подобной живописи, сохранившиеся на стенах домов засыпанного некогда пеплом Везувия римского города Помпеи. В целом же для эллинского изобразительного искусства характерно имплицитное понимание мимесиса как идеализаторского принципа искусства, т. е. внесознательное следование той концепции изображения визуальных эйдосов вещей и явлений, которую только в период позднего эллинизма вербально зафиксировал Плотин. Впоследствии этой тенденции придерживались художники и теоретики искусства Возрождения и классицизма. В Средние века миметическая концепция искусства характерна для западноевропейской живописи и скульптуры, а в Византии господствует ее специфическая разновидность — символическое изображение; сам термин «мимесис» наполняется в Византии новым содержанием. У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, «неподражаемым подражанием» назван символический образ, «по контрасту» обозначающий умонепостигаемый архетип. Представление об искусстве как «зеркале» природы получает широкое развитие у мыслителей и художников Возрождения (Л. Б. Альберты, А. Дюрер и др.), впервые истолковавших принцип Подражание как принцип творчества: художник не прилагает готовую форму к материи, а сам творит все формы вещей (например, Марсилио Фичино понимает создание дома влилась в контекст «теории подражания», которая на разных этапах истории эстетики и в различных школах, направлениях, течениях понимала «подражание» (или мимесис) часто в самых разных смыслах (нередко — в диаметрально противоположных), восходящих, тем не менее к широкому антично-средневековому семантическому спектру: от иллюзорно- фотографического подражания видимым формам материальных предметов и жизненных ситуаций (натурализм, фотореализм) через условно обобщенное выражение типических образов, характеров, действий обыденной действительности (реализм в различных его формах) до «подражания» неким изначальным идеальным принципам, идеям, архетипам, недоступным непосредственному видению (романтизм, символизм, некоторые направления авангардного искусства ХХ в.
е. внесознательное следование той концепции изображения визуальных эйдосов вещей и явлений, которую только в период позднего эллинизма вербально зафиксировал Плотин. Впоследствии этой тенденции придерживались художники и теоретики искусства Возрождения и классицизма. В Средние века миметическая концепция искусства характерна для западноевропейской живописи и скульптуры, а в Византии господствует ее специфическая разновидность — символическое изображение; сам термин «мимесис» наполняется в Византии новым содержанием. У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, «неподражаемым подражанием» назван символический образ, «по контрасту» обозначающий умонепостигаемый архетип. Представление об искусстве как «зеркале» природы получает широкое развитие у мыслителей и художников Возрождения (Л. Б. Альберты, А. Дюрер и др.), впервые истолковавших принцип Подражание как принцип творчества: художник не прилагает готовую форму к материи, а сам творит все формы вещей (например, Марсилио Фичино понимает создание дома влилась в контекст «теории подражания», которая на разных этапах истории эстетики и в различных школах, направлениях, течениях понимала «подражание» (или мимесис) часто в самых разных смыслах (нередко — в диаметрально противоположных), восходящих, тем не менее к широкому антично-средневековому семантическому спектру: от иллюзорно- фотографического подражания видимым формам материальных предметов и жизненных ситуаций (натурализм, фотореализм) через условно обобщенное выражение типических образов, характеров, действий обыденной действительности (реализм в различных его формах) до «подражания» неким изначальным идеальным принципам, идеям, архетипам, недоступным непосредственному видению (романтизм, символизм, некоторые направления авангардного искусства ХХ в. ). В целом в визуальных искусствах с древнейших времен до начала ХХ в. миметический принцип был господствующим, ибо магия подражания — создания копии, подобия, визуального двойника, отображения скоропреходящих материальных предметов и явлений, стремление к преодолению времени путем увековечивания их облика в более прочных материалах искусства генетически присуща человеку. Только с появлением фотографии она стала ослабевать, и большинство направлений авангардного и модернистского искусства (см.: Раздел второй) сознательно отказываются от миметического принципа в элитарных визуальных искусствах. Он сохраняется только в массовом искусстве и консервативно-коммерческой продукции. В наиболее «продвинутых» арт-практиках ХХ в. мимесис часто вытесняется реальной презентацией самой вещи (а не ее подобия) и активизацией ее реальной энергетики, в контексте специально созданного арт-пространства или создаются симулякры — псевдо- подобия, не имеющие прототипов ни на каком уровне бытия или экзистенции.
). В целом в визуальных искусствах с древнейших времен до начала ХХ в. миметический принцип был господствующим, ибо магия подражания — создания копии, подобия, визуального двойника, отображения скоропреходящих материальных предметов и явлений, стремление к преодолению времени путем увековечивания их облика в более прочных материалах искусства генетически присуща человеку. Только с появлением фотографии она стала ослабевать, и большинство направлений авангардного и модернистского искусства (см.: Раздел второй) сознательно отказываются от миметического принципа в элитарных визуальных искусствах. Он сохраняется только в массовом искусстве и консервативно-коммерческой продукции. В наиболее «продвинутых» арт-практиках ХХ в. мимесис часто вытесняется реальной презентацией самой вещи (а не ее подобия) и активизацией ее реальной энергетики, в контексте специально созданного арт-пространства или создаются симулякры — псевдо- подобия, не имеющие прототипов ни на каком уровне бытия или экзистенции. И здесь же нарастает ностальгия по иллюзорным подражаниям. В результате в самых современных арт-проектах все большее место начинают занимать фотография (особенно старая), документальные кино — и видеообразы, документальные фонозаписи. На сегодня достаточно очевидно, что мимесис является неотъемлемой потребностью человеческой деятельности и в принципе не может быть исключен из эстетического опыта человека, какие бы исторические трансформации он ни притерпевал. И, таким образом, он остается сущностным принципом искусства, хотя в ХХ в. его диапазон значительно расширился от презентации самой вещи в качестве произведения искусства (мимесис только за счет изменения контекста функционирования вещи с обыденного на художественно- экспозиционный) до симулякра — сознательного художественного «обмана» реципиента (ироническая игра) в постмодернизме путем презентации в качестве «подражания» некоего образа, в принципе не имеющего никакого прообраза, т.е. объекта подражания. В обоих случаях принцип мимесиса практически выводится за свои смысловые границы, свидетельствуя о конце классической эстетики и классического (= миметического) искусства.
И здесь же нарастает ностальгия по иллюзорным подражаниям. В результате в самых современных арт-проектах все большее место начинают занимать фотография (особенно старая), документальные кино — и видеообразы, документальные фонозаписи. На сегодня достаточно очевидно, что мимесис является неотъемлемой потребностью человеческой деятельности и в принципе не может быть исключен из эстетического опыта человека, какие бы исторические трансформации он ни притерпевал. И, таким образом, он остается сущностным принципом искусства, хотя в ХХ в. его диапазон значительно расширился от презентации самой вещи в качестве произведения искусства (мимесис только за счет изменения контекста функционирования вещи с обыденного на художественно- экспозиционный) до симулякра — сознательного художественного «обмана» реципиента (ироническая игра) в постмодернизме путем презентации в качестве «подражания» некоего образа, в принципе не имеющего никакого прообраза, т.е. объекта подражания. В обоих случаях принцип мимесиса практически выводится за свои смысловые границы, свидетельствуя о конце классической эстетики и классического (= миметического) искусства. Сущность миметического искусства в целом составляет изоморфное (сохраняющее определенное подобие форм) отображение, или выражение с помощью образов. Искусство — это образное, т.е. принципиально невербализуемое (адекватно не передаваемое в речевых словесных конструкциях, или формально-логическим дискурсом) выражение некой смысловой реальности. Отсюда художественный образ — основная и наиболее общая форма выражения в искусстве, или основной способ художественного мышления, бытия произведения искусства. Мимесис в искусстве наиболее полно осуществляется с помощью художественных образов. Итак, придя из античности, понятие мимесиса пережило свой подлинный эстетический и художественно-политический расцвет во французском классицизме XVII и начала XVIII столетий и воздействовало оттуда на немецкий классицизм. Оно смыкалось с учением об искусстве как подражании природе. Требование, чтобы искусство не переступало границ правдоподобного, убеждение, что в совершенном художественном произведении перед нашим духовным взором выступают образы самой природы в их чистейшем проявлении, вера в идеализирующую силу искусства, придающего природе ее подлинную завершенность, — вот известные представления, входящие в термин «подражание природе».
Сущность миметического искусства в целом составляет изоморфное (сохраняющее определенное подобие форм) отображение, или выражение с помощью образов. Искусство — это образное, т.е. принципиально невербализуемое (адекватно не передаваемое в речевых словесных конструкциях, или формально-логическим дискурсом) выражение некой смысловой реальности. Отсюда художественный образ — основная и наиболее общая форма выражения в искусстве, или основной способ художественного мышления, бытия произведения искусства. Мимесис в искусстве наиболее полно осуществляется с помощью художественных образов. Итак, придя из античности, понятие мимесиса пережило свой подлинный эстетический и художественно-политический расцвет во французском классицизме XVII и начала XVIII столетий и воздействовало оттуда на немецкий классицизм. Оно смыкалось с учением об искусстве как подражании природе. Требование, чтобы искусство не переступало границ правдоподобного, убеждение, что в совершенном художественном произведении перед нашим духовным взором выступают образы самой природы в их чистейшем проявлении, вера в идеализирующую силу искусства, придающего природе ее подлинную завершенность, — вот известные представления, входящие в термин «подражание природе». Мы исключаем при этом тривиальную теорию крайнего натурализма, согласно которой весь смысл искусства в простом уподоблении природе. Она никоим образом не принадлежит к главной линии развития понятия подражания. Тем не менее, понятия мимесиса для современности, похоже, не хватает. Взгляд на историю становления эстетической теории показывает, что против понятия подражания в XVIII веке победоносно выступило и утвердилось другое понятие: понятие выражения. Яснее всего это видно на примере музыкальной эстетики — и не случайно. В самом деле, музыка род искусства, в котором концепция подражания, конечно, наименее очевидна и всего более ограничена в своей применимости. Поэтому в музыкальной эстетике XVIII века понятие выражения упрочивается, чтобы в XIX и XX веках, не встречая сопротивления, утвердиться в сфере эстетической оценки. Аристотель вводит понятие подражания, мимесиса, которое памятно нам как ключевой термин платоновской критики поэзии по поводу трагедии. У Аристотеля оно приобретает позитивное и принципиальное значение.
Мы исключаем при этом тривиальную теорию крайнего натурализма, согласно которой весь смысл искусства в простом уподоблении природе. Она никоим образом не принадлежит к главной линии развития понятия подражания. Тем не менее, понятия мимесиса для современности, похоже, не хватает. Взгляд на историю становления эстетической теории показывает, что против понятия подражания в XVIII веке победоносно выступило и утвердилось другое понятие: понятие выражения. Яснее всего это видно на примере музыкальной эстетики — и не случайно. В самом деле, музыка род искусства, в котором концепция подражания, конечно, наименее очевидна и всего более ограничена в своей применимости. Поэтому в музыкальной эстетике XVIII века понятие выражения упрочивается, чтобы в XIX и XX веках, не встречая сопротивления, утвердиться в сфере эстетической оценки. Аристотель вводит понятие подражания, мимесиса, которое памятно нам как ключевой термин платоновской критики поэзии по поводу трагедии. У Аристотеля оно приобретает позитивное и принципиальное значение. Понятие подражания явно должно иметь силу для всего поэтического искусства вообще. Аристотель ссылается в подкрепление этого тезиса, прежде всего на то, что человеку присуще естественное стремление к подражанию и что человек от природы радуется подражанию. В этой связи мы читаем высказывание, вызвавшее в Новое время критику и прогтиводействие, но у Аристотеля выступающее в чисто описательном смысле, что радость от подражания — это радость узнавания. Аристотель напоминает среди прочего о том, с какой охотой занимаются подражанием дети. Что такое эта радость от узнавания, можно видеть из игры в мы продолжаем угадывать что-то, последний остаток знакомого, и отчасти переживаем узнавание. Впрочем, пожалуй, мимесис и предполагаемое им познание можно взять еще в каком-то более общем смысле; и поэтому в попытке подыскать с помощью более глубокого понятия мимесиса ключ также и к современному искусству стоит сделать несколько шагов назад от Аристотеля к Пифагору. Аристотель однажды сказал, что Платон в своем учении о причастности вещей к идеям просто переменил название того, о чем учили уже пифагорейцы, а именно что вещи суть подражания, mimeseis .
Понятие подражания явно должно иметь силу для всего поэтического искусства вообще. Аристотель ссылается в подкрепление этого тезиса, прежде всего на то, что человеку присуще естественное стремление к подражанию и что человек от природы радуется подражанию. В этой связи мы читаем высказывание, вызвавшее в Новое время критику и прогтиводействие, но у Аристотеля выступающее в чисто описательном смысле, что радость от подражания — это радость узнавания. Аристотель напоминает среди прочего о том, с какой охотой занимаются подражанием дети. Что такое эта радость от узнавания, можно видеть из игры в мы продолжаем угадывать что-то, последний остаток знакомого, и отчасти переживаем узнавание. Впрочем, пожалуй, мимесис и предполагаемое им познание можно взять еще в каком-то более общем смысле; и поэтому в попытке подыскать с помощью более глубокого понятия мимесиса ключ также и к современному искусству стоит сделать несколько шагов назад от Аристотеля к Пифагору. Аристотель однажды сказал, что Платон в своем учении о причастности вещей к идеям просто переменил название того, о чем учили уже пифагорейцы, а именно что вещи суть подражания, mimeseis .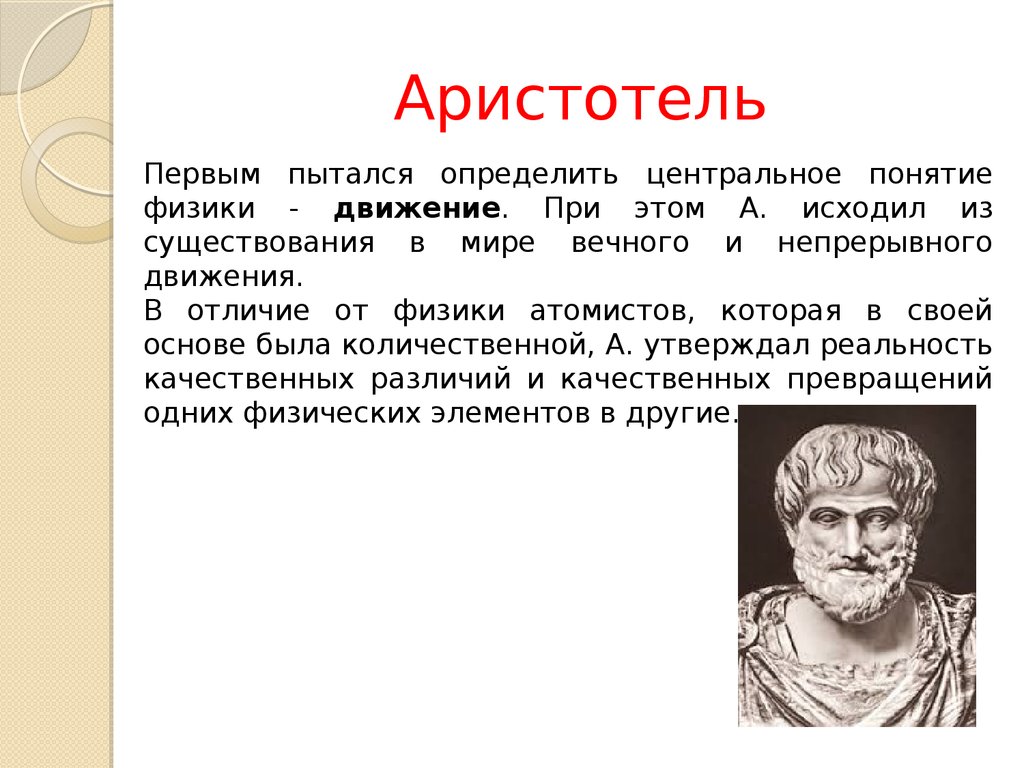 Что тут имеется в виду под подражанием, показывает контекст. Ибо речь явно идет о подражании, заключающемся в том, что вселенная, наш небесный свод, а также звуковые гармонии тонов, слышимые нами, удивительнейшим образом выражаются в числовых соотношениях, а именно в соотношениях целых чисел. Длины струн состоят между собой в определенных отношениях, и даже самый музыкально необразованный человек знает, что в них соблюдается точность, словно бы имеющая в себе нечто от магической силы. Дело действительно обстоит так, как если бы соотношения этих чистых интервалов упорядочивались сами собой, как если бы тоны при настраивании инструментов прямо-таки сами стремились к тому, чтобы совпасть со своей подлинной действительностью и впервые достигали своей полноты тогда, когда звучит чистый интервал. А с Аристотелем — вопреки Платону — мы узнали: не это стремление, а его осуществление зовется мимесисом. В нем чудо того порядка, который мы именуем космосом. Такой смысл мимесиса, подражания и узнавания в подражании кажется мне теперь уже достаточно широким, чтобы, сделав еще один мыслительный шаг, понять также и феномен современного искусства.
Что тут имеется в виду под подражанием, показывает контекст. Ибо речь явно идет о подражании, заключающемся в том, что вселенная, наш небесный свод, а также звуковые гармонии тонов, слышимые нами, удивительнейшим образом выражаются в числовых соотношениях, а именно в соотношениях целых чисел. Длины струн состоят между собой в определенных отношениях, и даже самый музыкально необразованный человек знает, что в них соблюдается точность, словно бы имеющая в себе нечто от магической силы. Дело действительно обстоит так, как если бы соотношения этих чистых интервалов упорядочивались сами собой, как если бы тоны при настраивании инструментов прямо-таки сами стремились к тому, чтобы совпасть со своей подлинной действительностью и впервые достигали своей полноты тогда, когда звучит чистый интервал. А с Аристотелем — вопреки Платону — мы узнали: не это стремление, а его осуществление зовется мимесисом. В нем чудо того порядка, который мы именуем космосом. Такой смысл мимесиса, подражания и узнавания в подражании кажется мне теперь уже достаточно широким, чтобы, сделав еще один мыслительный шаг, понять также и феномен современного искусства. Согласно пифагорейскому учению, числа и соотношения чисел подлежат подражанию. В существе числа заложена некая интеллектуально улавливаемая рациональность. И то, что возникает в видимом мире через соблюдение чистых чисел, называющееся подражанием, не есть просто порядок тонов, музыка. Прежде всего, по пифагорейскому учению, это также и хорошо нам известный поразительный порядок небесного свода. На нем мы видим, что все постоянно возвращается в том же порядке. Рядом с этими двумя областями порядка, музыкой звуков и музыкой сфер, выступает еще в качестве третьей области порядок души — возможно, и здесь тоже аутентичная древ-непифагорейская мысль: музыка принадлежит к культу и способствует в нем «очищению» души. Правила очищения и учение о переселении душ явно связаны друг с другом. Таким образом, древнейшим понятием подражания предполагаются три проявления порядка: миропорядок, музыкальный порядок и душевный порядок. Что в таком случае означает основание этих порядков на мимесисе чисел, подражание числам? То, что действительность этих явлений составляют числа и чистые числовые соотношения.
Согласно пифагорейскому учению, числа и соотношения чисел подлежат подражанию. В существе числа заложена некая интеллектуально улавливаемая рациональность. И то, что возникает в видимом мире через соблюдение чистых чисел, называющееся подражанием, не есть просто порядок тонов, музыка. Прежде всего, по пифагорейскому учению, это также и хорошо нам известный поразительный порядок небесного свода. На нем мы видим, что все постоянно возвращается в том же порядке. Рядом с этими двумя областями порядка, музыкой звуков и музыкой сфер, выступает еще в качестве третьей области порядок души — возможно, и здесь тоже аутентичная древ-непифагорейская мысль: музыка принадлежит к культу и способствует в нем «очищению» души. Правила очищения и учение о переселении душ явно связаны друг с другом. Таким образом, древнейшим понятием подражания предполагаются три проявления порядка: миропорядок, музыкальный порядок и душевный порядок. Что в таком случае означает основание этих порядков на мимесисе чисел, подражание числам? То, что действительность этих явлений составляют числа и чистые числовые соотношения. Не то что все тяготеет к арифметической точности, но этот числовой порядок присутствует во всем. На нем покоится всякий порядок. Порядок, который нам позволяет ощутить модернистское искусство, разумеется, уже не имеет никакого сходства с великим прообразом природного порядка и мироздания. Перестал он быть и зеркалом человеческого опыта, развернутого в мифических содержаниях, или мира, воплощенного в явленности близких и полюбившихся вещей. Все прежнее исчезает. Мы живем в новом индустриальном мире. Этот мир не только вытеснил зримые формы ритуала и культа на край нашего бытия, он, кроме того, разрушил и самую вещь в ее существе. Для действительности этой истинно утверждение: вещей устойчивого обихода вокруг нас уже не существует. Каждая стала деталью, которую можно сколько угодно раз купить, потому что она сколько угодно, раз может быть изготовлена, пока данную модель не снимут с производства. Таково современное производство и современное потребление. Совершенно закономерно, что эти «вещи» изготавливаются теперь только серийно, что их сбывают уже лишь с помощью широко поставленной рекламной кампании и что их выбрасывают, когда они ломаются.
Не то что все тяготеет к арифметической точности, но этот числовой порядок присутствует во всем. На нем покоится всякий порядок. Порядок, который нам позволяет ощутить модернистское искусство, разумеется, уже не имеет никакого сходства с великим прообразом природного порядка и мироздания. Перестал он быть и зеркалом человеческого опыта, развернутого в мифических содержаниях, или мира, воплощенного в явленности близких и полюбившихся вещей. Все прежнее исчезает. Мы живем в новом индустриальном мире. Этот мир не только вытеснил зримые формы ритуала и культа на край нашего бытия, он, кроме того, разрушил и самую вещь в ее существе. Для действительности этой истинно утверждение: вещей устойчивого обихода вокруг нас уже не существует. Каждая стала деталью, которую можно сколько угодно раз купить, потому что она сколько угодно, раз может быть изготовлена, пока данную модель не снимут с производства. Таково современное производство и современное потребление. Совершенно закономерно, что эти «вещи» изготавливаются теперь только серийно, что их сбывают уже лишь с помощью широко поставленной рекламной кампании и что их выбрасывают, когда они ломаются. В нашем обращении с ними никакого опыта вещи мы не получаем. Ничто в них уже не становится нам близким, не допускающим замены, в них ни капельки жизни, никакой исторической глубины. Таким выглядит мир модерна. Какой думающий человек может ожидать, что тем не менее е нашем изобразительном искусстве будут предложены для узнавания вещи, переставшие быть нашим постоянным окружением и нам уже ничего не говорящие, словно через них мы должны снова искать доверительной близости к нашему миру? Это никоим образом не означает, однако, что современная живопись и скульптура, раз в них уже нет подражания, крепящего наше доверие к временным вещам, — об архитектуре в этой связи тоже можно было бы много сказать, — уже не создают образов, обладающих в себе устойчивостью и не допускающих замены. Каждое художественное произведение все еще остается чем-то вроде былых вещей, в его явлении просвечивает и говорит о себе порядок в целом, может быть, нечто, не совпадающее содержательно с нашими представлениями о порядке, единившем некогда родные вещи с родным миром, но постоянно обновляющееся и действенное присутствие упорядочивающих духовных энергий в них есть.
В нашем обращении с ними никакого опыта вещи мы не получаем. Ничто в них уже не становится нам близким, не допускающим замены, в них ни капельки жизни, никакой исторической глубины. Таким выглядит мир модерна. Какой думающий человек может ожидать, что тем не менее е нашем изобразительном искусстве будут предложены для узнавания вещи, переставшие быть нашим постоянным окружением и нам уже ничего не говорящие, словно через них мы должны снова искать доверительной близости к нашему миру? Это никоим образом не означает, однако, что современная живопись и скульптура, раз в них уже нет подражания, крепящего наше доверие к временным вещам, — об архитектуре в этой связи тоже можно было бы много сказать, — уже не создают образов, обладающих в себе устойчивостью и не допускающих замены. Каждое художественное произведение все еще остается чем-то вроде былых вещей, в его явлении просвечивает и говорит о себе порядок в целом, может быть, нечто, не совпадающее содержательно с нашими представлениями о порядке, единившем некогда родные вещи с родным миром, но постоянно обновляющееся и действенное присутствие упорядочивающих духовных энергий в них есть. Поэтому, в конечном счете, совершенно не важно, работает ли художник или скульптор в предметной или непред-меткой манере. Важно одно, встречает ли нас в них упорядочивающая духовная энергия или же они просто напоминают нам о том или ином содержании нашей культуры, а то даже о том или ином художнике прошлого. Вот настоящее требование к художественному достоинству произведения. И если то, что изображено в произведении, или то, в качестве чего оно выступает, поднимается до новой оформленной определенности, до нового крошечного космоса, до новой цельности схваченного, объединенного и упорядоченного в нем бытия, то это — искусство, независимо от того, говорят ли в нем содержания нашей культуры, знакомые образы нашего окружения или представлено ничего,
Поэтому, в конечном счете, совершенно не важно, работает ли художник или скульптор в предметной или непред-меткой манере. Важно одно, встречает ли нас в них упорядочивающая духовная энергия или же они просто напоминают нам о том или ином содержании нашей культуры, а то даже о том или ином художнике прошлого. Вот настоящее требование к художественному достоинству произведения. И если то, что изображено в произведении, или то, в качестве чего оно выступает, поднимается до новой оформленной определенности, до нового крошечного космоса, до новой цельности схваченного, объединенного и упорядоченного в нем бытия, то это — искусство, независимо от того, говорят ли в нем содержания нашей культуры, знакомые образы нашего окружения или представлено ничего,
Читать «Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма» — Чернышева Мария — Страница 1
М. А. Чернышева
Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма
© М. А. Чернышева, 2014
А. Чернышева, 2014
© С. -Петербургский государственный университет, 2014
* * *
Вводные замечания
Понятие «мимесис» рождается в древней Греции. В V в. до н. э. оно уже встречается в различных греческих текстах. И в античности, и позже в Европе содержание понятия «мимесис» варьировалось, его трактовали шире или уже, с теми или иными смысловыми акцентами.
На латыни, вытеснившей греческий язык в ученом мире западного Средневековья, «μίμησις» обозначался как «imitatio». Со времен Ренессанса теоретики искусства прибегают к образованным от латинского корня словам новоевропейских языков – «imitazione», «imitation». Это определило господствующий до сих пор перевод «мимесиса» как «имитации», «подражания». Однако греческий термин вбирал в себя также значения «представление», «выражение», «воплощение», «воссоздание», «изображение».[1] В философии от античности до наших дней понятие мимесиса никогда не ограничивалось областью искусств и распространялось на широкую сферу человеческих действий и механизмов бытия.
В IV в. до н. э. Платон и Аристотель развили это понятие применительно к искусствам (и не только к ним). Они создали классические концепции мимесиса, ставшие фундаментом теории изобразительного искусства, которая в чистом виде, отделившись от философии и теологии, возникла в эпоху итальянского Возрождения. Именно тогда концепция художественного мимесиса переживает свой расцвет и триумф, никогда больше не повторившиеся. По этой причине ренессансную концепцию мимесиса мы принимаем за ориентир в рассмотрении не только позднейших представлений о мимесисе, но и более ранних, средневековых и античных.
Смирившись с закрепившимся переводом «мимесиса» как «подражания» (ибо греческому «мимесис» не найти точного и краткого эквивалента в современных языках и неудобно каждый раз приводить значение термина в вариациях), мы должны договориться, что подразумеваемое подражание не сводится к простому, внешнему копированию природы, хотя и не исключает такового.
Мимесис в искусстве многогранен, и наши задачи включают в себя выявление этой многогранности. Но в целом классический мимесис – это сложный интеллектуальный и эмпирический процесс художественного изучения и воспроизведения природы, который находится в родственном союзе, во-первых, с устремлением к идеальному, духовному, а во-вторых – с тем, что древние греки назвали пойэсисом, т. е. с образотворчеством, воображением и изображением / созданием нового. Мимесис предполагает не только передачу поверхностного явления вещей, но раскрытие их глубинной, невидимой сути, а также изображение того, чего в природе и вовсе не существует.
Но в целом классический мимесис – это сложный интеллектуальный и эмпирический процесс художественного изучения и воспроизведения природы, который находится в родственном союзе, во-первых, с устремлением к идеальному, духовному, а во-вторых – с тем, что древние греки назвали пойэсисом, т. е. с образотворчеством, воображением и изображением / созданием нового. Мимесис предполагает не только передачу поверхностного явления вещей, но раскрытие их глубинной, невидимой сути, а также изображение того, чего в природе и вовсе не существует.
С классическим мимесисом пересекаются, но не совпадают натурализм и реализм. С одной стороны, мимесис вбирает в себя натурализм и реализм как частные и побочные свои случаи. С другой стороны, понятия «натурализм» и «реализм» складываются гораздо позднее понятия «подражание», и сам факт их выделения указывает на их дополнительность по отношению к укоренившемуся представлению о подражании, а также на изменение этого последнего.
Натурализм и реализм тоже не безусловно совпадают друг с другом, хотя эти термины часто используют как синонимы. Слово «натуралисты» входит в художественную теорию в XVII в. в Италии. Термины «реализм», «реалисты» утверждаются в художественной теории только в середине XIX в. во Франции. В отличие от натуралистов XVII в. реалисты XIX в. – это художники, которые не только изображают как можно более точно то, что они видят в обыденной действительности, но и откликаются на социальные проблемы современности, а также отстаивают свою художественную позицию как наиболее правильную.
Слово «натуралисты» входит в художественную теорию в XVII в. в Италии. Термины «реализм», «реалисты» утверждаются в художественной теории только в середине XIX в. во Франции. В отличие от натуралистов XVII в. реалисты XIX в. – это художники, которые не только изображают как можно более точно то, что они видят в обыденной действительности, но и откликаются на социальные проблемы современности, а также отстаивают свою художественную позицию как наиболее правильную.
В наши дни термин «реализм» более распространен, чем термин «натурализм». Но мы предпочитаем к искусству до XIX в. применять термин «натурализм» как исторически более корректный. Поскольку сейчас под натурализмом часто понимают своего рода суженный и измельченный реализм, подчеркнем, что мы используем термин «натурализм» совсем не в таком значении, а наоборот, как более нейтральный, свободный от исконного социально ангажированного смысла термина «реализм», как подразумевающий искусство, просто близкое к конкретной зримой действительности.
Хотя слово «мимесис» возникает в связи с культом, ритуальным дионисийским танцем, уже Аристотель создает предпосылки для того, чтобы понятие «мимесис» стало инструментом объяснения сущности и самостоятельной ценности искусства. Важным основанием здесь выступает различение подражаемого и подражающего, изображаемого и изображающего, предмета и его художественного образа, причем различение не иерархическое, когда, как мыслил Платон, образ был бы производным от предмета и неизбежно второстепенным по отношению к нему, а такое, когда образ мог бы даже превосходить предмет, будучи обязан своим достоинством не ему, а художественным средствам и приемам своего исполнения.
Осознание такой (по Аристотелю) дистанции между изображающим и изображаемым необходимо для созерцания образа в его собственно художественных качествах. Это осознание высвободило образ в особую художественно-эстетическую сферу из области религиозного культа, в которой образ зародился, отделило его прежде всего от магического объекта.
В магических объектах изображающее сближается с изображаемым трансцендентным, прямо соприкасается с ним, и ценится именно по степени своей причастности к изображаемому. Для верующего чудотворные иконы суть не произведения художника, а образы, в которых божественный дух сам являет себя, магические образы, отмеченные божественной волей и присутствием.
Когда мы говорим, что искусство подражает природе, мы имеем в виду, что между ними сохраняется непреодолимая дистанция, что изображающее не равно изображаемому и не подчинено ему, сколь бы полной ни была иллюзия. Художественный мимесис устанавливает между искусством и природой, скорее, соответствия, чем сходства.[2] И установление этих соответствий есть одновременно установление различий.[3] Соответствия между художественным образом и природой не только не заслоняют различий между ними, но по-своему актуализируют вопрос об этих различиях. Разговор о мимесисе в искусстве не исчерпывается описанием природы, реальности такой, какой она является предметом искусства. Это разговор в первую очередь о самом искусстве, о тех средствах и приемах, которые составляют его собственный, внутренний потенциал и которые оно использует для того, чтобы не столько достичь сходства с природой, сколько убедить зрителей в этом сходстве.
Это разговор в первую очередь о самом искусстве, о тех средствах и приемах, которые составляют его собственный, внутренний потенциал и которые оно использует для того, чтобы не столько достичь сходства с природой, сколько убедить зрителей в этом сходстве.
В художественной культуре мимесис до тех пор остается в центре определения сущности и ценности искусства, пока подражанию не отказывают в родственном союзе с пойэсисом и со способностью воплощать идеальное. Сомнения в пойэтических и духовных возможностях подражания постепенно развиваются с постренессансного времени. Отметим основные факторы и вехи этого развития, на которых остановимся подробнее в основной части книги.
• В художественной теории XVII в., позже названной теорией классицизма, идея красоты отрывается от эмпирической природы. Подражание натурной модели начинает восприниматься не как сопутствующее подражанию художественным образцам и стремлению к прекрасному (так это было в ренессансной теории), но как сдерживающее это стремление. [4] Еще очень далеко до разуверения в необходимости мимесиса, но уже намечается как никогда четкое разделение подражания на высокое и низкое, идеальное и конкретное. В классицистической теории сама природа превращается в отвлеченное культурное понятие, ассоциируется с образцами античного искусства, воплотившими в себе идею красоты. Подражание такой природе считается достойным, но оно вслед за ней становится отвлеченным понятием.
[4] Еще очень далеко до разуверения в необходимости мимесиса, но уже намечается как никогда четкое разделение подражания на высокое и низкое, идеальное и конкретное. В классицистической теории сама природа превращается в отвлеченное культурное понятие, ассоциируется с образцами античного искусства, воплотившими в себе идею красоты. Подражание такой природе считается достойным, но оно вслед за ней становится отвлеченным понятием.
Ревность как основа желания — Нож
В предисловиях, предваряющих жираровскую теорию, почти всегда приводится один пример, кажущийся авторам простым и убедительным: реклама. В действительности же это не подтверждение теории, а камень преткновения.
Красивый мужчина, какая-нибудь голливудская звезда, изображенный на гигантской афише или фигурирующий в рекламном ролике, притворяется, будто наслаждается ароматом, исходящим от стоящей перед ним чашки кофе, и вот-вот лишится чувств от наслаждения. Неужели кого-то может обмануть это равнодушие к остальному миру: а ведь он так убедительно изображает это равнодушие, и как актер, и как персонаж? Все же прекрасно понимают, что Джордж Клуни, а речь идет, разумеется, о нем, всего лишь делает свою работу, изображая, причем за умопомрачительные гонорары, желания, которые не испытывает.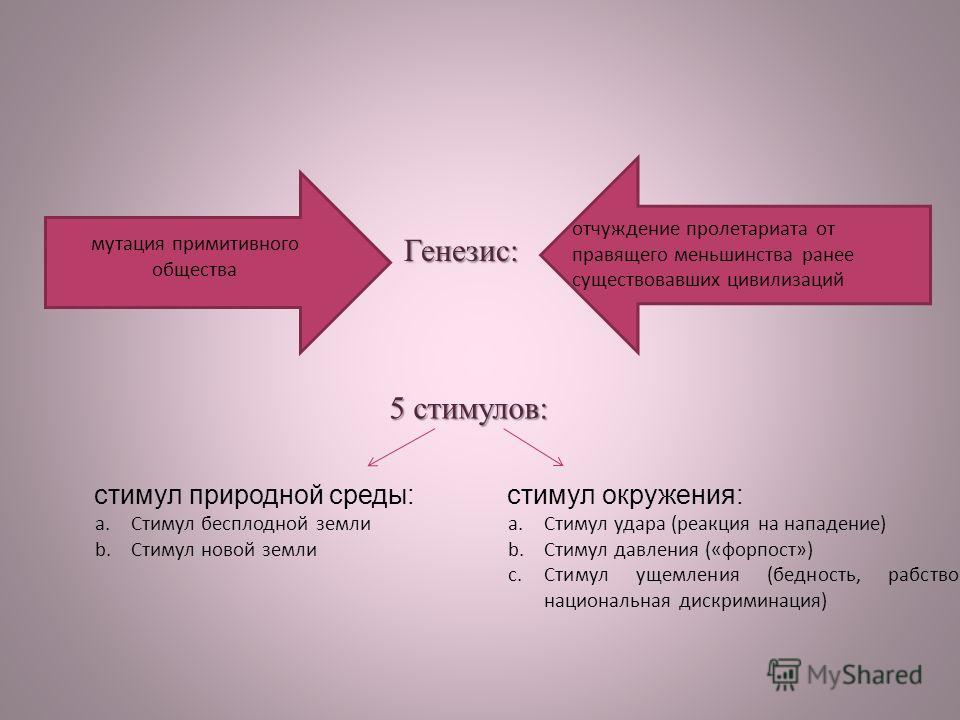 Неужели зритель, возвращаясь домой и заходя в магазин купить ту самую марку капсулированного кофе, уступил силе миметического желания? Это было бы слишком просто.
Неужели зритель, возвращаясь домой и заходя в магазин купить ту самую марку капсулированного кофе, уступил силе миметического желания? Это было бы слишком просто.
Миметическая теория подразумевает — и это представляется само собой разумеющимся, — что субъект верит, будто образец действительно желает данный объект, это и будет желание из подражания. Внимание: это вовсе не подразумевает, что данная вера оправданна — она может возникнуть в воображении субъекта. Как мы уже видели, это представляется особенно разительным в случае двойной медиации, когда объект не предшествует желанию ни того ни другого партнера. Ни господин де Реналь, ни Вально поначалу не мечтают заполучить Жюльена. То, что желание, приписываемое образцу, существует лишь в воображении, вовсе не означает, что вера в это тоже воображаема. Хотя эта вера и существует лишь в воображении субъекта, она вполне реальна. Все мы, за исключением разве что самых наивных людей, догадываемся, что Клуни не испытывает к данной марке кофе такого пристрастия, какое изображает перед камерой. И все же некоторые из тех, кто покупает именно ее, делают это, чтобы «быть, как Клуни». Они в самом деле так думают? Экономисты, разрабатывающие так называемую теорию сигналов, выдвигают следующую гипотезу: если владельцы марки не скрывают, что платят знаменитым актерам астрономические гонорары, они делают это не столько для того, чтобы воздействовать на потребителей, сколько желая сдержать конкурентов — у нас есть возможность оплачивать бесполезную роскошь, не вторгайтесь в наши владения.
И все же некоторые из тех, кто покупает именно ее, делают это, чтобы «быть, как Клуни». Они в самом деле так думают? Экономисты, разрабатывающие так называемую теорию сигналов, выдвигают следующую гипотезу: если владельцы марки не скрывают, что платят знаменитым актерам астрономические гонорары, они делают это не столько для того, чтобы воздействовать на потребителей, сколько желая сдержать конкурентов — у нас есть возможность оплачивать бесполезную роскошь, не вторгайтесь в наши владения.
Это маловероятно в условиях рынка, где пресыщенный потребитель гордится тем, что его не обманешь. Но именно этому миру адресуют свои послания авторы рекламы, и они не останавливаются на том, на чем остановился я. К столику кинозвезды приближается соблазнительная молодая женщина. Похоже, мужчина уже наслаждается грядущей победой, но тут оказывается, что молодая женщина совершенно не интересуется им, а привлек ее исключительно аромат кофе. Демонстрируя растерянность и униженность лучшего кандидата на роль медиатора, реклама, используя гениальный ход, сводит эту роль к нулю. Она доносит до нас — и именно в этом нас обманывает, — что только качество самого продукта, безо всякого медиатора, привлекает клиента.
Похоже, мужчина уже наслаждается грядущей победой, но тут оказывается, что молодая женщина совершенно не интересуется им, а привлек ее исключительно аромат кофе. Демонстрируя растерянность и униженность лучшего кандидата на роль медиатора, реклама, используя гениальный ход, сводит эту роль к нулю. Она доносит до нас — и именно в этом нас обманывает, — что только качество самого продукта, безо всякого медиатора, привлекает клиента.
Молодая женщина — это Джейн Доу, первая встречная, кто угодно, вы, я. Именно она, то есть недифференцированная масса, допустим это на мгновение, оказывается «медиатрисой» желания.
Но масса, которая толпится вокруг одного объекта, вызывает ли она миметически желание у тех, кто к ней еще не присоединился? Представим, что вы заметили толпу, собравшуюся вокруг некоего главного объекта, будь то иллюминация, уличный артист или агонизирующая жертва дорожной аварии. Толпа и ее центр образуют замкнутый мир. Кто сможет сопротивляться искушению проникнуть в его тайну, кто найдет в себе силы добровольно покинуть этот маленький мирок, образованный таким способом? Но это как раз объясняется ревностью, а не миметическим желанием.
Разумеется, одноименная теория может утверждать, что здесь имеет место как раз подражание, подражание желанию объекта: я хочу оказаться в этой толпе и созерцать объект, поскольку другие его созерцают. Но в данном случае совпадающие желания не вступают друг с другом в конфликт, потому что хватает места всем. Из этого следует, что предел метафизического желания достигнут не будет, если говорить словами Жирара. Совсем напротив, каждый желает этой общности, даже если она неуместна, если, к примеру, это нездоровое любопытство и его желание резонирует с желаниями других. Из-за ревности — что не удалось попасть в эту общность — человек может испытывать разочарование.
Мне возразят, что кофе в капсулах может приобрести любой и поэтому мое сравнение неуместно. Скажут ли подобное, если привести любимый пример теории миметического желания, а именно пример с младенцами и плюшевыми мишками? Если мы оставим семь младенцев в комнате с семью абсолютно одинаковыми плюшевыми мишками и вернемся четверть часа спустя, почти наверняка мы застанем такую картину: все дерутся за одного мишку, которого первый ребенок выбрал случайно, но его выбор сделал эту игрушку достойной всеобщего внимания. С рекламой случай совершенно иной, поскольку она существует в мире, в котором одинаковые товары можно воспроизводить до бесконечности и желания разных людей не сойдутся на одном экземпляре, предпочтя именно его всем прочим. Нам, массовым потребителям, чудесным образом удалось преодолеть эту младенческую стадию. Так, если я захочу «ламборджини» Пьера, мне, дабы утолить страсть, достаточно купить такой же у дистрибьютора фирмы. Про младенческую стадию мы еще поговорим далее.
С рекламой случай совершенно иной, поскольку она существует в мире, в котором одинаковые товары можно воспроизводить до бесконечности и желания разных людей не сойдутся на одном экземпляре, предпочтя именно его всем прочим. Нам, массовым потребителям, чудесным образом удалось преодолеть эту младенческую стадию. Так, если я захочу «ламборджини» Пьера, мне, дабы утолить страсть, достаточно купить такой же у дистрибьютора фирмы. Про младенческую стадию мы еще поговорим далее.
По крайней мере один раз в своих работах Жирар рассматривает случай медиатора «без желания». Следует отметить, что под этим я подразумеваю медиатора, о котором совершенно точно известно: он не испытывает желания, которое ему приписывают или которое он симулирует. Речь как раз идет о создателях рекламы, об этих подстрекателях желания, этих посредниках, сводниках или — почему бы не использовать более вульгарное слово — сутенерах. Английский эквивалент этого слова звучит как pander. Оно происходит от Pandarus (Пандар), имени персонажа из пьесы Шекспира «Троил и Крессида», который как раз выступает в роли сводника и не успокаивается, пока не укладывает племянницу Крессиду в постель благородного троянца Троила. В книге, посвященной Шекспиру, на примере этой пьесы, которой он выделил целых пять глав, Жирар убедительно излагает свою теорию рекламы.
Английский эквивалент этого слова звучит как pander. Оно происходит от Pandarus (Пандар), имени персонажа из пьесы Шекспира «Троил и Крессида», который как раз выступает в роли сводника и не успокаивается, пока не укладывает племянницу Крессиду в постель благородного троянца Троила. В книге, посвященной Шекспиру, на примере этой пьесы, которой он выделил целых пять глав, Жирар убедительно излагает свою теорию рекламы.
Коротко напомним интригу, сюжет позаимствован скорее из средневековых легенд, а не у Гомера. Действие происходит в Илионе — это другое название античной Трои. «Беглая супруга Менелая, Елена, спит с виновником войны», если цитировать самого Шекспира. Идет война, начавшаяся из-за ее похищения. Троил — брат Париса и Гектора, это трое сыновей Приама, короля Трои. Юная Крессида — дочь Калхаса, троянского жреца, сторонника греков, следовательно, Пандар — ее дядя. В начале пьесы мы видим, как тот превозносит перед каждым из главных действующих лиц достоинства другого. Это заставляет жестоко страдать Троила, который убежден в несравненной прелести Крессиды, не уступающей по красоте Елене. Да и сексуальной привлекательности у Крессиды не меньше, чем у Елены, ради которой ежедневно проливаются реки крови. Перед племянницей Пандар так восхваляет достоинства Троила, в которых она сама и не сомневается, что девушка смущена. Затем Пандар принимается рассказывать довольно скучную историю с эротическим подтекстом, как Елена, по его мнению, безумно влюбленная в Троила, ласкает ямочку на его подбородке. Таких историй у него припасено огромное количество, и Крессида просит его прекратить.
Да и сексуальной привлекательности у Крессиды не меньше, чем у Елены, ради которой ежедневно проливаются реки крови. Перед племянницей Пандар так восхваляет достоинства Троила, в которых она сама и не сомневается, что девушка смущена. Затем Пандар принимается рассказывать довольно скучную историю с эротическим подтекстом, как Елена, по его мнению, безумно влюбленная в Троила, ласкает ямочку на его подбородке. Таких историй у него припасено огромное количество, и Крессида просит его прекратить.
Оставшись одна, Крессида произносит сильный, глубокий монолог, который дает Жирару повод утверждать:
«Главная идея этого исследования состоит в том, что Шекспир не только драматургически иллюстрирует миметическое желание, но и теоретически исследует его. Если бы этот тезис требовалось доказать на материале только одной пьесы, я бы выбрал „Троила и Крессиду“».
Читайте также
Как научиться жить без ревности? Советы философа
В самом деле, такое впечатление, будто Крессида уже поняла тонкости жираровской теории псевдонарциссизма. Судите сами:
Судите сами:
Мольбы, подарки, слезы в жертву снова
Он принесет от имени другого.
А мне Троил давно милее стал
Всех отражений в зеркале похвал.
Но я сдержусь. Мы ангелы, пока
От рук мужчин добыча далека;
Добыл — забыл, и вещь уже не нужна;
А недоступному высокая цена.
Мы, женщины, одно лишь твердо знаем —
Что издали сильнее привлекаем.
И потому мне твердо помнить надо:
Кто взял — тиран; кто не взял — жаждет взгляда.
Так, хоть любви душа моя полна,
Останусь я по виду холодна.
Побудительные причины мужского желания — будь то желание Троила или живущего несколько веков спустя Дон Жуана — для Крессиды не являются тайной.
Вернемся к предполагаемому медиатору желания, Пандару, который призывает помощницу — прекрасную Елену. Вот что пишет об этом Жирар:
«Бурная назойливость Пандара не менее утомительна, чем современная реклама, но Шекспиру важно показать роль повторов. Если постоянно твердить об одном и том же, неизбежно возникнет соблазн подражания.
Даже если Крессида не поверит, что Елена влюблена в Троила, картина, которую настойчиво подсовывает ей дядюшка, предполагает обязательное присутствие третьей стороны, выступающей „образцом“ для подражания».
Итак, перед нами именно тот случай, который мы собирались проанализировать в этом разделе: когда субъект не верит, что медиатор действительно желает объект. Пандар, которого она называет сводником (реплика в сторону), напрасно повторяет ей это сотню раз. Крессида так же не верит, что царица Елена увлечена юным Троилом, как и мы не верим, что Джордж Клуни испытывает всепоглощающую страсть к марке капсульного кофе, за что и получает царские гонорары. И тем не менее медиация через третье лицо работает, — утверждает Жирар. Как? Через бесконечное повторение одного и того же. Мы с трудом можем допустить — учитывая ее потенциал, ее изящество, — что теория миметического желания, столкнувшись с этим концептуальным вызовом, прибегает к столь вульгарному средству, как «обработка» мозгов. Вероятно, есть объяснения убедительнее. Пандар такой же нулевой, несостоявшийся медиатор, как Мазетто или Джордж Клуни в той нелепой рекламе.
Вероятно, есть объяснения убедительнее. Пандар такой же нулевой, несостоявшийся медиатор, как Мазетто или Джордж Клуни в той нелепой рекламе.
Что такое миметическая теория? – Коллоквиум о насилии и религии
Обзор
Миметическая теория Рене Жирара началась с понимания желания и превратилась в великую теорию человеческих отношений. Основываясь на прозрениях великих писателей и драматургов — Сервантеса, Шекспира, Стендаля, Пруста и Достоевского — Жирар понял, что человеческое желание — это не линейный процесс, как часто думают, когда человек автономно желает желаемого по своей сути объекта (Мередит желает МакДрими). . Скорее, мы желаем в соответствии с желанием другого (многих женщин привлекает МакДрими, внушая Мередит, что он неотразим). Мы полагаемся на посредников или моделей, которые помогают нам понять, кого и чего желать. Проблема, однако, в том, что стремление к подражанию приводит к конфликтам, потому что модель может быстро стать соперником, который соревнуется с нами за один и тот же объект.
Миметическое желание ведет к эскалации, поскольку наше общее желание укрепляет и разжигает нашу веру в ценность объекта. Эта эскалация таит в себе потенциал войны всех против всех. По словам Жирара, основным средством предотвращения тотальной эскалации стало то, что он называет механизмом козла отпущения, в котором конфликт разрешается путем объединения против произвольного другого, которого исключают и обвиняют во всем хаосе. Когда виновная сторона уходит, конфликт прекращается, и в общество возвращаются мир и общественный порядок. Однако достижение общественного порядка таким образом возможно только в том случае, если исключающие стороны единодушно считают, что исключаемое лицо или группа являются действительно виновны или опасны.
Изучение Жираром различных «мифов о происхождении» показало, что козлы отпущения, независимо от их фактического преступления, несут на себе тяжесть всех преступлений сообщества. Прочитанные наизнанку, эти истории раскрывают многое о попытках первобытного общества обуздать насилие и восстановить порядок в хрупком мире без гражданских структур. Вся человеческая культура, по словам Жирара, построена на системе поиска козлов отпущения и повторения ритуалов. Это прочтение культуры, вдохновленное пониманием невиновности жертвы, доступное в иудейских и христианских писаниях, сделало возможным повышенное осознание этого механизма и его последствий, чтобы прервать эти процессы и достичь другого рода мир.
Вся человеческая культура, по словам Жирара, построена на системе поиска козлов отпущения и повторения ритуалов. Это прочтение культуры, вдохновленное пониманием невиновности жертвы, доступное в иудейских и христианских писаниях, сделало возможным повышенное осознание этого механизма и его последствий, чтобы прервать эти процессы и достичь другого рода мир.
Подводя итог, можно сказать, что миметическая теория состоит из трех взаимосвязанных движений: миметического желания, механизма поиска козла отпущения и откровения. Будет полезно вернуться к этим движениям более подробно, начиная с желания.
Миметическое желание
Миметическое желание действует как подсознательное подражание чужому желанию. Одна и та же бессознательная тяга объясняет и дружбу, и соперничество. Например, предположим, что я аспирант в области психологии, и я отчаянно хочу работать с уважаемым профессором на нашем факультете, доктором Джонсом. У доктора Джонса, кажется, есть все — уважение, процветающая исследовательская лаборатория и много сотрудничества со всемирно известным психологом доктором Смартом. Целый год я усердно работаю, чтобы быть как доктор Джонс — копирую ее методы исследования, посещаю подобные конференции и работаю в темпе, отражающем темп доктора Джонс. Со временем моя исследовательская практика набирает обороты, и вскоре именно меня, а не доктора Джонса просят возглавить конференции с доктором Смартом. Вскоре доктор Джонс, гордившийся моими успехами, начинает думать обо мне как о сопернике за возможность работать с доктором Смартом. Доктор Джонс может даже обвинить меня в новом желании — желании разрушить ее карьеру, и она может вскоре действовать, чтобы подорвать мою карьеру, а не поощрять ее. Сотрудничество превратилось в соперничество, а дружба во вражду.
Целый год я усердно работаю, чтобы быть как доктор Джонс — копирую ее методы исследования, посещаю подобные конференции и работаю в темпе, отражающем темп доктора Джонс. Со временем моя исследовательская практика набирает обороты, и вскоре именно меня, а не доктора Джонса просят возглавить конференции с доктором Смартом. Вскоре доктор Джонс, гордившийся моими успехами, начинает думать обо мне как о сопернике за возможность работать с доктором Смартом. Доктор Джонс может даже обвинить меня в новом желании — желании разрушить ее карьеру, и она может вскоре действовать, чтобы подорвать мою карьеру, а не поощрять ее. Сотрудничество превратилось в соперничество, а дружба во вражду.
Рене Жирар назвал это «миметическим соперничеством», чтобы подчеркнуть движение от отношений модели-субъекта к модели-препятствию. Этот сдвиг происходит, когда желания сходятся на объекте, который нельзя разделить (например, работа, приз за первое место или любовник) или которым соперники не хотят делиться (например, слава или работа с доктором Смарт). Важно отметить, что два соперника теперь являются моделями друг для друга, разжигая друг в друге желание работать с доктором Смартом, желая владеть им исключительно. Каждый теперь является образцом-препятствием для другого, что оба категорически отрицают. Каждый будет утверждать, что его желание независимо, а другой предал их дружбу из-за простой злобы. Жирар указывал, что проблема не в том, что желания миметичны, а в том, что, цепляясь за мираж собственной оригинальности, мы становимся склонными обвинять других, вместо того чтобы признавать свое участие в миметическом соперничестве.
Важно отметить, что два соперника теперь являются моделями друг для друга, разжигая друг в друге желание работать с доктором Смартом, желая владеть им исключительно. Каждый теперь является образцом-препятствием для другого, что оба категорически отрицают. Каждый будет утверждать, что его желание независимо, а другой предал их дружбу из-за простой злобы. Жирар указывал, что проблема не в том, что желания миметичны, а в том, что, цепляясь за мираж собственной оригинальности, мы становимся склонными обвинять других, вместо того чтобы признавать свое участие в миметическом соперничестве.
Понимание желания и конфликта таким образом подчеркивает взаимозависимую природу человеческой мотивации и дает информацию в таких областях, как литература, психология, социология, экономика, политология, психотерапия, коммуникативные исследования, управление конфликтами и многое другое. Миметическая теория ставит под сомнение хорошо известные принципы, такие как реалистическая теория конфликтов, теория рациональных акторов в экономике и многие теории в психологии, предполагающие, что поведение зависит от автономного, рационального индивидуума. Недавние публикации, посвященные миметическому желанию, включают «Мимезис и наука: эмпирические исследования подражания и миметической теории культуры и религии» под редакцией Скотта Р. Гаррелса; «Под завесой странных стихов: чтение скандальных текстов» Иеремии Альберга; «Призрак эго: модернизм и миметическое бессознательное» Нидеша Лоту; Миметическая политика: диадические паттерны в глобальной политике Роберто Фарнети и Интимная сфера: желание, травма и миметическая теория Марты Дж. Рейнеке.
Недавние публикации, посвященные миметическому желанию, включают «Мимезис и наука: эмпирические исследования подражания и миметической теории культуры и религии» под редакцией Скотта Р. Гаррелса; «Под завесой странных стихов: чтение скандальных текстов» Иеремии Альберга; «Призрак эго: модернизм и миметическое бессознательное» Нидеша Лоту; Миметическая политика: диадические паттерны в глобальной политике Роберто Фарнети и Интимная сфера: желание, травма и миметическая теория Марты Дж. Рейнеке.
Механизм козла отпущения
Второе движение в миметической теории — это механизм козла отпущения. По мере того как соперники все больше и больше увлекаются друг другом, друзья и коллеги могут миметически втягиваться в конфликт по мере формирования соперничающих коалиций. То, что началось как личная битва, может перерасти в гоббсовскую битву всех против всех, угрожающую сплоченности и миру всего сообщества. Один из способов решения этой проблемы — найти виновного в конфликте, против которого могут объединиться все соперничающие коалиции. Этот несчастный человек может быть виновен, а может и нет. Все, что требуется для того, чтобы решение с поиском козла отпущения сработало, — это универсальное признание его вины и то, что, когда его накажут или изгонят из сообщества, он не сможет отомстить. Доказательство его вины находится в мире, который теперь возвращается к сообществу, достигнутом в силу единодушия против него.
Этот несчастный человек может быть виновен, а может и нет. Все, что требуется для того, чтобы решение с поиском козла отпущения сработало, — это универсальное признание его вины и то, что, когда его накажут или изгонят из сообщества, он не сможет отомстить. Доказательство его вины находится в мире, который теперь возвращается к сообществу, достигнутом в силу единодушия против него.
Миметическая теория позволяет нам увидеть, что достигнутый таким образом мир является насильственным, достигается за счет жертвы и строится на лжи о виновности жертвы и невиновности общества. Этот механизм функционировал у истоков человеческого рода, когда этот мир возник как по волшебству и был приписан визиту неоднозначного бога, который сначала явился как ужасная причина конфликта, а затем оказался его лекарством. Появились запреты, запрещающие подражательное поведение, ведущее к конфликту, развились ритуалы, состоящие из хорошо контролируемой мимики искупительного насилия над жертвой (первоначально человеком, позднее животным и т.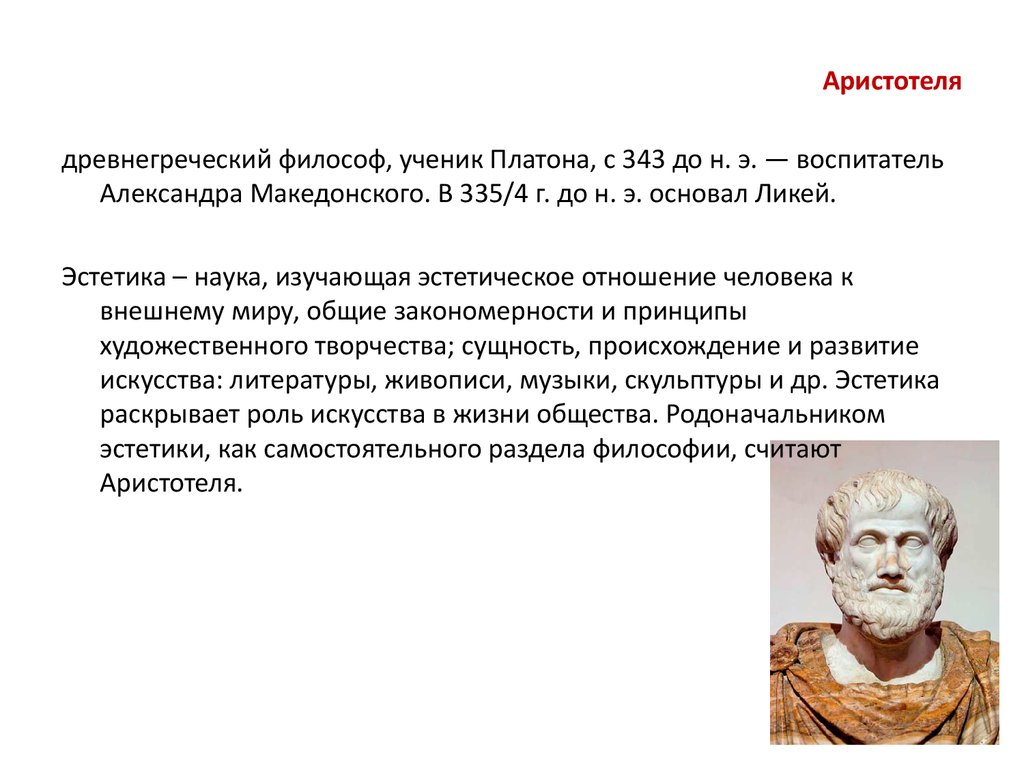 как мы стали людьми в результате посещения богов. Этот метод контроля над насилием с помощью насилия можно найти в обрядах и мифах, распространившихся по всей нашей планете и породивших человеческую культуру.
как мы стали людьми в результате посещения богов. Этот метод контроля над насилием с помощью насилия можно найти в обрядах и мифах, распространившихся по всей нашей планете и породивших человеческую культуру.
Поиск козлов отпущения также действует у людей на уровне личности. Мы все конструируем идентичности против кого-то или чего-то другого. Я женщина, а не мужчина. Я либерал, а не консерватор. Я атеист не верующий. И что наиболее проблематично, я хороший, а не плохой. Когда нам нужно, чтобы какой-то другой человек или группа были плохими, чтобы мы могли поддерживать наше ощущение себя такими же хорошими по сравнению с ними, мы занимаемся поиском козла отпущения. Мы используем других, чтобы укрепить нашу идентичность, точно так же, как сообщество использует козла отпущения для разрешения своего внутреннего конфликта.
Хотя изучение козлов отпущения потеряло популярность в социальных науках после некоторого признания после Второй мировой войны, миметическая теория возрождает эту концепцию и рассматривает ее как антропологическую эволюцию человеческой потребности сдерживать конфликт. Поскольку теория Жирара следует за желанием нечеловеческих видов через очеловечивание и далее, она объясняет причины распространенности поиска козлов отпущения и почему они существовали во все времена. Тот факт, что козлы отпущения содержат конфликт и упорядочивают новые культурные основы, информирует теоретиков эволюции, историков, социологов, политологов и ученых, работающих в области исследований мира и разрешения конфликтов. Теория также предлагает объяснения для организационных консультантов, которые помогают в случаях издевательств в школе, колледже и на рабочем месте. Недавние публикации включают «Бесплодную жертву: эссе о политическом насилии» Поля Дюмушеля; Как мы стали людьми: миметическая теория и наука об эволюционном происхождении под редакцией Пьерпаоло Антонелло и Пола Гиффорда; и «Месть наоборот: запутанные петли насилия, мифов и безумия» Марка Р. Анспаха.
Поскольку теория Жирара следует за желанием нечеловеческих видов через очеловечивание и далее, она объясняет причины распространенности поиска козлов отпущения и почему они существовали во все времена. Тот факт, что козлы отпущения содержат конфликт и упорядочивают новые культурные основы, информирует теоретиков эволюции, историков, социологов, политологов и ученых, работающих в области исследований мира и разрешения конфликтов. Теория также предлагает объяснения для организационных консультантов, которые помогают в случаях издевательств в школе, колледже и на рабочем месте. Недавние публикации включают «Бесплодную жертву: эссе о политическом насилии» Поля Дюмушеля; Как мы стали людьми: миметическая теория и наука об эволюционном происхождении под редакцией Пьерпаоло Антонелло и Пола Гиффорда; и «Месть наоборот: запутанные петли насилия, мифов и безумия» Марка Р. Анспаха.
Откровение
Когда сообщество, переживающее агонию конфликта, обретает мир путем насильственного изгнания козла отпущения, оно не может понять, что это их собственное единодушное насилие привело к миру. Эта слепота со стороны участников в отношении того, что они на самом деле делают — убийства невинной жертвы — является одним из основных элементов, необходимых для работы механизма поиска козлов отпущения. Жирар отмечает, что иметь козла отпущения не значит знать, что он у вас есть. Другими словами, участники механизма поиска козлов отпущения искренне верят в вину жертвы, вину, которая, по-видимому, подтверждается восстановлением мира.
Эта слепота со стороны участников в отношении того, что они на самом деле делают — убийства невинной жертвы — является одним из основных элементов, необходимых для работы механизма поиска козлов отпущения. Жирар отмечает, что иметь козла отпущения не значит знать, что он у вас есть. Другими словами, участники механизма поиска козлов отпущения искренне верят в вину жертвы, вину, которая, по-видимому, подтверждается восстановлением мира.
Жирар считает, что сила христианства заключается в «разоблачении» механизма козла отпущения. Здесь открытие означает, в буквальном смысле, отдернуть занавеску, чтобы увидеть, что за всем этим дымом и звуками стоит всего лишь маленький человечек, дергающий за рычаги. Евангелия имеют ту же структуру, что и мифы, но совершенно другую перспективу — ключевой вопрос для Жирара. В мифах нам дают козла отпущения, чья смерть обещает и исцеление расколотых общин, и умилостивление богов. Однако из евангельской истории мы постепенно узнаем, что Бог — это жертва , и что кровь жертвы умилостивила только людей, а не Бога.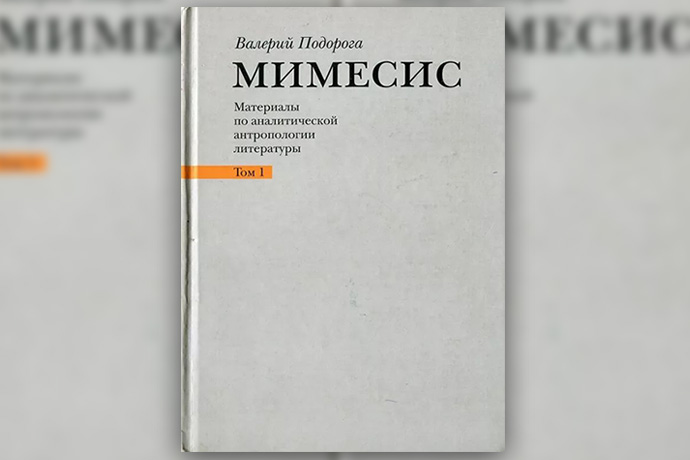 Рассказ о реальном событии таким особым образом способствует обращению. Хотя мы думаем, что евангелия рассказывают историю о Боге, Жирар вслед за Симоной Вейль показывает, что евангелия в такой же степени о нас (людях), как и о Боге. И истинная сила истории, или обращения, заключается в постоянном изменении того, как мы читаем не только евангельскую историю, но и все остальное. Вместо того, чтобы читать через призму жертвенности, мы читаем через призму прощения, понимая, что мы, как на индивидуальном, так и на социальном уровне, были вовлечены в многопоколенный процесс преследования и изгнания других. И что Бог не имеет никакого отношения к этому насилию.
Рассказ о реальном событии таким особым образом способствует обращению. Хотя мы думаем, что евангелия рассказывают историю о Боге, Жирар вслед за Симоной Вейль показывает, что евангелия в такой же степени о нас (людях), как и о Боге. И истинная сила истории, или обращения, заключается в постоянном изменении того, как мы читаем не только евангельскую историю, но и все остальное. Вместо того, чтобы читать через призму жертвенности, мы читаем через призму прощения, понимая, что мы, как на индивидуальном, так и на социальном уровне, были вовлечены в многопоколенный процесс преследования и изгнания других. И что Бог не имеет никакого отношения к этому насилию.
Миметическая теория начинается с человеческой формы желания и не покидает человека, даже когда она связана с теологией. Обращение к теологии в ее третьем движении не есть бегство из земного царства. Можно увидеть, как все его «теологические» прозрения проявляются на антропологическом уровне. Жирар считал, что люди настолько глубоко привыкли к схемам эскалации насилия, а механизм козла отпущения был настолько самооправдательным, что он пришел к выводу, что для достижения человеческого искупления необходимо какое-то реальное, сверхъестественное вмешательство.
Многие богословы и религиозные педагоги опираются на идеи миметической теории как способ понимания Бога как жертвы, фундаментальной человеческой склонности к поиску козла отпущения и того, что все это означает в стремлении к культурному порядку, справедливости и примирению. Миметическая теория оказывает глубокое влияние на библейскую герменевтику, сотериологию, теологию искупления, христологию и исследования в области иудаизма, ислама и индуизма. Недавние публикации включают книгу Рене Жирара «Невероятный апологет: миметическая теория и фундаментальная теология» Гранта Каплана; «Голова под алтарем: индуистская мифология и критика жертвоприношения» Брайана Коллинза; и «Плоть становится словом: лексикография козла отпущения или история идеи» Дэвида Доусона. Взаимодействие христианских богословов продолжается уже много лет. Известные работы включают « Спасение от жертвы: богословие креста » Марка Хейма; Джеймс Элисон «Радость быть неправым: первородный грех глазами Пасхи»; и Должны ли быть козлы отпущения? Насилие и искупление в Библии Раймунда Швагера, С.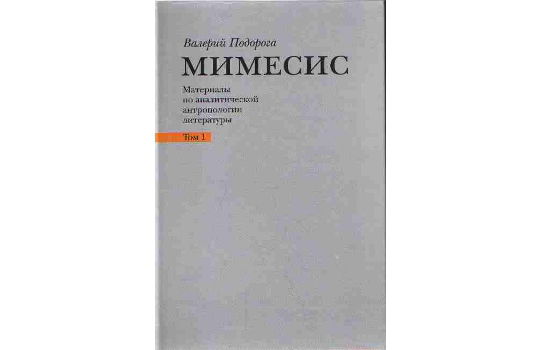 Дж.
Дж.
Для более полного ознакомления с работами Жирара см. «Миметическая теория Рене Жирара» Вольфганга Палавера; «Открытие Жирара» Майкла Кирвана; и The Girard Reader Рене Жирара, редактора Джеймса Дж. Уильямса.
Чтобы напрямую взаимодействовать с авторами упомянутых здесь книг и многих других, работающих с миметической теорией, станьте членом COV&R сегодня.
Что такое миметическая теория? | общее невежество
Миметическая теория возникла у Рене Жирара, французского эрудита, чье оригинальное понимание природы человеческих желаний связывает различные области, такие как антропология, литературная критика, религиоведение, психология, этнология, социология, философия и другие. Один из признаков гениальности — замечать что-то жизненно важное и вроде бы очевидное, но никогда ранее не признававшееся важным. Великое открытие Рене Жирара — потенциальный Розеттский камень для гуманитарных наук. Теория основана на наблюдаемой склонности людей подсознательно подражать другим и распространении этого мимесиса на сферу желания. Последствия поразительно глубоки. (Моя интерпретация Платона во многом опирается на понимание Жираром миметического происхождения желания.) Ниже я пытаюсь обобщить основы миметической теории:
Последствия поразительно глубоки. (Моя интерпретация Платона во многом опирается на понимание Жираром миметического происхождения желания.) Ниже я пытаюсь обобщить основы миметической теории:
1. МИМЕТИЧЕСКОЕ ЖЕЛАНИЕ
Люди естественным образом подражают желаниям других людей. (Вы это заметили? Очевидно, да?) Человеческое желание, по большому счету, является опосредованным желанием. Жирар называет это «миметическим желанием» от греческого слова «мимезис». Кто-то сигнализирует о желании определенной вещи, и теперь вы обнаруживаете, что хотите именно эту вещь. Большая часть рекламы работает через этот механизм с доказанным успехом. Мы с тобой миметические существа.
2. ТРЕУГОЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ
Таким образом, проанализированное желание имеет трех участников: желающий , объект желания и модель/посредник — *не* просто два, желающий и объект. Так почему же обычно кажется, что желание находится только между вами и объектом? Потому что миметическое желание действует на дорациональном уровне.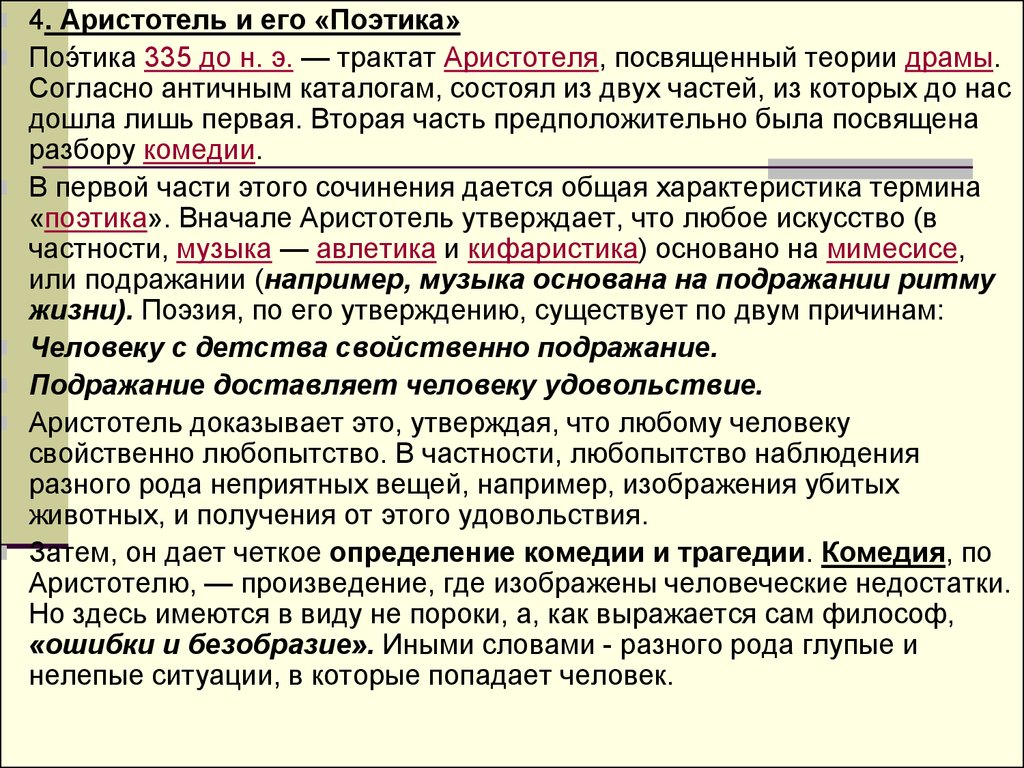 Неврологические исследования показали, что это рефлекторное подражание присутствует даже у новорожденных. Феномен является «предсознательным», схваченным только после более позднего акта рефлексии, если вообще схваченным. В противном случае мы слепы к влиянию наших моделей, снабжающих нас желаниями, и, таким образом, слепы к «подержанному» характеру наших желаний. Жирар называет эту слепоту к роли посредников в происхождении желания (т. е. веру в то, что «я» являюсь источником «моего» желания) «романтическим» заблуждением. Миметическое желание кажется очевидным, когда над ним сознательно размышляют, но такое отражение вовсе не является обычным явлением и, конечно, не является автоматическим.
Неврологические исследования показали, что это рефлекторное подражание присутствует даже у новорожденных. Феномен является «предсознательным», схваченным только после более позднего акта рефлексии, если вообще схваченным. В противном случае мы слепы к влиянию наших моделей, снабжающих нас желаниями, и, таким образом, слепы к «подержанному» характеру наших желаний. Жирар называет эту слепоту к роли посредников в происхождении желания (т. е. веру в то, что «я» являюсь источником «моего» желания) «романтическим» заблуждением. Миметическое желание кажется очевидным, когда над ним сознательно размышляют, но такое отражение вовсе не является обычным явлением и, конечно, не является автоматическим.
3. ПРИОБРЕТИТЕЛЬНЫЙ МИМЕСИС
Среди видов желания есть приобретательное желание , которое также миметично: приобретательный жест у одного человека порождает у другого соответствующее приобретательное желание того же объекта. (Защитные жесты аналогичным образом порождают у других стяжательные желания — хорошо известный феномен «запретного плода». ) Стяжательные желания, подлежащие миметическому отражению, неизбежно привязываются к одному объекту в пределах того же игрового поля и порождают враждебность и насилие. . В таких случаях образец/посредник желания сначала предстает перед своим подражателем препятствием/соперником. (Если миметическая модель не занимает одно и то же «игровое поле», то нет общего объекта и, следовательно, нет конфликтного соперничества. Жирар называет модель «достаточно отдаленной», чтобы избежать соперничества.0009 внешний посредник, в отличие от потенциально соперничающего внутреннего посредника . Важно отметить, что мой посредник сначала будет казаться желающему соперником, препятствием, противником. Опять же, миметический феномен является предсознательным, тогда как соперник как соперник слишком заметно стоит на нашем пути. Реакция на потенциальную (или реальную) попытку соперницы захватить то, что я хочу *всегда* предшествует размышлению, которое могло бы раскрыть истинный источник моего желания: я хочу этого только потому, что этого хочет она.
) Стяжательные желания, подлежащие миметическому отражению, неизбежно привязываются к одному объекту в пределах того же игрового поля и порождают враждебность и насилие. . В таких случаях образец/посредник желания сначала предстает перед своим подражателем препятствием/соперником. (Если миметическая модель не занимает одно и то же «игровое поле», то нет общего объекта и, следовательно, нет конфликтного соперничества. Жирар называет модель «достаточно отдаленной», чтобы избежать соперничества.0009 внешний посредник, в отличие от потенциально соперничающего внутреннего посредника . Важно отметить, что мой посредник сначала будет казаться желающему соперником, препятствием, противником. Опять же, миметический феномен является предсознательным, тогда как соперник как соперник слишком заметно стоит на нашем пути. Реакция на потенциальную (или реальную) попытку соперницы захватить то, что я хочу *всегда* предшествует размышлению, которое могло бы раскрыть истинный источник моего желания: я хочу этого только потому, что этого хочет она. Поместите вместе двух детей с избытком игрушек, и их желание (я) неизбежно зацепится за одну и ту же игрушку, начав перетягивание каната и взаимные возгласы: «Я хотел (или получил) это первым!»
Поместите вместе двух детей с избытком игрушек, и их желание (я) неизбежно зацепится за одну и ту же игрушку, начав перетягивание каната и взаимные возгласы: «Я хотел (или получил) это первым!»
4. СКАНДАЛ
Преследование и защита корыстного желания миметически усиливает желание соперника/образца/препятствия и наоборот, приводя к эскалации конфликта, если только что-то внешнее по отношению к конфликту (например, табу или юридическая власть) заступится или если один из соперников не подчинится или не умрет. Жирар называет эту миметическую эскалацию скандала от греческого слова skandalon , что предполагает «ловушку» или «ловушку». Главной характеристикой скандала является то, что попытки избежать проблемы только усугубляют проблему (аналогично тому, чтобы вытащить ловушку). Примером может служить поведение национального государства, которое воспринимается как находящееся под угрозой со стороны другого национального государства. (Знакомая ситуация?) Его оборонительные приготовления выглядят для соперника агрессивными провокациями, которые только усиливают предполагаемую угрозу. Затем соперник вооружается для защиты, что интерпретируется другой стороной как агрессия, и так далее и тому подобное. Таким образом, действия, которые были предприняты для защиты каждой страны от угрозы, на самом деле увеличили угрозу и подпитывали динамику, которая является опасно самоусиливающейся (например, Европа, около 19 г.14.) Вот ссылка на историю, прекрасно иллюстрирующую феномен скандала.
Затем соперник вооружается для защиты, что интерпретируется другой стороной как агрессия, и так далее и тому подобное. Таким образом, действия, которые были предприняты для защиты каждой страны от угрозы, на самом деле увеличили угрозу и подпитывали динамику, которая является опасно самоусиливающейся (например, Европа, около 19 г.14.) Вот ссылка на историю, прекрасно иллюстрирующую феномен скандала.
5. МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ЖЕЛАНИЕ
Поскольку взаимный интерес к объекту желания порождается человеческим взаимодействием, объекты соперничества могут создаваться из воздуха посредством миметического конфликта. Примеры могут включать престиж, славу или успех. (Т. С. Элиот называет такие вещи «теневым плодом». Их также можно назвать «суетами».) Мне нравится называть эти объекты, порожденные миметической запутанностью, «метафизическими объектами», объектами, объективность которых заключена исключительно в сопротивлении, оказываемом соперниками. . Метафизическое желание , термин Жирара, — это желание обладать качеством «бытия», приписываемым обладателю спорного объекта. Мы относим к гламурным, например. успешные или знаменитые, качество бытия, которого нам не хватает, не подозревая, что они также чувствуют себя неадекватно недостаточными по сравнению с их моделями и так далее.
Мы относим к гламурным, например. успешные или знаменитые, качество бытия, которого нам не хватает, не подозревая, что они также чувствуют себя неадекватно недостаточными по сравнению с их моделями и так далее.
6. ВНУТРЕННЯЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Позор метафизических объектов заключается в том, что желание таких объектов ведет к априорному разочарованию. Устраняя свое препятствие, я также устраняю источник и поддерживатель моего желания и, следовательно, субстанцию рассматриваемого объекта. Это приводит к парадоксу успеха, метко выраженному в шутке Граучо Маркса: «Я не стал бы принадлежать ни к одному клубу, в котором я был бы членом». Метафизические объекты по существу редки и уменьшаются, когда ими делятся. Такая нехватка распространяется даже на материальные объекты. Вопреки предположениям классической экономики, утверждающей, что конкурентная борьба возникает из-за нехватки товаров, возможно, именно конкурентная борьба создает дефицит. И предсказуемо, когда соперник отпадает, заветная вещь теряет свой блеск.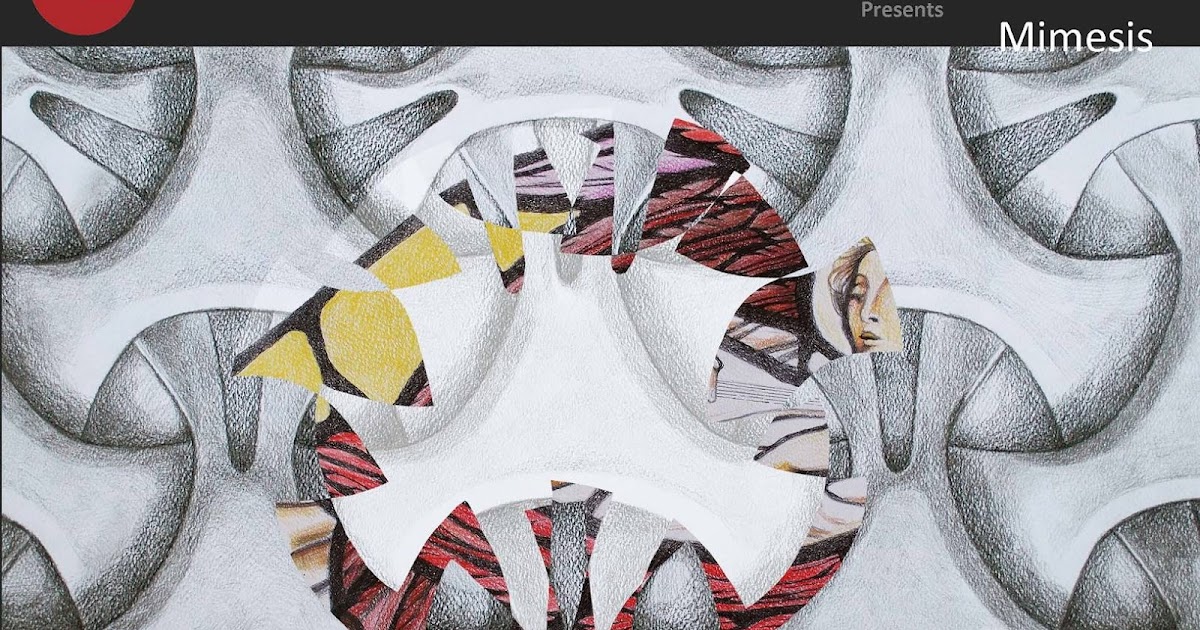 Слова Терри Тэлбота в песне «Stuff» вполне уместны: « Это сокровище, пока оно не мое, тогда оно не стоит ни копейки. ”
Слова Терри Тэлбота в песне «Stuff» вполне уместны: « Это сокровище, пока оно не мое, тогда оно не стоит ни копейки. ”
7. ЖЕРТВЕННЫЙ КРИЗИС
Понятно, что миметическое соперничество является инкубатором и ускорителем человеческого насилия. Миметические силы, не сдерживаемые внешними социальными проверками, приведут к заразным спазмам насилия. Помните, что сильная миметическая склонность человечества является биологической и предсознательной, а не продуктом человеческого размышления. Поэтому происхождение любого общего беспорядка, вызванного распространением миметического соперничества, было бы вообще загадочным, тогда как его последствия очевидны и опасны. Социальные ограничения, которые мы принимаем как должное (полиция, манеры и т. д.), имеют историю, а у каждой истории должна быть предыстория. Учитывая тенденцию миметического соперничества порождать, поддерживать и даже усиливать насилие, возникает вопрос, как человеческая культура в эту предысторию смогла пережить гоббсовскую «войну всех против всех», которая в первую очередь возникает из естественной миметической эскалации.
8. КОЗЕЛ ОТПУСКАНИЯ
Как кризис начинается с миметического заражения, так и он должен миметически заканчиваться. Новое заражение катализируется не приобретательным жестом, а обвинительным жестом. Кого-то произвольно обвиняют в насилии — козла отпущения . Вопросы о том, кто или почему имеют меньшее значение, чем то, что обвинение имитируется. Поскольку обвинение передается посредством миметического заражения через социальное поле, существует естественная тенденция его концентрироваться на единственной жертве. (Это можно продемонстрировать на компьютерных моделях с набором миметических агентов, стремящихся имитировать наиболее воспроизводимый мем.) Насилие «всех против всех» заменяется более экономичным насилием «всех против одного» (или, в формулировке Вергилия, unum pro multis , «один от имени многих»). Все социальные векторы выравниваются, обычно фокусируясь на одной жертве, которую устраняют. Единодушное насилие «лечит» кризис не благодаря насилию как таковому, а благодаря единодушию, рожденному обличающим насилием.
9. POST HOC РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Мир, возникающий в результате поиска козла отпущения насилием, наступит с молниеносной скоростью, поскольку, в отличие от антагонистических рывков миметического объекта, обвинение не встречает сопротивления (кроме все более численно превосходящих и слабых возражений единственного потерпевший). Социальная солидарность переживает смерть жертвы, и переживание массового антагонизма, столь внезапно уступающего место кажущемуся миру, оказывает мощное воздействие на всех участников. Обвинение было прагматически оправдано его предсказанным эффектом — загрязнение было очищено, общество теперь выздоравливает. Post hoc, ergo propter hoc.
10. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ЖЕРТВА
Жертва выбирается произвольными маркерами. Жертва должна быть своеобразной, чтобы ее выделили, и у нее должна отсутствовать защита, чтобы вердикт толпы был единогласным. Козел отпущения, будучи первым, кто выделяется из толпы, является первым «индивидуумом» как в психологическом, так и в социальном отношении. Козел отпущения также является единственным в культуре, кто улавливает ложь, лежащую в основе основного обвинения, — единственный, кто знает «правду» культуры, — что делает его/ее вдвойне угрожающим. Эндрю Маккенна ввел термин «эпистемологическая привилегия жертвы», чтобы обозначить это явление.
Козел отпущения также является единственным в культуре, кто улавливает ложь, лежащую в основе основного обвинения, — единственный, кто знает «правду» культуры, — что делает его/ее вдвойне угрожающим. Эндрю Маккенна ввел термин «эпистемологическая привилегия жертвы», чтобы обозначить это явление.
11. ОБОЖЕДЕНИЕ ЖЕРТВЫ
По словам Жирара, семена первобытной религии здесь, в кажущихся чудесными эффектах, сопровождающих смерть жертвы единодушного насилия. Достигнутый мир отнюдь не является спроецированными фантазиями диких умов, он действительно очень реален, как и предшествовавшая ему опасность неконтролируемого массового насилия. Из-за того, что опасность была такой ненадежной, а избавление было таким внезапным, оставленный труп становится объектом сильного очарования для тех, кому он угрожает и одновременно спасает. (Это объясняет два состояния святого в знаменитой формулировке священной амбивалентности Рудольфа Отто: mysterium tremendum et fascinans ) Поскольку миметические силы невидимы, рассеяны и столь далеко идущие в порождении социального безумия, и поскольку внезапный лечебный эффект убийства в качестве козла отпущения обеспечивает post hoc оправдание (в умах обвинителей) по обвинению убитой жертве приписывают оккультные силы. post mortem обожествление жертвы обществом является естественной кульминацией истории. .
post mortem обожествление жертвы обществом является естественной кульминацией истории. .
12. СВЯЩЕННЫЙ ОРДЕН
Жирар теоретизирует, что эффекты козла отпущения лежат в основе всех человеческих культурных форм, отмечая появление категории Священное. Единство, которое следует за коллективным убийством, очевидно, имеет значение жизни или смерти для основанного им сообщества. Поддержание этого единства и предотвращение миметических сил, которые постоянно угрожают подорвать культуру, по крайней мере, в ее архаической форме. Есть три фирменных компонента священного культурного ордена: .ритуал , запрет и миф .
13. РИТУАЛ
Поскольку убийство козла отпущения излечило первоначальную болезнь, ритуальное повторение этого порождающего события будет использоваться либо для реактивного лечения дальнейших вспышек миметического насилия, либо для их профилактического предотвращения. Это порождает жертвенный ритуал. (Жирар первым адекватно объяснил широкое распространение ритуалов жертвоприношения в человеческих культурах. ) Жирар также считает, что институт священного царствования возникает из-за отсрочки этих обрядов: король — это жертва, приносимая в жертву с условным приговором — оставленная в живых. и считаются божественными, пока царит порядок.
) Жирар также считает, что институт священного царствования возникает из-за отсрочки этих обрядов: король — это жертва, приносимая в жертву с условным приговором — оставленная в живых. и считаются божественными, пока царит порядок.
14. ЗАПРЕТ
Поскольку миметическое желание порождает насилие, возникают запреты, табу и навязываемые различия (возможно, посредством своего рода естественного отбора), которые действуют как брандмауэры против распространения миметического соперничества. Например, табу на инцест предотвращает развитие деструктивного соперничества из-за ближайших доступных сексуальных партнеров в семьях. Жирар указывает, что именно сходство, а не различие побуждает одного человека подражать другому. (Это объясняет примитивный страх перед близнецами во многих ранних культурах.) Священные различия, такие как кастовые системы, помогают предотвратить, например, миметическое усиление использования королевской власти. Утрата или ослабление таких табу/различий (то, что Жирар называет кризис различий ) может привести к новым спазмам миметического насилия. Одним из таких различий является король/подданный. Необычность жертвы и необычность монарха не могут быть совпадением — Жирар теоретизирует, что происхождение короля — это «жертва с условным приговором». Гипотеза состоит в том, что козел отпущения способен до своего убийства использовать свой священный статус перед смертью, согласившись использовать свои «силы» для общества в обмен на свою жизнь и подтверждение своей священной роли.
Одним из таких различий является король/подданный. Необычность жертвы и необычность монарха не могут быть совпадением — Жирар теоретизирует, что происхождение короля — это «жертва с условным приговором». Гипотеза состоит в том, что козел отпущения способен до своего убийства использовать свой священный статус перед смертью, согласившись использовать свои «силы» для общества в обмен на свою жизнь и подтверждение своей священной роли.
15. МИФ
Мифы — это повествования, в которых осмысливается событие основания и последующие ритуалы, воссоздающие сцену основания. Мифы служат для преодоления произвольности выбора жертвы, заменяя его видимостью необходимости и оправдания. Жирар считает, что в основе мифических повествований можно разглядеть следы первоначального насилия. Жирар также считает, что мифические истории, если рассматривать их через призму миметической теории, раскрывают в разных культурах первоначальный акт насилия «козла отпущения». Успех системы жертвоприношений основывается на общей вере в обоснованность первоначального обвинения и оправдывающего мифа.
16. ИНТЕРДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Антропология Жирара подразумевает, что человеческая субъективность по существу децентрирована. Миметическая теория заменяет понятие индивидуума как первого принципа социального анализа радикальным понятием интердивидуальности , которое выходит за пределы дихотомии самость/общество. Желания располагаются между миметическими партнерами; они не размещены точно внутри одного или другого.
17. ОККУЛЬТНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Поскольку желание изменчиво и заразно, а не является фиксированным или самоопределяемым, в человеческом обществе могут появляться силы, превосходящие конкретных агентов, часто проявляющиеся как оккультные явления (например, одержимость демонами, месмеризм) или психологические болезни (например, истерия). (См. работу Жана-Мишеля Угурляна, Кукла Желания , за хорошее изучение таких явлений.) Заразный микроб, передаваемый между миметическими субъектами, также можно назвать «мемом».
18. НАЧАЛА И ВЛАСТИ
Поскольку институты и социальные формы в значительной степени являются продуктом порядка, основанного на миметической динамике, они представляют собой объективацию межиндивидуальной ситуации, выражения чего-то вроде миметического поля с градациями притяжения и отталкивание. Эти «Силы» не управляются и не контролируются каким-либо конкретным человеческим агентом, а сами являются квазиагентами. Люди действуют исходя из своих желаний, но эти желания создаются, формируются и формируются Силами, которые содержат их и противостоят им. Признанная человеческая власть, такая как правитель, является результатом Силы, а не Силы правителя.
Эти «Силы» не управляются и не контролируются каким-либо конкретным человеческим агентом, а сами являются квазиагентами. Люди действуют исходя из своих желаний, но эти желания создаются, формируются и формируются Силами, которые содержат их и противостоят им. Признанная человеческая власть, такая как правитель, является результатом Силы, а не Силы правителя.
19. САТАНА
Центральная Власть, та, которая основывает существующие социальные устройства, есть сила самого обвинения. «Сатана» означает обвинитель, обвинитель. Основой порядка на протяжении большей части истории было насилие с поиском козла отпущения и миметически привлекательная сила обвинения. Об обвинении можно было бы сказать то же, что Гераклит сказал о войне, — что она «отец и царь всего, и сделала одних богами, а других людьми, и сделала одних рабами, а других свободными». Иисус называет сатану «правителем мира сего» в Иоанна 12:31. Сатана, хотя и очень реален, не является личностью в строгом смысле этого слова, а является тем, что Роберт Хаммертон-Келли назвал «генеративным миметическим механизмом поиска козла отпущения», свойством всех человеческих обществ.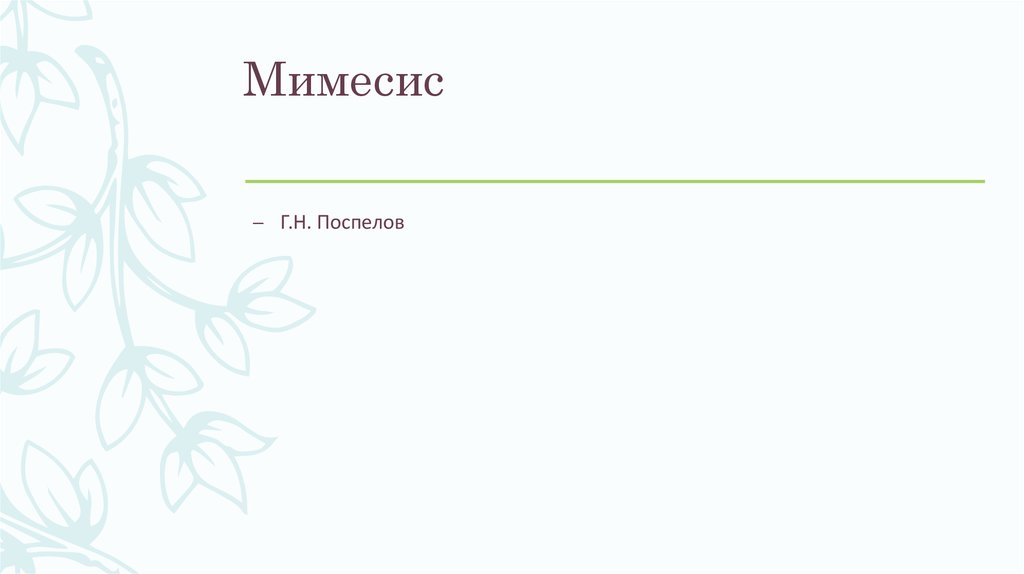
20. РАЗОБЛАЧЕНИЕ СИЛ
Успех системы жертвоприношений основывается на общей вере в обоснованность первоначального обвинения и оправдывающего мифа. Поскольку вина первоначальной жертвы — это ложь в глубине души, любое повествование, разоблачающее ложь, ослабит/уничтожит Силу и разрушит культуру, основанную на ней. Опять же, Жирар проводит различие между (1) нарративом, который маскирует и пропагандирует основополагающую ложь, и (2) нарративом, который ее разоблачает и деконструирует. Первый он называет мифом 9.0010 и последний евангелие . В то время как мифы написаны с точки зрения преследователей, евангельские рассказы отдают предпочтение свидетельству невинной жертвы. Евангелие черпает свой свет из «эпистемологической привилегии жертвы», описанной ранее.
21. СТРУКТУРНАЯ НЕВИННОСТЬ
Один из видов невиновности — это структурная невинность — идея о том, что даже виновный в судебном порядке человек может быть «невиновной» жертвой насилия с целью поиска козла отпущения — особенно если цель насилия больше связана с поддержание социальных различий, чем с наказанием за преступление. В этом смысле чернокожего человека, линчеванного на Старом Юге за кражу лошади, следует рассматривать в свете «структурной невиновности», независимо от того, украл ли он лошадь. Точно так же жертва суда структурно невиновна, если цель обвинения состоит в том, чтобы сохранить видимость относительной праведности обвинителя за счет обвиняемого. (Камю: «Чтобы оправдать себя, каждый полагается на преступления другого».)
В этом смысле чернокожего человека, линчеванного на Старом Юге за кражу лошади, следует рассматривать в свете «структурной невиновности», независимо от того, украл ли он лошадь. Точно так же жертва суда структурно невиновна, если цель обвинения состоит в том, чтобы сохранить видимость относительной праведности обвинителя за счет обвиняемого. (Камю: «Чтобы оправдать себя, каждый полагается на преступления другого».)
22. ОСЛАБЛЕНИЕ ЖЕРТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
Забота о жертве qua жертва, возникшая в человеческой культуре, делает жертвенные решения социальных беспорядков все менее и менее эффективными, поскольку оправдание жертвы разрушает миф, оправдывающий насилие. Каждое открытие, раскрывающее механизм виктимизации, полностью разрушает/трансформирует основанное на нем общество — современность обнажает виктимизацию, скрытую в гегемонии церковной власти; постмодерн раскрывает жертвенный характер основополагающих метанарративов модерна и т. д.
23. АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Беспокойство о жертвах насилия с козлами отпущения имеет извращенный эффект, увеличивая угрозу и масштабы новых вспышек насилия, поскольку жертвенные механизмы, которые в противном случае удерживали бы их, не могут выжить, будучи прозрачными. Греческое слово апокалипсис (этимологически: «раскрытие») указывает как на это откровение, так и на окончательное насилие, которое порождается таким откровением. Учитывая наши законные моральные сомнения по поводу механизмов поиска козлов отпущения и учитывая призрак апокалиптического насилия, ставшего возможным благодаря ослаблению или утрате этих механизмов, для нашего выживания как вида кажется более необходимым, чем когда-либо, открывать и моделировать неконкурентные, не жертвенные способы жить. Оден: «Мы должны любить друг друга или умереть».
Греческое слово апокалипсис (этимологически: «раскрытие») указывает как на это откровение, так и на окончательное насилие, которое порождается таким откровением. Учитывая наши законные моральные сомнения по поводу механизмов поиска козлов отпущения и учитывая призрак апокалиптического насилия, ставшего возможным благодаря ослаблению или утрате этих механизмов, для нашего выживания как вида кажется более необходимым, чем когда-либо, открывать и моделировать неконкурентные, не жертвенные способы жить. Оден: «Мы должны любить друг друга или умереть».
24. РЕШЕНИЕМ МИМЕЗИСА БУДЕТ МИМЕЗИС
Жирар считает, что люди не могут избежать своей миметической природы и что (романтические) попытки обойти миметические влияния (например, Руссо, Хайдеггер) в конечном счете скандальны — мы просто в конечном итоге играем в одну и ту же миметическую игры более высокого уровня. Лекарством от миметически производимого насилия будет миметически передаваемое стремление к миру. Моделью/лекарством должен быть кто-то, кто преодолел соблазн сделать насилие козлом отпущения, но кто?
Книги для дальнейшего изучения темы миметического желания:
«Обман, желание и роман» Рене Жирара — первая книга, раскрывающая этот феномен на примерах из великой европейской литературы.
Театр зависти Рене Жирара — сборник эссе о Шекспире, которого Жирар считает первым автором, действительно понявшим динамику миметического желания.
Козел отпущения Рене Жирар — исследует миметическое происхождение козла отпущения и его важность для основания культуры.
The Girard Reader Рене Жирара под редакцией Джеймса Виллимаса — содержит множество статей, интервью и заметок, написанных Жираром и совместно с ним.
Под завесой странных стихов: чтение скандальных текстов Иеремии Олберга — исследует значение феномена скандала через призму выдающихся западных мыслителей и текстов. Скандал — недооцененная тема, слишком важная, чтобы не понимать ее во всех ее проявлениях. Книга Альберга помогает понять и эту важность, и эти обличья. Ссылка здесь.
Разоблачение насилия: Человечество на перекрестке Гила Бэйли — удобочитаемое приложение мысли Жирара к человеческой культуре и психологии — изобилующее полезными иллюстрациями и примерами.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Часто задаваемые вопросы по миметической теории — The Raven Foundation
Часто задаваемые вопросы по миметической теории
В. Почему важна миметическая теория?
A. Миметическая теория важна, потому что она позволяет нам ясно и честно думать о величайшей угрозе человеческому выживанию: нашем собственном насилии. Он предлагает наилучший доступный анализ причин конфликтов, распространения насилия и повсеместного использования отдельных лиц и сообществ в качестве козлов отпущения. Но его непреходящая ценность заключается в том, что он предлагает руководство, как положить конец чуме насилия и установить настоящий и прочный мир.
Подробнее о миметической теории
В. Что такое миметическая теория?
A. Миметическая теория объясняет роль насилия в человеческой культуре, используя подражание в качестве отправной точки. «Миметический» — это греческое слово, означающее подражание, и Рене Жирар, человек, предложивший эту теорию более 50 лет назад, решил использовать его, потому что хотел предложить нечто большее, чем точное копирование. Это потому, что наш миметизм — сложное явление. Подражание человеку не статично, оно ведет к эскалации и является отправной точкой для инноваций. Великая проницательность Жирара заключалась в том, что подражание является источником соперничества и конфликтов, которые угрожают разрушить сообщества изнутри. Поскольку мы всему учимся через подражание, в том числе тому, чего желать, наши общие желания могут привести нас к конфликту. Поскольку мы соревнуемся за обладание объектом, который всем нам нужен, конфликт может привести к насилию, если этот объект нельзя разделить или, что более вероятно, если мы откажемся поделиться им с нашими соперниками.
Это потому, что наш миметизм — сложное явление. Подражание человеку не статично, оно ведет к эскалации и является отправной точкой для инноваций. Великая проницательность Жирара заключалась в том, что подражание является источником соперничества и конфликтов, которые угрожают разрушить сообщества изнутри. Поскольку мы всему учимся через подражание, в том числе тому, чего желать, наши общие желания могут привести нас к конфликту. Поскольку мы соревнуемся за обладание объектом, который всем нам нужен, конфликт может привести к насилию, если этот объект нельзя разделить или, что более вероятно, если мы откажемся поделиться им с нашими соперниками.
Жирар считает, что в начале человеческой эволюции мы научились контролировать внутренние конфликты, проецируя наше насилие за пределами сообщества на козла отпущения. Это было настолько эффективно, что с тех пор мы продолжаем использовать козла отпущения для контроля над насилием. Успешное использование козла отпущения зависит от веры сообщества в то, что они нашли причину и лекарство от своих проблем в этом «враге». Как только враг уничтожен или изгнан, сообщество действительно испытывает чувство облегчения и восстанавливается спокойствие. Но спокойствие временное, поскольку козел отпущения на самом деле не был причиной или лекарством конфликта, приведшего к его изгнанию. Когда подражание снова приводит к внутреннему конфликту, который неизбежно перерастает в насилие, человеческие сообщества находят другого козла отпущения и повторяют процесс снова и снова.
Как только враг уничтожен или изгнан, сообщество действительно испытывает чувство облегчения и восстанавливается спокойствие. Но спокойствие временное, поскольку козел отпущения на самом деле не был причиной или лекарством конфликта, приведшего к его изгнанию. Когда подражание снова приводит к внутреннему конфликту, который неизбежно перерастает в насилие, человеческие сообщества находят другого козла отпущения и повторяют процесс снова и снова.
Читая древние мифы, Жирар понял, что древние религии жертвоприношений возникли в результате попытки сообщества ритуализировать лечение козла отпущения. Запреты запрещали миметическую зависть и соперничество, ведущие к конфликту; ритуальные жертвоприношения воссоздавали изгнание или смерть козла отпущения. Читая Библию, Жирар понял, что иудео-христианская традиция раскрывает невиновность козла отпущения и тем самым делает древнюю религию неэффективной. Последние 2000 лет являются свидетелями попыток человечества найти не жертвенные способы контролировать наше соперничество и конфликты. Христианская апокалиптическая литература предсказывает, что мы не сможем этого сделать. Таким образом, поиск путей формирования единства и смягчения конфликтов без использования козлов отпущения является ключом к установлению реального и прочного мира.
Христианская апокалиптическая литература предсказывает, что мы не сможем этого сделать. Таким образом, поиск путей формирования единства и смягчения конфликтов без использования козлов отпущения является ключом к установлению реального и прочного мира.
Миметическое желание
В. Что Жирар подразумевает под «желанием»? Относится ли это к сексуальному желанию?
A. Когда мы слышим слово «желание», мы часто думаем о сексуальном желании, но в миметической теории это нечто большее. Полезно знать разницу между потребностями и желаниями. Потребности инстинктивны, а желания познаются посредством мимесиса (подражания). Секс, например, является биологической потребностью, но, подражая желаниям других, мы обнаруживаем, что устремлены к определенному сексуальному партнеру. Вот почему два друга могут в конечном итоге желать одного и того же любовника — они миметически разделяют свое желание. Что важно с точки зрения Жирара, так это то, что для людей объект желания не фиксирован.
Подробнее о миметическом желании
Например, когда коровы (не люди) голодны (биологическая потребность), они едят траву. Им не приходится решать, что им есть, объект их потребности в пище фиксирован и неизменен — это трава и всегда будет травой. Для людей, когда мы чувствуем голод, нам нужно принять важное решение! Мы должны выбрать объект, который удовлетворит наше желание пищи, и объект может меняться изо дня в день, от часа к часу, в зависимости от того, чье желание влияет на наше в данный момент. На самом деле иногда мы едим совсем не для того, чтобы утолить голод. Коровы так не делают!
Работа Жирара основана на часто скрытой реальности, что человеческие желания бесцельны. Он хочет, не зная, какова его цель. Вот почему для Жирара наше желание всегда связано с другим человеком, книгой, рекламодателем, учителем, фильмом — с чем-то, что дает нашему желанию направление. Он говорит это очень просто: мы желаем согласно желанию другого.
В. Миметическое желание — это хорошо или плохо?
А. Миметическое желание — человеческая вещь. Разница между людьми и нашими ближайшими предками-приматами не в том, что обезьяны подражают, а в нас нет, а в том, что у нас это получается лучше, чем у них! Люди — удивительно хорошие подражатели, и взрыв наших миметических способностей дал толчок нашему эволюционному развитию. У людей есть инструменты, сельское хозяйство, язык, память, технология, наука, религия, литература, драма, изобразительное искусство — все элементы культуры, потому что мы лучшие подражатели. Мы не привязаны к узкому набору инстинктивного поведения. Вместо этого мы можем свободно исследовать мир вокруг нас, учиться на собственном опыте, извлекать пользу из общих знаний, которые можно передавать из поколения в поколение. Без способности подражать не было бы ни человеческой культуры, ни человечества, каким мы его знаем. Это звучит как хорошая вещь!
Миметическое желание — человеческая вещь. Разница между людьми и нашими ближайшими предками-приматами не в том, что обезьяны подражают, а в нас нет, а в том, что у нас это получается лучше, чем у них! Люди — удивительно хорошие подражатели, и взрыв наших миметических способностей дал толчок нашему эволюционному развитию. У людей есть инструменты, сельское хозяйство, язык, память, технология, наука, религия, литература, драма, изобразительное искусство — все элементы культуры, потому что мы лучшие подражатели. Мы не привязаны к узкому набору инстинктивного поведения. Вместо этого мы можем свободно исследовать мир вокруг нас, учиться на собственном опыте, извлекать пользу из общих знаний, которые можно передавать из поколения в поколение. Без способности подражать не было бы ни человеческой культуры, ни человечества, каким мы его знаем. Это звучит как хорошая вещь!
В. Как подражательное желание приводит к конфликту?
A. Поскольку все желания миметичны, они также треугольны. Вопреки распространенному мнению, объекты не имеют внутренней ценности, и наши желания не возникают спонтанно внутри нас. Наше желание не привязано ни к какому конкретному объекту и поэтому зависит от модели, которая может направить его к объекту. Другими словами, между нами и объектом нашего желания никогда не бывает прямой линии — наши желания копируются с моделей или посредников, чьи объекты желания становятся нашими объектами желания. Но модель или посредник, которому мы подражаем, может стать нашим соперником, если мы желаем того же объекта, который, как воображается, он имеет. Или другие имитаторы той же модели могут конкурировать с нами за те же объекты. Чем сильнее эти модели становятся соперниками, желающими получить объект, тем больше возрастает мое желание. В этой миметической ситуации неизбежно возникают ревность и зависть.
Вопреки распространенному мнению, объекты не имеют внутренней ценности, и наши желания не возникают спонтанно внутри нас. Наше желание не привязано ни к какому конкретному объекту и поэтому зависит от модели, которая может направить его к объекту. Другими словами, между нами и объектом нашего желания никогда не бывает прямой линии — наши желания копируются с моделей или посредников, чьи объекты желания становятся нашими объектами желания. Но модель или посредник, которому мы подражаем, может стать нашим соперником, если мы желаем того же объекта, который, как воображается, он имеет. Или другие имитаторы той же модели могут конкурировать с нами за те же объекты. Чем сильнее эти модели становятся соперниками, желающими получить объект, тем больше возрастает мое желание. В этой миметической ситуации неизбежно возникают ревность и зависть.
Еще одной важной причиной конфликтов является гордость. Поскольку нам нравится верить в свою независимость, даже в независимость наших желаний, мы отрицаем, что наш соперник также является нашим образцом. Он кажется лишь преднамеренным врагом, решившим из злобы помешать исполнению моего желания, и потому моя ненависть и зависть кажутся вполне оправданными. Вместо того чтобы признать, насколько мы похожи на уровне желаний (основа дружбы), мы лелеем обиду, которая льстит нашему ложному чувству превосходства.
Он кажется лишь преднамеренным врагом, решившим из злобы помешать исполнению моего желания, и потому моя ненависть и зависть кажутся вполне оправданными. Вместо того чтобы признать, насколько мы похожи на уровне желаний (основа дружбы), мы лелеем обиду, которая льстит нашему ложному чувству превосходства.
В. Я выбираю свои модели или это бессознательный процесс?
A. Образцы желаний окружают нас повсюду и могут быть реальными людьми в нашей жизни, воображаемыми персонажами из романов или фильмов или влияниями нашей культуры, такими как музыка, вкусы в еде, стили одежды, ценности и религиозные или политические убеждения. . Иногда мы открыто говорим о наших моделях, например, когда признаем кого-то учителем, наставником или источником вдохновения. Но часто наши модели неизвестны или непризнаны. Мы можем не знать или отрицать их влияние на нас, или мы можем воспринимать их как соперников или врагов. Или наставник может стать соперником, когда наше взаимное восхищение превращается в соперничество из-за желанного приза, который мы оба научились страстно желать друг от друга. Как ни странно, соперничество с образцом и скрывает, и усиливает их роль как нашего образца. Жирар называет это миметическим соперничеством, потому что это конфликт, возникающий из разделяемого или имитируемого желания.
Как ни странно, соперничество с образцом и скрывает, и усиливает их роль как нашего образца. Жирар называет это миметическим соперничеством, потому что это конфликт, возникающий из разделяемого или имитируемого желания.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
Поиск козла отпущения
В. Что такое поиск козла отпущения?
A. Поиск козла отпущения — необычное явление, потому что мы распознаем его, когда видим в других, но никогда в себе. Козлы отпущения других людей кажутся невинными жертвами, ложно обвиненными в правонарушениях, и это действительно так. Но наши собственные козлы отпущения кажутся нам виновными злодеями, заслуживающими нашей ненависти и наказания, которое мы справедливо назначаем им. Мы всегда видим невиновность козлов отпущения других людей, но не свою собственную. Вот почему мы все всегда рискуем причинить вред невиновному человеку или группе, даже не осознавая этого.
Подробнее о назначении козлов отпущения
В. Какую пользу приносит сообществу назначение козлов отпущения?
Какую пользу приносит сообществу назначение козлов отпущения?
A. Поиск козла отпущения — это старинный способ найти выход из внутреннего конфликта, вызванного миметическим соперничеством. В беспорядке в группе обвиняют козла отпущения, и когда его изгоняют или убивают, мир возвращается. Вот как это работает: пока сообщество поглощено конфликтом, возникает много мелких ссор и конфликтов, вокруг витает много обвинений. Но когда один человек выдвигает обвинение, которое повторяется и имитируется, распространяясь подобно заразе по всему сообществу, вскоре все объединяются вокруг одного и того же обвинения, против одного и того же козла отпущения. В этом смысле Жирар говорит, что козла отпущения выбирают произвольно — почему имитируется это обвинение, а не то? Потому что это не имеет значения, на самом деле. Подойдет любой козел отпущения, потому что цель состоит не в том, чтобы на самом деле решить проблемы, вызвавшие конфликт, а в том, чтобы позволить группе безопасно выплеснуть свое негодование и враждебность таким образом, чтобы объединить сообщество, а не разрушить его.
Как только возникает единодушие против козла отпущения, сообщество забывает о собственных моральных недостатках и разочарованиях друг в друге. Теперь у них общее дело — устранить того, кто, как они теперь считают, вызвал все эти проблемы, — что создает единство и социальную сплоченность для всех, кроме козла отпущения! Жирар называет это «единодушие минус один» и является сокращенной формулой поиска козлов отпущения. Между прочим, древние евреи настолько подозрительно относились к единогласию минус один, что если кого-то обвиняли в преступлении и приговор был единогласным, обвиняемый освобождался!
В. Каковы характеристики козла отпущения?
A. Важность козла отпущения в том, что он прекращает конфликт из-за миметического соперничества, объединяя других против него. Чтобы конфликтующие лица или группы могли объединиться против козла отпущения, они должны быть в состоянии до некоторой степени идентифицировать себя лично с козлом отпущения, но они не должны идентифицировать себя настолько сильно, чтобы встать на его защиту. У козла отпущения есть определенные черты, которые изолируют его или ее на обочине общества. У него не должно быть семьи, друзей или социальных связей, которые будут отстаивать его интересы или пытаться отомстить за его смерть. Таким образом, виктимизация козла отпущения не приводит к социальным репрессиям, которые привели бы к эскалации конфликта. История показывает тенденцию большинства в обществе делать козлом отпущения маргинализованное меньшинство из-за культурных, гендерных, физических и/или религиозных различий.
У козла отпущения есть определенные черты, которые изолируют его или ее на обочине общества. У него не должно быть семьи, друзей или социальных связей, которые будут отстаивать его интересы или пытаться отомстить за его смерть. Таким образом, виктимизация козла отпущения не приводит к социальным репрессиям, которые привели бы к эскалации конфликта. История показывает тенденцию большинства в обществе делать козлом отпущения маргинализованное меньшинство из-за культурных, гендерных, физических и/или религиозных различий.
С другой стороны, козел отпущения не обязательно должен быть слабым. Суть в том, что козел отпущения изолирован, у него мало защитников. Часто обезумевшая толпа может восстать против могущественных членов общества, таких как король, военный генерал или президент, которых легко можно обвинить во всех бедах общества. Затем происходит восстание или переворот.
Что еще интереснее, козел отпущения может быть действительно виновен в преступлении и по-прежнему действовать как козел отпущения. Использование козла отпущения не является вопросом невиновности или вины согласно закону. Если сообщество устанавливает единство, выплескивает обиду или скрывает истинные причины своего конфликта, объединяясь против кого-то или какой-то группы, то это дело поиска козла отпущения независимо от того, действительно ли козел отпущения виновен в нарушении закона. Потому что козел отпущения является козлом отпущения в силу своей невиновности в том, что он является причиной проблем сообщества. Виновный в преступлении, но невиновный в проблемах общества — это реальная возможность, когда дело доходит до поиска козла отпущения.
Использование козла отпущения не является вопросом невиновности или вины согласно закону. Если сообщество устанавливает единство, выплескивает обиду или скрывает истинные причины своего конфликта, объединяясь против кого-то или какой-то группы, то это дело поиска козла отпущения независимо от того, действительно ли козел отпущения виновен в нарушении закона. Потому что козел отпущения является козлом отпущения в силу своей невиновности в том, что он является причиной проблем сообщества. Виновный в преступлении, но невиновный в проблемах общества — это реальная возможность, когда дело доходит до поиска козла отпущения.
В. Как поиск козла отпущения работает на индивидуальном уровне?
A. Козлы отпущения действуют индивидуально на уровне личности. Слишком часто наша идентичность и, в частности, наше чувство собственного достоинства зависят от того, что мы стоим против кого-то или чего-то другого. Мы часто противопоставляем свое добро чьему-то злу, и если мы так поступаем, то это случай поиска козла отпущения. Почему? Потому что нам нужно, чтобы другие были злыми, чтобы знать, что мы хорошие, и не имеет значения, действительно ли они злые. Мы используем других, чтобы укрепить нашу идентичность, точно так же, как сообщество использует козла отпущения для разрешения своего внутреннего конфликта. Мы видим это в формировании политической, религиозной, национальной и культурной идентичности. Некоторые республиканцы демонизируют демократов, чтобы знать, что они хорошие, и наоборот. Некоторые мусульмане демонизируют христиан и наоборот. В случаях с козлами отпущения мы не слушаем друг друга, потому что не хотим видеть страдания нашего козла отпущения или намеки на его доброту. Эти вещи могут ослабить наше обвинение против него, и тогда наше чувство добра сломается.
Почему? Потому что нам нужно, чтобы другие были злыми, чтобы знать, что мы хорошие, и не имеет значения, действительно ли они злые. Мы используем других, чтобы укрепить нашу идентичность, точно так же, как сообщество использует козла отпущения для разрешения своего внутреннего конфликта. Мы видим это в формировании политической, религиозной, национальной и культурной идентичности. Некоторые республиканцы демонизируют демократов, чтобы знать, что они хорошие, и наоборот. Некоторые мусульмане демонизируют христиан и наоборот. В случаях с козлами отпущения мы не слушаем друг друга, потому что не хотим видеть страдания нашего козла отпущения или намеки на его доброту. Эти вещи могут ослабить наше обвинение против него, и тогда наше чувство добра сломается.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
Религия
В. Какую роль козлы отпущения играли в древних религиях жертвоприношений?
A. Жирар выдвигает гипотезу о том, что спонтанный феномен поиска козлов отпущения возникал снова и снова в ранних проточеловеческих группах и в конечном итоге превратился в ритуальные практики древних жертвоприношений. Это использование ритуализированного поиска козла отпущения для управления конфликтом и установления единства сделало культуру возможной. Часто считается, что древние религии возникли из-за ошибочного или бредового мышления и были ненужными дополнениями к человеческой эволюции. Жирар считает обратное: древние жертвенные религии были невероятно разумными и реалистичными и абсолютно необходимыми для человеческого развития. Без мира и единства ни одна община ничего не может сделать; они распадаются, прежде чем они могут вводить новшества. А мир и единство — это именно то, что давали древние жертвоприношения.
Это использование ритуализированного поиска козла отпущения для управления конфликтом и установления единства сделало культуру возможной. Часто считается, что древние религии возникли из-за ошибочного или бредового мышления и были ненужными дополнениями к человеческой эволюции. Жирар считает обратное: древние жертвенные религии были невероятно разумными и реалистичными и абсолютно необходимыми для человеческого развития. Без мира и единства ни одна община ничего не может сделать; они распадаются, прежде чем они могут вводить новшества. А мир и единство — это именно то, что давали древние жертвоприношения.
Подробнее об эволюции религии
Использование козла отпущения также является источником явно противоречивой природы древних богов, которые часто представляют как хорошие, так и плохие качества в одном божестве. Это имеет смысл, если вы понимаете, что после устранения козла отпущения (ритуализированного в жертву) чудесным образом обнаруживается, что козел отпущения является божеством, которое восстанавливает порядок и мир. Таким образом, боги представляют собой принцип порядка и беспорядка, принцип, который контролирует вспышки насилия внутри сообщества, совершая небольшие акты насилия против изолированной жертвы или группы жертв.
Таким образом, боги представляют собой принцип порядка и беспорядка, принцип, который контролирует вспышки насилия внутри сообщества, совершая небольшие акты насилия против изолированной жертвы или группы жертв.
В. Что такое миф?
A. Современные ученые склонны считать мифы полностью выдуманными, сфабрикованными историями, возникшими из примитивного разума раннего человека. Часто считается, что сначала появились мифы, а затем из этих историй развились ритуалы и жертвоприношения. Для Жирара на первом месте всегда стоит реальность спонтанного козла отпущения. Это насилие приносит мир конфликтному сообществу, и со временем ритуалы, которые повторяют насилие против козла отпущения в контролируемой форме, становятся превентивными мерами против возвращения насилия. Мифы — это истории, рассказываемые сообществом, чтобы оправдать использование ритуального насилия над жертвой.
Цель мифа — скрыть истину о невиновности жертвы, потому что для того, чтобы жертва была эффективной, общество должно верить в виновность жертвы (так же, как это было, когда поиск козла отпущения происходил спонтанно), Поэтому миф возлагает вину исключительно на жертву, на сторону сообщества или толпы. Миф далее оправдывает себя, демонизируя жертву как единственный источник заразного насилия и беспорядка в обществе. Таким образом, для Жирара миф — это в лучшем случае только половина истории: общество действительно испытывает чувство облегчения и восстановления мира, когда жертва приносится в жертву. Но миф также скрывает более глубокую правду о том, что жертва была выбрана произвольно, невиновна в проблемах общества и несправедливо казнена.
Миф далее оправдывает себя, демонизируя жертву как единственный источник заразного насилия и беспорядка в обществе. Таким образом, для Жирара миф — это в лучшем случае только половина истории: общество действительно испытывает чувство облегчения и восстановления мира, когда жертва приносится в жертву. Но миф также скрывает более глубокую правду о том, что жертва была выбрана произвольно, невиновна в проблемах общества и несправедливо казнена.
В. Является ли христианство примером мифа?
A. Христианство часто критикуют просто как пример другого древнего мифа, в котором фигурирует умирающий и воскресающий бог. Однако для Жирара именно христианство разрушает способность мифа скрывать невиновность жертвы. В христианском повествовании жертва насилия толпы невиновна, ложно обвинена как религиозными, так и светскими властями и казнена при самых постыдных обстоятельствах. В Христе нет двойственности, как в богах мифов: Иисус не изображается как причина проблем общества, но всегда изображается невиновным, несмотря на обвинения против него. Жирар сказал, что тайное сердце священного — это само насилие. Он также сказал, что христианское евангелие раскрывает, что тайное сердце Бога ненасильственно, самоотверженно до самой смерти. Довольно контраст!
Жирар сказал, что тайное сердце священного — это само насилие. Он также сказал, что христианское евангелие раскрывает, что тайное сердце Бога ненасильственно, самоотверженно до самой смерти. Довольно контраст!
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
Решение проблемы насилия
В. Что, если самой большой угрозой, с которой мы сталкиваемся, является наше собственное насилие?
A. В наши дни нет недостатка в глобальных проблемах, которые, кажется, угрожают самому существованию нашего вида. Экологическая катастрофа, терроризм, несостоявшиеся государства, войны, беженцы и неустойчивая экономика — все это представляет собой серьезную угрозу. Тем не менее, согласно миметической теории, самая большая угроза для любого сообщества исходит не от внешнего врага, а от эскалации насилия из-за миметического соперничества внутри самого сообщества.
Подробнее о решении проблемы насилия
Это связано с нашей миметической природой. Миметическое желание неизбежно ведет к конфликту, который может перерасти в то, что Гоббс называл войной всех против всех. В то время как внешние враги могут время от времени угрожать сообществу, сообщество вообще не существовало бы, если бы оно не могло решить проблему собственного насилия. Самое главное, чтобы объединиться для решения проблем глобального потепления, жестоких врагов, разрушений, вызванных войной, и экономических последствий глобализации, мы должны найти способ преодолеть обиды и внутренние конфликты. Если мы не сможем работать вместе, мы поддадимся угрозам и проблемам, которые можно было бы преодолеть.
Миметическое желание неизбежно ведет к конфликту, который может перерасти в то, что Гоббс называл войной всех против всех. В то время как внешние враги могут время от времени угрожать сообществу, сообщество вообще не существовало бы, если бы оно не могло решить проблему собственного насилия. Самое главное, чтобы объединиться для решения проблем глобального потепления, жестоких врагов, разрушений, вызванных войной, и экономических последствий глобализации, мы должны найти способ преодолеть обиды и внутренние конфликты. Если мы не сможем работать вместе, мы поддадимся угрозам и проблемам, которые можно было бы преодолеть.
В. Разве насилие не хорошо, когда оно побеждает нашего врага?
A. Самое распространенное мнение о насилии состоит в том, что если оно используется добрыми людьми во благо против злого врага, то оно не только хорошо, оно необходимо и благородно.
К сожалению, это рассуждение ошибочно и корыстно. Все люди, применяющие насилие, делают это, веря в свою доброту, в справедливость своего дела и в злобность своего врага. Способность осуждать насилие наших врагов, оправдывая те же действия, когда мы их совершаем, является продуктом феномена поиска козлов отпущения. Когда обществу угрожает насилие, изнутри или снаружи (что мы считаем плохим насилием), изгнание или убийство невинной жертвы восстанавливает единство и мир (что мы считаем хорошим насилием). Поскольку козлы отпущения создают это временное спокойствие, вера в хорошее насилие была частью человеческой культуры с момента ее основания.
Способность осуждать насилие наших врагов, оправдывая те же действия, когда мы их совершаем, является продуктом феномена поиска козлов отпущения. Когда обществу угрожает насилие, изнутри или снаружи (что мы считаем плохим насилием), изгнание или убийство невинной жертвы восстанавливает единство и мир (что мы считаем хорошим насилием). Поскольку козлы отпущения создают это временное спокойствие, вера в хорошее насилие была частью человеческой культуры с момента ее основания.
Однако насилие хорошо только с точки зрения выживших, тех, кто выиграл от насилия. Если бы вы могли спросить мнение мертвого или сосланного козла отпущения, он заявил бы о своей невиновности и осудил бы насилие сообщества. Но его голос был заглушен, и поэтому в сообществе не осталось никого, кто мог бы усомниться в совершенстве насилия. Когда внутренние разногласия и конфликты вернутся, а это неизбежно, в качестве решения снова будет использоваться насилие.
В. Как сделать мир более мирным?
Насилие остается проблемой для человечества, потому что хорошие люди продолжают применять насилие для достижения мира. Такой мир всегда будет частичным, потому что он приносит жертвы, и мир только временный, потому что он откладывает, а не решает проблемы сообщества. Чтобы покончить с угрозой насилия, хорошие люди должны осуждать его не только тогда, когда оно применяется против них самих, но и когда они применяют его против других.
Такой мир всегда будет частичным, потому что он приносит жертвы, и мир только временный, потому что он откладывает, а не решает проблемы сообщества. Чтобы покончить с угрозой насилия, хорошие люди должны осуждать его не только тогда, когда оно применяется против них самих, но и когда они применяют его против других.
Теория мимесиса Платона и защита Аристотеля
В своей теории мимесиса ,
Платон говорит, что всякое искусство миметично по своей природе; искусство есть имитация жизни. Он
считал, что «идея» есть высшая реальность. Искусство подражает идее, и так оно и есть.
имитация реальности. Он приводит в пример плотника и стул. Идея
Слово «стул» впервые пришло в голову плотнику. Он придал своему телу физическую форму.
идею из дерева и создал стул. Художник имитировал стул
плотник на своем изображении стула. Таким образом, стул художника дважды убирается из
реальность. Отсюда он считал, что искусство дважды удалено от реальности. Он дает
первое значение для философии, поскольку философия имеет дело с идеями, тогда как
поэзия имеет дело с иллюзиями — вещами, дважды удаленными от реальности. Итак, чтобы
Платон, философия выше поэзии. Платон отвергал поэзию как миметическую.
в природе по нравственно-философским основаниям. Напротив, Аристотель
выступал за поэзию, поскольку она миметична по своей природе. По его мнению, поэзия – это
подражание действию и его орудию исследования не является ни философским, ни
мораль. Он рассматривает поэзию как произведение искусства, а не книгу проповедей или проповедей.
обучение.
Он дает
первое значение для философии, поскольку философия имеет дело с идеями, тогда как
поэзия имеет дело с иллюзиями — вещами, дважды удаленными от реальности. Итак, чтобы
Платон, философия выше поэзии. Платон отвергал поэзию как миметическую.
в природе по нравственно-философским основаниям. Напротив, Аристотель
выступал за поэзию, поскольку она миметична по своей природе. По его мнению, поэзия – это
подражание действию и его орудию исследования не является ни философским, ни
мораль. Он рассматривает поэзию как произведение искусства, а не книгу проповедей или проповедей.
обучение.
Аристотель ответил на обвинения своего Гуру Платон против поэзии в частности и искусства вообще. Он ответил им один одним в защиту поэзии.
1.
Платон говорит, что искусство, будучи подражанием действительности, удалено от
Правда. Он только дает подобие вещи в бетоне, а подобие
всегда меньше реального. Но Платон не может объяснить, что искусство также дает нечто
больше того, чего нет в действительности. Художник не просто отражает реальное
на манер зеркала. Искусство не может быть рабским подражанием действительности.
Литература не есть точное воспроизведение жизни во всей ее полноте. Это
представление избранных событий и персонажей, необходимых в связном действии
для реализации замысла художника. Он даже превозносит, идеализирует и
образно воссоздает мир, который имеет свой собственный смысл и красоту. Эти
элементы, присутствующие в искусстве, отсутствуют в сыром и грубом реальном. В то время как поэт
создает нечто меньшее, чем реальность, он в то же время создает нечто большее
также. Он вкладывает представление о реальности, которую воспринимает, в объект. Этот
«большее», эта интуиция и восприятие и есть цель художника. Художественный
творение нельзя справедливо критиковать на том основании, что оно не творение
в конкретных терминах вещей и существ. Таким образом, это не берет нас
далеко от Истины, но ведет нас к сущностной реальности жизни.
Но Платон не может объяснить, что искусство также дает нечто
больше того, чего нет в действительности. Художник не просто отражает реальное
на манер зеркала. Искусство не может быть рабским подражанием действительности.
Литература не есть точное воспроизведение жизни во всей ее полноте. Это
представление избранных событий и персонажей, необходимых в связном действии
для реализации замысла художника. Он даже превозносит, идеализирует и
образно воссоздает мир, который имеет свой собственный смысл и красоту. Эти
элементы, присутствующие в искусстве, отсутствуют в сыром и грубом реальном. В то время как поэт
создает нечто меньшее, чем реальность, он в то же время создает нечто большее
также. Он вкладывает представление о реальности, которую воспринимает, в объект. Этот
«большее», эта интуиция и восприятие и есть цель художника. Художественный
творение нельзя справедливо критиковать на том основании, что оно не творение
в конкретных терминах вещей и существ. Таким образом, это не берет нас
далеко от Истины, но ведет нас к сущностной реальности жизни.
2.
Платон снова говорит, что искусство дурно, потому что оно не вдохновляет добродетели, не
не учить морали. Но является ли преподавание функцией искусства? Является ли это целью
художник? Функция искусства – доставлять эстетическое наслаждение, сообщать
переживать, выражать эмоции и представлять жизнь. Никогда не следует путать
с функцией этики, которая состоит просто в том, чтобы учить морали. Если художник
удается радовать нас в эстетическом смысле, он хороший художник. Если он
не в этом, он плохой художник. Нет другого критерия, чтобы судить о нем.
стоит. Р. А. Скотт-Джеймс замечает: «Нравственность учит. Искусство не пытается
учить. Он просто утверждает, что так или иначе воспринимается жизнь. Что
— это мой кусочек реальности, — говорит художник. Прими это или оставь — извлеки любые уроки, которые ты
как из него — это мой отчет о вещах, как они есть — если это имеет какую-либо ценность
вам как доказательство учения, используйте его, но это не мое дело: я
даю вам мой рендеринг, мой отчет, мое видение, мой сон, мою иллюзию — назовите это
что ты будешь. Если в этом и есть какой-то урок, рисовать вам, а не мне.
проповедовать.» Точно так же обвинения Платона в ненужных стенаниях и экстазах в
воображаемые события печали и счастья ободряют более слабую часть
душу и онемение разума. Эти обвинения защищает Аристотель в
его Теория Катарсис . Дэвид Дайчес резюмирует взгляды Аристотеля в
коротко ответить на обвинения Платона: «Трагедия (искусство) дает новое знание, дает
эстетическое удовлетворение и улучшает настроение».
Если в этом и есть какой-то урок, рисовать вам, а не мне.
проповедовать.» Точно так же обвинения Платона в ненужных стенаниях и экстазах в
воображаемые события печали и счастья ободряют более слабую часть
душу и онемение разума. Эти обвинения защищает Аристотель в
его Теория Катарсис . Дэвид Дайчес резюмирует взгляды Аристотеля в
коротко ответить на обвинения Платона: «Трагедия (искусство) дает новое знание, дает
эстетическое удовлетворение и улучшает настроение».
3.
Платон судит о поэзии то с воспитательной точки зрения, то с
философской, а затем этической. Но ему все равно
рассмотреть его с его собственной уникальной точки зрения. Он не определяет ее цели. Он
забывает, что обо всем следует судить с точки зрения его собственных целей и
цели, свои собственные критерии достоинств и недостатков. Мы не можем справедливо поддерживать
что музыка плоха, потому что она не рисует, или что живопись плоха, потому что она
не поет. Точно так же мы не можем сказать, что поэзия плоха, потому что она не
преподавать философию или этику. Если бы поэзия, философия и этика имели тождественное
функции, как они могут быть разными субъектами? Осуждать поэзию за то, что она
это не философия или идеал явно абсурдны.
Точно так же мы не можем сказать, что поэзия плоха, потому что она не
преподавать философию или этику. Если бы поэзия, философия и этика имели тождественное
функции, как они могут быть разными субъектами? Осуждать поэзию за то, что она
это не философия или идеал явно абсурдны.
Возражение Аристотеля к теории мимесиса
Аристотель соглашается с Платоном, называя поэта подражателем.
и творческое искусство, подражание. Он подражает одному из трех объектов – вещам как
они были / есть, вещи, как они говорят / думают, или вещи, как они должны быть
быть. Другими словами, он имитирует то, что было в прошлом или настоящем, то, что обычно
считал и что идеально. Аристотель полагал, что существует естественное удовольствие.
в подражании, что является врожденным инстинктом у мужчин. Это удовольствие в
подражание, которое позволяет ребенку усвоить свои первые уроки речи и
поведения от окружающих, потому что это доставляет удовольствие. В
взрослому ребенку – поэту, есть еще один инстинкт, помогающий ему сделать из него
поэт – инстинкт гармонии и ритма.
Он не согласен со своим
учитель в – «подражание поэта дважды оторвано от действительности и, следовательно,
нереальное/иллюзия истины», в подтверждение своей точки зрения он сравнивает поэзию с историей.
Поэт и историк отличаются не своим средством, а истинным различием.
состоит в том, что историк рассказывает о том, «что произошло», поэт — о том, «что могло/должно было произойти».
случилось» — идеал. Поэтому поэзия более философична и
выше истории, потому что история выражает частное, а поэзия
стремится выразить универсальное. Поэтому картина поэзии радует всех
и во все времена.
Аристотель не согласен с
Платон в функции поэзии делает людей более слабыми и эмоциональными/слишком
сентиментальный. Для него катарсис облагораживает и смиряет человека
существование.
Насколько нравственная природа поэзии
обеспокоенный, Аристотель полагает, что цель поэзии — понравиться; Однако,
обучение может быть побочным продуктом этого. Такое удовольствие превосходит другое
удовольствия, потому что учит гражданской морали. Так вся хорошая литература дает
удовольствие, не оторванное от нравственных уроков.
Так вся хорошая литература дает
удовольствие, не оторванное от нравственных уроков.
Концепция трагедии Аристотеля
Согласно Аристотелю, размер/стих сами по себе не являются
отличительная черта поэзии или художественной литературы в целом. Даже
научные и медицинские трактаты могут быть написаны стихами. Стих не сделает
им поэзия. «Даже если теория медицины или физическая философия будет выдвинута
в метрической форме так принято описывать писателя; Гомер и
Эмпедокл, однако, не имеет ничего общего, кроме их метра; так
что если одного назвать поэтом, то другого назвать физиком.
а не поэт». Тогда вопрос, если метр/стих не различает
поэзии от других видов искусства, как мы можем классифицировать форму поэзии вдоль
с другими видами искусства?
Аристотель классифицирует различные формы искусства с
помощью объекта, среды и способа имитации жизни.
ОБЪЕКТ : Какой объект жизни имитируется
определяет форму литературы. Если Жизнь великих людей подражательна, она
превратит эту работу в Трагедию, и если жизнь подлых людей имитируется,
сделает произведение комедией. Дэвид Дайчес пишет, объясняя классификацию
поэзии, которая подражательна: «Мы можем классифицировать поэзию по видам
люди, которых она представляет, — они либо лучше, чем в реальной жизни, либо
хуже или так же. Можно было представить символы, т. е. на большом или
героический масштаб; или мог относиться с иронией или юмором к мелочным глупостям людей,
или можно стремиться к натурализму, изображающему людей ни возвышенными, ни
тривиальным… Трагедия имеет дело с людьми в героическом масштабе, с мужчинами лучше, чем они
в повседневной жизни, в то время как комедия имеет дело с более тривиальными аспектами
человеческая природа, с характерами «хуже», чем они есть в реальной жизни».
Дэвид Дайчес пишет, объясняя классификацию
поэзии, которая подражательна: «Мы можем классифицировать поэзию по видам
люди, которых она представляет, — они либо лучше, чем в реальной жизни, либо
хуже или так же. Можно было представить символы, т. е. на большом или
героический масштаб; или мог относиться с иронией или юмором к мелочным глупостям людей,
или можно стремиться к натурализму, изображающему людей ни возвышенными, ни
тривиальным… Трагедия имеет дело с людьми в героическом масштабе, с мужчинами лучше, чем они
в повседневной жизни, в то время как комедия имеет дело с более тривиальными аспектами
человеческая природа, с характерами «хуже», чем они есть в реальной жизни».
СРЕДНИЙ: Что
своего рода среда используется для имитации жизни, снова определяет формы различных
искусства. Художник использует цвета, а музыкант использует звук, но
поэт использует слова, чтобы представить жизнь. Когда слова используются, как они
используемые и каким образом или в каком размере они используются, дополнительно классифицирует часть
литература в разных категориях, как трагедия или комедия или эпос.
Типы литературы, говорит Аристотель, могут быть
различаются по средствам изображения, а также по способу
репрезентации в той или иной среде. Разница в среде между
поэт и художник ясно; употребляются слова с их денотативом, коннотативом,
ритмические и музыкальные аспекты; другой использует формы и цвета. Точно так же
сочинитель трагедии может пользоваться одним размером, а сочинитель комедии — другим.
МАНЕР: В
то, каким образом представлена имитация жизни, отличает одну форму
литература от другого. Как имитируется серьезный аспект жизни? За
например, драмы всегда представлены в действии, а эпопеи всегда в
повествование. Таким образом можно различать виды литературы и
определяются в соответствии с применяемыми ими методами. Дэвид Дайчес говорит:
поэт может рассказать историю в повествовательной форме и отчасти через речи
персонажей (как это делает Гомер), или все это можно сделать в повествовании от третьего лица, или
история может быть представлена драматически, без использования третьего лица
повествование вообще».
Определение Трагедия
«Трагедия,
то есть имитация действия серьезного, законченного и определенного
величина; на языке, украшенном каждым видом художественного орнамента,
несколько видов встречаются в отдельных частях пьесы; в форме действия,
не повествования; через жалость и страх, производя надлежащее
очищение-катарсис от этих и подобных эмоций». ( Поэтика , стр.10)
Пояснение к определению:
Определение компактное. Каждое его слово беременно
значение. Каждое слово приведенного выше определения может быть развернуто в отдельное
сочинение.
Всякое искусство есть изображение (имитация) жизни, но ни одно не может изобразить жизнь в
его совокупность. Поэтому художник должен быть избирательным в изображении. Он
должен быть направлен на представление или имитацию аспекта жизни или фрагмента жизни.
Действие включает в себя всю человеческую деятельность, включая поступки, мысли и чувства. Следовательно,
в трагедии мы находим монологи, хоры и т. д.
д.
Автор «трагедии» стремится подражать серьезной стороне
жизнь так же, как автор «комедии» стремится подражать только поверхностным и
поверхностная сторона. Трагический отрывок, представленный на сцене в драме, должен
быть полным или самодостаточным с правильным началом, правильной серединой и правильным
конец. Начало есть то, перед чем публика или читатель не нуждается.
быть рассказанным что-нибудь, чтобы понять историю. Если что-то еще требуется для понимания
рассказ, чем дает начало, неудовлетворителен. Из него следует
середина. В свою очередь, события из середины ведут к концу. Таким образом
история становится компактной и самодостаточной. Он не должен покидать
такое впечатление, что даже после окончания действие еще продолжается, или что
до того, как действие начнется, некоторые вещи еще предстоит узнать.
Трагедия должна иметь тесное единство с ничем
лишнее или ненужное. Каждый эпизод, каждый персонаж и диалог в
пьеса должна шаг за шагом доводить действие, приведенное в движение, до его
логичная развязка. В конце должно создаваться впечатление цельности.
В конце должно создаваться впечатление цельности.
Тогда пьеса должна иметь определенный размах, собственное
размер или разумную длину, такую, которую разум может полностью понять. То есть
сказать, что он должен иметь только необходимую продолжительность, он не должен быть слишком длинным, чтобы
истощать наше терпение и не быть слишком коротким, чтобы сделать эффективное представительство невозможным.
Кроме того, драма, продолжающаяся часами – бесконечно, может не удержать
различные его части объединяются в единство и целостность в сознании зрителя.
Разумная продолжительность позволяет зрителю увидеть драму в целом,
запомнить его различные эпизоды и поддерживать интерес. Используемый язык
здесь должны быть должным образом украшены и украшены различными художественными украшениями
(ритм, гармония, песня) и фигуры речи. Язык нашей повседневной
дела здесь бесполезны, потому что трагедия должна представлять возвышенную картину
серьезной стороны жизни, а это возможно лишь при возвышенном языке
используется поэзия. По мере необходимости писатель пользуется песнями, стихами,
поэтический диалог; простой разговор и т.д. различные части игры.
По мере необходимости писатель пользуется песнями, стихами,
поэтический диалог; простой разговор и т.д. различные части игры.
Его манерой подражания должно быть действие, а не повествование, как в эпосе, ибо
должен был быть драматическим представлением на сцене, а не просто
рассказывание историй.
Тогда функция/цель трагедии состоит в том, чтобы встряхнуть
души импульсы жалости и страха, чтобы достичь того, что он называет катарсисом.
эмоции жалости и страха находят полный и свободный выход в трагедии. Их избыток
очищается, и мы поднимаемся над собой и становимся благороднее, чем прежде.
Шесть формообразующих элементов трагедии
Обсудив определение трагедии, Аристотель
исследует различные важные части трагедии. Он утверждает, что любая трагедия может быть
разделен на шесть составных частей.
Это: Сюжет, Персонаж,
Мысль, Дикция, Песня и Зрелище. Сюжет – важнейшая часть
трагедия. Сюжет означает «расстановку происшествий». Обычно сюжет
разделен на пять актов, и каждый акт далее разделен на несколько сцен.
Главное искусство драматурга состоит в делении сюжета на акты и сцены в
таким образом, чтобы они могли производить максимальный сценический эффект в естественной
разработка. Персонажи — мужчины и женщины, которые действуют. Герой и героиня являются
две важные фигуры среди персонажей. Мысль означает, что персонажи
думать или чувствовать во время своей карьеры в развитии сюжета. Мысль
выражается в их речах и диалогах. Дикция – это средство
язык или выражение, с помощью которых персонажи раскрывают свои мысли и
чувства. Дикция должна быть «украшена каждым видом художественного
элемент’. Песня является одним из таких украшений. Оформление сцены
составляет основную часть зрелища. Спектакль театральный эффект
представлены на сцене. Но зрелище включает в себя и сцены физических пыток,
громкие причитания, танцы, пестрые одежды главных героев и
нищенский или шутливый вид второстепенных персонажей или шута на
сцена.
Обычно сюжет
разделен на пять актов, и каждый акт далее разделен на несколько сцен.
Главное искусство драматурга состоит в делении сюжета на акты и сцены в
таким образом, чтобы они могли производить максимальный сценический эффект в естественной
разработка. Персонажи — мужчины и женщины, которые действуют. Герой и героиня являются
две важные фигуры среди персонажей. Мысль означает, что персонажи
думать или чувствовать во время своей карьеры в развитии сюжета. Мысль
выражается в их речах и диалогах. Дикция – это средство
язык или выражение, с помощью которых персонажи раскрывают свои мысли и
чувства. Дикция должна быть «украшена каждым видом художественного
элемент’. Песня является одним из таких украшений. Оформление сцены
составляет основную часть зрелища. Спектакль театральный эффект
представлены на сцене. Но зрелище включает в себя и сцены физических пыток,
громкие причитания, танцы, пестрые одежды главных героев и
нищенский или шутливый вид второстепенных персонажей или шута на
сцена. Это шесть составных частей трагедии.
Это шесть составных частей трагедии.
Сюжет и персонаж
Аристотель утверждает, что среди шести образующих элементов
сюжет — самый важный элемент. Он пишет в «Поэтике». Сюжет — это
основной принцип трагедии». Под сюжетом Аристотель понимает расположение
инциденты. Инциденты означают действие, а трагедия есть имитация действий, как
внутренний и внешний. То есть он также имитирует ментальное
процессы драматических персонажей. Однажды, отвечая на вопрос, он сказал, что
трагедия может быть написана без персонажа, но не без сюжета. Хотя его
преувеличение сюжета, он признает, что без действия не может быть
трагедия. Сюжет содержит начало, середину и конец, где
начало есть то, что «не следует за другой вещью», а середина нуждается в
чтобы что-то произошло раньше и что-то произошло после этого, но после
окончание «больше ничего нет».
Персонажи служат для продвижения
действие истории, а не наоборот. Цели, которые мы преследуем в жизни, наши
счастье и наше несчастье, все принимает форму действия. Трагедия написана не
просто подражать человеку, но подражать человеку в действии. То есть, согласно
Аристотель, счастье состоит в определенном роде деятельности, а не в
определенное качество характера. Как говорит Дэвид Дайчес: «то, как
действие отрабатывается само собой, вся случайная цепочка, ведущая к финалу
результат». Слог и Мысль также менее значимы, чем сюжет: ряд
хорошо написанные речи не имеют ничего общего с силой хорошо структурированной трагедии.
Наконец, Аристотель отмечает, что составить цельный сюжет гораздо труднее, чем
создание хороших персонажей или дикции. Утверждая, что сюжет является наиболее
важной из шести частей трагедии, остальные он ранжирует следующим образом, начиная с
от самого важного к наименее: Характер, Мысль, Дикция, Мелодия и Зрелище.
Характер раскрывает индивидуальные мотивы персонажей пьесы,
чего они хотят или не хотят, и как они реагируют на определенные ситуации, и
это более важно для Аристотеля, чем мысль, которая имеет дело с более
универсальный уровень с рассуждениями и общими истинами.
Трагедия написана не
просто подражать человеку, но подражать человеку в действии. То есть, согласно
Аристотель, счастье состоит в определенном роде деятельности, а не в
определенное качество характера. Как говорит Дэвид Дайчес: «то, как
действие отрабатывается само собой, вся случайная цепочка, ведущая к финалу
результат». Слог и Мысль также менее значимы, чем сюжет: ряд
хорошо написанные речи не имеют ничего общего с силой хорошо структурированной трагедии.
Наконец, Аристотель отмечает, что составить цельный сюжет гораздо труднее, чем
создание хороших персонажей или дикции. Утверждая, что сюжет является наиболее
важной из шести частей трагедии, остальные он ранжирует следующим образом, начиная с
от самого важного к наименее: Характер, Мысль, Дикция, Мелодия и Зрелище.
Характер раскрывает индивидуальные мотивы персонажей пьесы,
чего они хотят или не хотят, и как они реагируют на определенные ситуации, и
это более важно для Аристотеля, чем мысль, которая имеет дело с более
универсальный уровень с рассуждениями и общими истинами. Дикция, мелодия/песни и
Зрелище — все это приятные аксессуары, но мелодия важнее в
трагедия, чем зрелище.
Дикция, мелодия/песни и
Зрелище — все это приятные аксессуары, но мелодия важнее в
трагедия, чем зрелище.
Трагический герой
Идеальный трагический герой, по Аристотелю, должен
быть, в первую очередь, человеком высокого положения. Поступки выдающегося человека
быть «серьезным, полным и определенным масштабом», как того требует Аристотель.
Далее, герой должен быть не только именитым, но и в принципе хорошим человеком,
хотя и не совсем добродетельный. Страдания, падение и смерть абсолютно
добродетельный человек вызовет чувство отвращения, а не чувство «ужаса и
сострадание», которое должна производить трагическая пьеса. Герой не должен быть
злодеем и не злым человеком за его падение, иначе его смерть угодила бы и
удовлетворить наше нравственное чувство, не порождая чувства жалости, сострадания и
страх. Поэтому идеальный трагический герой должен быть в основе своей хорошим человеком с
незначительный недостаток или трагическая черта в его характере. Вся трагедия должна
исходить из этого незначительного недостатка или ошибки суждения. Падение и страдания
и смерть такого героя непременно вызовет чувство жалости и страха.
Так, Аристотель говорит: «Ибо жалость наша возбуждается несчастьями незаслуженно
страдал, и наш ужас некоторым сходством между страдальцем и
себя». Наконец, Аристотель говорит: «Остается для нашего выбора лицо
ни в высшей степени добродетельный, ни справедливый, но и не вовлеченный в несчастье из-за
преднамеренный порок или злодейство, но по какой-то ошибке или человеческой слабости; и это
человек также должен быть человеком высокой славы и процветания». Такой
человек был бы идеальным трагическим героем.
Вся трагедия должна
исходить из этого незначительного недостатка или ошибки суждения. Падение и страдания
и смерть такого героя непременно вызовет чувство жалости и страха.
Так, Аристотель говорит: «Ибо жалость наша возбуждается несчастьями незаслуженно
страдал, и наш ужас некоторым сходством между страдальцем и
себя». Наконец, Аристотель говорит: «Остается для нашего выбора лицо
ни в высшей степени добродетельный, ни справедливый, но и не вовлеченный в несчастье из-за
преднамеренный порок или злодейство, но по какой-то ошибке или человеческой слабости; и это
человек также должен быть человеком высокой славы и процветания». Такой
человек был бы идеальным трагическим героем.
Характеристика трагического героя
Согласно Аристотелю, в хорошей трагедии характер
поддерживает сюжет. Личная мотивация/действия персонажей
запутанно вовлечены в действие до такой степени, что это приводит к возбуждению
жалость и страх в аудитории. Главный герой/трагический герой пьесы должен
иметь все признаки хорошего характера. По хорошему характеру, Аристотель
означает, что они должны быть:
По хорошему характеру, Аристотель
означает, что они должны быть:
1.
Верный себе
2.
Соответствует типу
3.
Реальность
4.
Вероятно, но красивее жизни.
Трагический герой, обладающий всеми характеристиками упомянутый выше, имеет, кроме того, еще несколько атрибутов. В контексте Аристотель начинает со следующего наблюдения:
- Хороший человек — плохой конец. (Это шокирует и тревожит веру)
- Плохой человек – хороший конец. (ни трогательно, ни морально)
- Плохой человек – плохой конец. (морально, но не трогательно)
- Неплохой человек – плохой конец. (идеальная ситуация)
Аристотель дисквалифицировал два типа характеров:
чисто добродетельный и совершенно плохой. Остается только один тип характера,
кто лучше всего может удовлетворить это требование — «Человек, который не в высшей степени хорош и
только еще чье несчастье вызвано не пороком или развратом, а какой-то ошибкой
слабости». Таким образом, идеальный трагический герой должен быть чем-то средним.
человек — ни слишком добродетельный, ни слишком злой. Его несчастье вызывает жалость
потому что это совершенно несоразмерно его ошибочному суждению и его
добро возбуждает страх за свою гибель. Таким образом, он человек со следующими
атрибуты: Он должен быть человеком смешанного характера, ни безупречным, ни
абсолютно развратный. Его несчастье должно быть следствием какой-нибудь ошибки или изъяна
персонаж; если не считать морального порока. Он должен упасть с высоты процветания и
слава. Главный герой должен быть известным и процветающим, чтобы его смена
удача может быть от хорошей до плохой.
Падение такого выдающегося человека влияет на все государство/нацию. Это изменение происходит
не в результате порока, а из-за большой ошибки или слабости характера.
Остается только один тип характера,
кто лучше всего может удовлетворить это требование — «Человек, который не в высшей степени хорош и
только еще чье несчастье вызвано не пороком или развратом, а какой-то ошибкой
слабости». Таким образом, идеальный трагический герой должен быть чем-то средним.
человек — ни слишком добродетельный, ни слишком злой. Его несчастье вызывает жалость
потому что это совершенно несоразмерно его ошибочному суждению и его
добро возбуждает страх за свою гибель. Таким образом, он человек со следующими
атрибуты: Он должен быть человеком смешанного характера, ни безупречным, ни
абсолютно развратный. Его несчастье должно быть следствием какой-нибудь ошибки или изъяна
персонаж; если не считать морального порока. Он должен упасть с высоты процветания и
слава. Главный герой должен быть известным и процветающим, чтобы его смена
удача может быть от хорошей до плохой.
Падение такого выдающегося человека влияет на все государство/нацию. Это изменение происходит
не в результате порока, а из-за большой ошибки или слабости характера. Такой сюжет, скорее всего, вызовет жалость и страх у зрителей. Идеал
трагический герой должен быть человеком промежуточного типа, человеком не преимущественно
добродетельный и справедливый, чье несчастье навлечено на него не пороком или
порочность, а по какой-то ошибке суждения. Обсудим эту ошибку
судить в следующем пункте.
Такой сюжет, скорее всего, вызовет жалость и страх у зрителей. Идеал
трагический герой должен быть человеком промежуточного типа, человеком не преимущественно
добродетельный и справедливый, чье несчастье навлечено на него не пороком или
порочность, а по какой-то ошибке суждения. Обсудим эту ошибку
судить в следующем пункте.
Значение Hamartia
Hamartia («фатальный
недостаток» или «трагический недостаток») может состоять из морального недостатка, или это может быть просто
техническая ошибка/ошибка суждения или незнание, а иногда даже
высокомерие (по-гречески высокомерие ). Именно из-за этого недостатка
главный герой вступает в конфликт с судьбой и в конечном итоге встречает свою гибель
благодаря действиям Судьбы (называемой Dike по-гречески), называемой
Немезида.
Три Единства
1.
Единство
действие: в пьесе должен быть один сюжет или действие, чтобы поддерживать интерес публики. зрителей, и это также может привести его к надлежащему очищению.
зрителей, и это также может привести его к надлежащему очищению.
2.
Единство время: действие в пьесе не должно превышать один оборот солнца.
3.
Единство место: пьеса должна охватывать одно физическое пространство и не должна пытаться сжимайте географию, и сцена не должна представлять более одного места.
Эти три принципы называются единствами, а Три единства были единством действия, место и время. Давайте разберемся с ними.
Единство действий
Совокупность инцидентов, которые являются действием
пьеса, должна быть одна – одна рассказанная история, что не означает, что она должна быть о
только один человек, так как в центре трагедии находятся не персонажи, а
само действие есть. Он против множественности действий, потому что она ослабляет
трагический эффект. Количество инцидентов должно быть связано друг с другом в такой
таким образом, что они должны способствовать одному эффекту.
Количество инцидентов должно быть связано друг с другом в такой
таким образом, что они должны способствовать одному эффекту.
Ограничения Единства Действия
предполагаемое действие к одному набору инцидентов, которые связаны как причина и
эффект, «имеющий начало, середину и конец». Сцена не должна быть
включено, что не продвигает сюжет напрямую. Нет сюжетов, нет персонажей
кто не продвигает действие.
Это единство действия
очевидно содержит начало, середину и конец, где начало
то, что «не следует за другой вещью», в то время как середина должна иметь
что-то произошло раньше, и что-то должно произойти после этого, но после окончания
«Нет ничего другого».
Цепочка событий должна быть
такого характера, как «могло бы произойти», либо быть возможным в смысле
вероятность или необходимость из-за чего предусмотрели. Все абсурдное может только
существуют вне драмы, то, что в нее включено, должно быть правдоподобным, что
что-то достигнутое не только вероятностью, «Кроме того, это очевидно из
сказано, что задача поэта не в том, чтобы рассказывать о том, что
случилось, но то, что может случиться — то, что возможно по закону
вероятность или необходимость» (9). 0431 Поэтика в критической теории со времен Платона , изд.
Адамс. стр. 54) Аристотель даже рекомендует вещи невозможные, но вероятные, прежде чем
те, которые возможны, но маловероятны. В происходящем не должно быть ничего иррационального
об этом, но если это неизбежно, такие события должны были иметь место
вне разыгрываемой драмы.
0431 Поэтика в критической теории со времен Платона , изд.
Адамс. стр. 54) Аристотель даже рекомендует вещи невозможные, но вероятные, прежде чем
те, которые возможны, но маловероятны. В происходящем не должно быть ничего иррационального
об этом, но если это неизбежно, такие события должны были иметь место
вне разыгрываемой драмы.
Единство Времени
Что касается продолжительности пьесы, то Аристотель относит
требуемой величины, действительно грандиозной, но такой, которую легко увидеть в
его целостность – в аспекте длины, чем тот, который легко может быть
вспомнил. Идеальное время, которое охватывает басня трагедии, — это «один
солнечного периода или допускает лишь небольшое отклонение от этого периода».
Единство Времени ограничивает
предполагаемое действие продолжительностью, примерно, одного дня. Аристотель имел в виду, что
продолжительность времени, представленного в пьесе, в идеале должна быть
фактическое время, проходящее во время его презентации. Мы должны помнить, что
это предложение, т. е. его нужно попробовать «насколько это возможно»; нет ничего такого
можно назвать правилом.
Мы должны помнить, что
это предложение, т. е. его нужно попробовать «насколько это возможно»; нет ничего такого
можно назвать правилом.
Единство места
В соответствии к Единству Места постановка пьесы должна иметь одно место. Аристотель никогда не упоминал о единстве места вообще. Учение о трех единствах, которое так много фигурировало в литературной критике со времен Возрождения, не может быть зачислено на его счет. Он не автор этого; это было навязано ему критики эпохи Возрождения в Италии и Франции.
Функции трагедии
«Трагедия
имитация действия серьезного, законченного и определенного
величине… через жалость и страх, производя надлежащее очищение от этих
эмоции.»( Поэтика , стр. 10)
Приведенное выше определение
Аристотель указывает, что функция трагедии состоит в том, чтобы вызывать «жалость и страх».
в зрителе как для моральной, так и для эстетической цели. Надо помнить в
В этом контексте у него было знаменитое обвинение Платона против аморальных последствий
поэзия в сознании людей. Аристотель использует это слово в своем определении трагедии.
в главе VI «Поэтики», и было много споров о том, что именно он
имел ввиду. Ключевое предложение: «Трагедия через жалость и страх приводит к очищению».
таких эмоций». Так что, в некотором смысле, трагедия, вызвав мощное
чувства у зрителя, имеет и целебное действие; после бури и
кульминации наступает чувство освобождения от напряжения, спокойствия. Его теория Катарсис состоит в очищении или
очищение от чрезмерных эмоций жалости и страха. Свидетель трагедии
и страдания главного героя на сцене, такие эмоции и чувства
аудитория очищается. Очищение от таких эмоций и чувств делает их
облегчение, и они становятся лучшими людьми, чем они были. Таким образом,
Теория Аристотеля о катарсисе выполняет моральную и облагораживающую функцию.
Аристотель использует это слово в своем определении трагедии.
в главе VI «Поэтики», и было много споров о том, что именно он
имел ввиду. Ключевое предложение: «Трагедия через жалость и страх приводит к очищению».
таких эмоций». Так что, в некотором смысле, трагедия, вызвав мощное
чувства у зрителя, имеет и целебное действие; после бури и
кульминации наступает чувство освобождения от напряжения, спокойствия. Его теория Катарсис состоит в очищении или
очищение от чрезмерных эмоций жалости и страха. Свидетель трагедии
и страдания главного героя на сцене, такие эмоции и чувства
аудитория очищается. Очищение от таких эмоций и чувств делает их
облегчение, и они становятся лучшими людьми, чем они были. Таким образом,
Теория Аристотеля о катарсисе выполняет моральную и облагораживающую функцию.
Значение катарсиса
Позволять
Мы подробно процитируем Ф. Л. Лукаса о значении катарсиса: «Во-первых,
был извечный спор о значении Аристотеля, хотя он почти
всегда считалось, что все, что он имел в виду, было абсолютно правильно. Многие, для
например, перевели Катарсис как «очищение», «Исправление или
уточнение» или тому подобное. Имеются веские доказательства того, что Катарсис означает не «Очищение», а
«Очищение» — медицинский термин (Аристотель был сыном врача).
к изменениям в медицинском мышлении, «Очищение» стало радикально вводить в заблуждение
современные умы. Мы неизбежно думаем о слабительных и полной эвакуации
водные продукты; а потом возмущенные критики спрашивают, почему наши эмоции должны быть такими
плохо обращались. «Но Катарсис означает «Очищение», не в современном, а в
более старый, более широкий английский смысл, который включает частичное удаление лишнего
«юмор». Теория стара, как школа Гиппократа, что в должное время
баланс… от этих жидкостей зависит здоровье как тела, так и ума».
(Ф.Л.Лукас) Перевести Катарсис так же, как очищение сегодня
вводит в заблуждение из-за изменения значения, которое претерпело слово.
теория юмора устарела в медицинской науке. «Чистка» предполагалась
разные значения.
Многие, для
например, перевели Катарсис как «очищение», «Исправление или
уточнение» или тому подобное. Имеются веские доказательства того, что Катарсис означает не «Очищение», а
«Очищение» — медицинский термин (Аристотель был сыном врача).
к изменениям в медицинском мышлении, «Очищение» стало радикально вводить в заблуждение
современные умы. Мы неизбежно думаем о слабительных и полной эвакуации
водные продукты; а потом возмущенные критики спрашивают, почему наши эмоции должны быть такими
плохо обращались. «Но Катарсис означает «Очищение», не в современном, а в
более старый, более широкий английский смысл, который включает частичное удаление лишнего
«юмор». Теория стара, как школа Гиппократа, что в должное время
баланс… от этих жидкостей зависит здоровье как тела, так и ума».
(Ф.Л.Лукас) Перевести Катарсис так же, как очищение сегодня
вводит в заблуждение из-за изменения значения, которое претерпело слово.
теория юмора устарела в медицинской науке. «Чистка» предполагалась
разные значения. Это уже не то, что имел в виду Аристотель. Следовательно, это Катарсис правильнее было бы перевести как «умерение» или «закаливание»
страсти. Но такой перевод, как предлагает Ф. Л. Лукас, «сохраняет смысл, но
теряет метафору». Однако, когда невозможно уследить за обоими, смысл
и метафора, лучше сохранить смысл и пожертвовать
метафора в переводе Катарсис как «сдерживание» или «закаливание».
страсти, которые следует умерить, — это жалость и страх. Жалость и страх быть
модерируется, опять же, конкретных видов. Никогда не может быть избытка в
жалость, выливающаяся в полезное действие. Но жалости может быть слишком много,
сильное и беспомощное чувство, а также может быть слишком много жалости к себе, которая
не достойная похвалы добродетель. Катарсис или сдерживание таких форм жалости
должны быть достигнуты в театре или иным образом, когда это возможно, для таких
умеренность держит ум в здоровом состоянии равновесия. Аналогично, только
определенные виды страха должны быть умеренными.
Это уже не то, что имел в виду Аристотель. Следовательно, это Катарсис правильнее было бы перевести как «умерение» или «закаливание»
страсти. Но такой перевод, как предлагает Ф. Л. Лукас, «сохраняет смысл, но
теряет метафору». Однако, когда невозможно уследить за обоими, смысл
и метафора, лучше сохранить смысл и пожертвовать
метафора в переводе Катарсис как «сдерживание» или «закаливание».
страсти, которые следует умерить, — это жалость и страх. Жалость и страх быть
модерируется, опять же, конкретных видов. Никогда не может быть избытка в
жалость, выливающаяся в полезное действие. Но жалости может быть слишком много,
сильное и беспомощное чувство, а также может быть слишком много жалости к себе, которая
не достойная похвалы добродетель. Катарсис или сдерживание таких форм жалости
должны быть достигнуты в театре или иным образом, когда это возможно, для таких
умеренность держит ум в здоровом состоянии равновесия. Аналогично, только
определенные виды страха должны быть умеренными. Аристотель, по-видимому, не
помните о страхе перед ужасами на сцене, которые, как предполагает Лукас, «должны
доводили женщин до выкидыша от ужаса в театре», Аристотель специально
упоминает «сочувствующий страх за персонажей». «И, дав свободный выход
это в театре, люди должны уменьшать, сталкиваясь с жизнью после этого, их собственные
страх перед… общим страхом перед судьбой. (Ф.Л.Лукас) Есть кроме страха
и сострадание, родственные импульсы, которые также следует умерить: «Горе, слабость,
презрение, порицание — я полагаю, что это то, что Аристотель подразумевал под
«чувство такого рода». (Лукас).
Аристотель, по-видимому, не
помните о страхе перед ужасами на сцене, которые, как предполагает Лукас, «должны
доводили женщин до выкидыша от ужаса в театре», Аристотель специально
упоминает «сочувствующий страх за персонажей». «И, дав свободный выход
это в театре, люди должны уменьшать, сталкиваясь с жизнью после этого, их собственные
страх перед… общим страхом перед судьбой. (Ф.Л.Лукас) Есть кроме страха
и сострадание, родственные импульсы, которые также следует умерить: «Горе, слабость,
презрение, порицание — я полагаю, что это то, что Аристотель подразумевал под
«чувство такого рода». (Лукас).
Актуальность Теория катарсиса в настоящем сценарии
Со времен Аристотеля трагедия в Европе никогда не была драмой
отчаяние, беспричинная смерть или случайность-катастрофа. Драма, которая рисует только ужасы
и оставляет души разбитыми, а разум непримиримым с миром может быть
описывается как ужасная, ужасная пьеса, но не здоровая трагедия, ибо трагедия
это пьеса, в которой бедствие или крушение имеют причины, которые можно тщательно
избегается и печаль в нем не нарушает баланса в пользу пессимизма. Вот почему, несмотря на серьезность, даже душераздирающие сцены печали,
трагедия, в конечном счете, воплощает в себе видение красоты. Это мешает
благородных мыслей и служит трагическому наслаждению, но не обрекает нас на отчаяние. Если
здоровое понятие трагедии поддерживалось на протяжении всей литературной
истории Европы, главная заслуга, пожалуй, восходит к Аристотелю, который
изложил это в своей теории катарсиса.
Вот почему, несмотря на серьезность, даже душераздирающие сцены печали,
трагедия, в конечном счете, воплощает в себе видение красоты. Это мешает
благородных мыслей и служит трагическому наслаждению, но не обрекает нас на отчаяние. Если
здоровое понятие трагедии поддерживалось на протяжении всей литературной
истории Европы, главная заслуга, пожалуй, восходит к Аристотелю, который
изложил это в своей теории катарсиса.
Катарсис установил трагедию как драму
остаток средств. Одна только печаль была бы уродлива и отталкивающа. Чистая красота была бы
образное и мистическое. Вместе они составляют то, что можно назвать трагическим
красота. Одна лишь жалость была бы сентиментальностью. Один только страх сделал бы нас трусами.
Но жалость и страх, сочувствие и ужас вместе составляют трагическое чувство.
что очень восхитительно, хотя и до слез восхитительно. Такая трагическая красота
и трагическое чувство, которое оно вызывает, составляет эстетику равновесия как
Впервые выдвинутая Аристотелем в его теории катарсиса. Поэтому мы чувствуем, что почтение, которым Аристотель пользовался на протяжении веков,
не ушел к нему незаслуженно. Его проницательность по праву заслужила это.
Поэтому мы чувствуем, что почтение, которым Аристотель пользовался на протяжении веков,
не ушел к нему незаслуженно. Его проницательность по праву заслужила это.
Глоссарий ключевых терминов
1.
Мимесис: греческое слово для подражания.
2.
Имитация:- Репрезентация.
3.
Величина:- Длина, Размер.
4.
Украшение: Орнамент, Декор
5.
Катарсис:- Очищение, Очищение.
6.
Хамартия: Трагический недостаток, ошибка суждения
7.
Дикция:- Особый стиль языка, выражение и формулировка
8.
Зрелище: Сценическое имущество
9.
Развязка: — прояснение или «развязывание» сюжетных осложнений в пьеса или рассказ. Обычно это происходит в энсе.
10.
Эстетика: забота о красоте и ее оценке.
ЭТО КОЛЛЕКЦИЯ.
Как определить создателей больших богатств с помощью теории мимесиса Жирара
Саураб Мукерджа
В проницательной книге, написанной 40 лет назад, французский философ Рене Жирар объясняет, как в наших желаниях мы запрограммированы подражать друг другу. Это, в свою очередь, приводит к конфликтам и горю, что, в свою очередь, создает потребность в козлах отпущения, которые могут действовать как громоотвод для наших обид. Великие лидеры — это те, кто может обмануть эту конструкцию, используя религию, культуру и других людей как козлов отпущения.
«…чтобы добиться успеха, нужно взяться за старую проблему, не модную в данный момент, и радикально переосмыслить ее… в человеческом поведении нет ничего или почти ничего, чему бы не научились, и всякое обучение на основе подражания. Если бы люди вдруг перестали подражать, все формы культуры исчезли бы. Неврологи часто напоминают нам, что человеческий мозг — это огромная имитационная машина».
— Рене Жирар в фильме «Вещи, скрытые с момента основания мира» (1978)
Жирар, оригинальный мыслитель с мощной проницательностью
В 1978 году Жирар опубликовал эту замечательную книгу, написанную в форме диалога между философом Жираром и двумя психологами. Он дает глубокое понимание того, как общества развиваются, конкурируют, борются и разрешают конфликты. Эти идеи, в свою очередь, влияют на то, как мы думаем о странах и компаниях.
Гипотеза Жирара разворачивается последовательно:
1. У людей есть врожденное желание конкурировать друг с другом и подниматься в мире. Поначалу это желание конкурировать и создавать что-то новое, покорять новые рубежи — это здорово, поскольку оно стимулирует творчество, инновации и дифференциацию.
Поначалу это желание конкурировать и создавать что-то новое, покорять новые рубежи — это здорово, поскольку оно стимулирует творчество, инновации и дифференциацию.
2. Затем возникает сложность, потому что люди, будучи социальными животными, учатся друг у друга и копируют друг друга. В результате мы начинаем желать того же, что и другие. Например, в одиночестве у меня нет стимула желать бриллианта, который, на мой взгляд, бесполезен. Однако, если 20 человек вокруг меня начнут желать бриллиантов (или поступления их детей в определенную школу, или квартиры на Алтамонт-роуд, или вилл для отдыха в Гоа), то и я, скорее всего, буду желать того же.
Жирар называет это «мимезисом», то есть мы подражаем друг другу в своих желаниях. Заметьте, что почти наверняка мы будем желать того, чего не хватает; следовательно, алмазы более желанны, чем вода (по крайней мере, до тех пор, пока вода не станет дефицитной), хотя вода гораздо полезнее для нас, чем алмазы.
3. Когда толпы людей начинают искать одни и те же вещи, конкуренция (или мимесис, как ее называет Жирар) усиливается. Затем, в пылу битвы, дифференциация отходит на второй план, поскольку все мы стремимся превзойти друг друга в приобретении этих символов престижа. Логическим продолжением этой конкурентной борьбы является агрессия по отношению друг к другу, которая иногда достигает кульминации в насилии.
Затем, в пылу битвы, дифференциация отходит на второй план, поскольку все мы стремимся превзойти друг друга в приобретении этих символов престижа. Логическим продолжением этой конкурентной борьбы является агрессия по отношению друг к другу, которая иногда достигает кульминации в насилии.
4. В периоды острой конкуренции, по мере роста несчастья и умножения обид, общество ищет козла отпущения. Считается, что козел отпущения несет ответственность за все обиды, хотя на самом деле обиды возникают из-за мимесиса. Козлом отпущения может быть человек или сообщество (например, евреи в Германии в 1930-х годах, евреи в Венгрии сегодня, мусульмане в Индии сегодня, латиноамериканские иммигранты в Америке Трампа).
5. Затем козлу отпущения назначается наказание, чтобы успокоить массы. В крайних случаях козла отпущения убивают (например, Иисуса Христа, Юлия Цезаря). В менее крайних случаях козел отпущения отбывает срок наказания (например, Рам и Сита отправляются в изгнание, то же самое относится и к Пандавам). Фигуры, обладающие властью и влиянием — короли в древнем мире, генеральные директора, президенты и высокопоставленные политики сегодня — частично существуют для того, чтобы служить козлами отпущения.
Фигуры, обладающие властью и влиянием — короли в древнем мире, генеральные директора, президенты и высокопоставленные политики сегодня — частично существуют для того, чтобы служить козлами отпущения.
6. Поскольку влиятельные лидеры осознают, что их легко можно принести в жертву как козлов отпущения, они стремятся институционализировать способы, позволяющие распределять жар, возникающий в результате недовольства общества (например, путем создания совета директоров, кабинета или парламента), одновременно увеличивая наличие потенциальных козлов отпущения (например, вице-президенты фирмы, различные министры и государственные служащие в правительстве).
Умелый лидер, который понимает вышеизложенную динамику, действует упреждающе, чтобы пожертвовать козлом отпущения, кроме себя, для решения проблем общества.
7. Религия служит важной цели, поскольку помогает нашим лидерам подавлять недовольство с помощью уменьшения конфликтов и/или меньшего количества козлов отпущения. Точно так же в корпоративной жизни «культура» служит важной цели, поскольку заставляет людей сосредоточиться на более широкой картине, а не на следующем этапе продвижения по службе. То же самое для национализма на уровне страны.
Точно так же в корпоративной жизни «культура» служит важной цели, поскольку заставляет людей сосредоточиться на более широкой картине, а не на следующем этапе продвижения по службе. То же самое для национализма на уровне страны.
Инвестиционные последствия
Центральный тезис Жирара о мимесисе (т. е. в наших желаниях мы запрограммированы подражать друг другу), ведущем к конфликту и горю, и который, в свою очередь, создает потребность в козлах отпущения, так же прост, как и силен.
Мы можем понять его значение на нескольких уровнях:
· На индивидуальном уровне мы настраиваемся на жизнь, полную борьбы и несчастья, если не можем иметь желаний и целей, отличных от желаний и целей окружающих нас людей. Чем более разнообразны наши желания и цели, тем меньше шансов, что мы потратим свою жизнь на пустые битвы за богатство, власть и престиж.
· Однако, если мы решаем стремиться к тому же, чего хотят многие другие люди, то мы должны понимать, что наш успех, наше господство создают риск того, что мы сами станем козлами отпущения.
· Вы можете применить это мышление и на уровне компании. Чем менее дифференцированы предложение/бизнес-модель компании, тем больше вероятность того, что она будет вовлечена в острую конкуренцию с другими. Такая конкуренция между аналогичными компаниями, вероятно, приведет к тому, что почти все игроки будут генерировать RoCE ниже, чем их стоимость капитала. Это, в свою очередь, вызовет лоббирование, т. е. определенные компании будут подталкивать правительство к тому, чтобы сделать кого-то козлом отпущения. Прекрасным примером этого является то, как телекоммуникационная отрасль в Индии развивалась за последние 20 лет — все компании имеют по существу одну и ту же модель продукта / бизнеса, и, как результат, ни одна из них никогда не могла генерировать RoCE выше. их стоимость капитала. Их почти ежедневные усилия по лоббированию в Нью-Дели привели к мошенничеству с 2G и последующим арестам.
· Чтобы обеспечить стабильную прибыль для наших клиентов, мы должны искать компании, которые либо полностью доминируют в своих отраслях с гималайскими рвами вокруг них (например, Asian Paints, Nestle, Pidilite, Relaxo), либо искать компании, чья продукция/ бизнес-модели сильно дифференцированы и, следовательно, не будут привлекать конкуренцию в течение значительного периода времени.
В ближайшие месяцы вы еще услышите от нас последнюю тему. Вы также можете применить философию Жирара на уровне страны, но эту тему лучше обсудить в другой день и, возможно, на другом форуме.
(Саураб Мукерджа является автором книг «Необычные миллиардеры и инвестиции в кофейные банки: путь к колоссальному богатству с низким уровнем риска». Он является основателем Marcellus Investment Managers, поставщика услуг по управлению портфелем, регулируемого Sebi.)
(Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой колонке, принадлежат автору. Факты и мнения, изложенные здесь, не отражают точку зрения www.economictimes.com.)
10 лучших книг по миметической теории
Я считаю, что интеллектуальное путешествие человека в некоторой степени зависит от пути. Есть целый ряд книг, которые я рекомендую по миметической теории, но выбор первой всегда зависит от человека.
Я принимаю томистическую аксиому Quidquid recipitur ad modum recipitur recipitur ( « Все, что получено, получено способом получателя»).
Вот почему я обычно не рекомендую I See Satan Fall тем, у кого есть защитные механизмы против христианства, или Обман, желание и роман тем, кому плевать на литературу. Но поклонник Достоевского? Во что бы то ни стало, идите прямо к Воскрешение из подполья .
Я сотни раз рекомендовал прекрасную биографию Синтии Л. Хейвен в качестве начальной книги для людей, которым, как и мне, небезразличен человек, стоящий за идеями.
Итак, этот список не в каком-то реальном порядке, хотя он находится в «приблизительном» последовательном порядке, как упражнение воображения для меня, в котором я веду годовой семинар по миметической теории. И я серьезно об этом думаю. Если вас это заинтересует, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях.
Вот мой список для чтения. (Кстати, ни одна из этих ссылок не является партнерской.)
Обман, желание и роман: я и другие в литературной структуре эта точка. Идея миметического желания еще не была полностью развита.
 Но именно поэтому эта книга так увлекательна. Как будто вы присутствуете при рождении чего-то большого, и вы это знаете.
Но именно поэтому эта книга так увлекательна. Как будто вы присутствуете при рождении чего-то большого, и вы это знаете.Я вижу, как Сатана падает, как молния , René Girard (1999)
Это одна из самых увлекательных книг Жирара, написанная, когда его богословские взгляды становились зрелыми. Он начинает с умопомрачительного объяснения 10-й заповеди. Последние две главы этой книги, особенно глава 13 («Современная забота о жертвах»), являются одними из наиболее актуальных из всего, что написал Жирар в настоящий момент.
Миметическая теория Рене Жирара , Вольфганг Палавер (2013)
Мне нравится книга Палавера, потому что в ней систематизированы все ключевые концепции миметической теории. Это хороший способ уменьшить масштаб и получить представление о местности, прежде чем погрузиться глубже.
Вещи, сокрытые с момента основания мира , Рене Жирар (1978)
The magnum opus. Обязательна к прочтению всем, кто хочет углубиться.
 Питер Тиль рекомендует эту книгу многим людям в качестве введения к Girard. Ну, у Тиля действительно умные друзья. Я знаю многих людей, которые находят эту книгу совершенно непонятной. Это также немного странно из-за диалогической формы, которую он принимает (разговор между тремя людьми). Тем не менее, это книга, к которой я возвращаюсь и от которой пью больше всего. Там есть золото, если вы готовы его добывать. И вам лучше майнить вещей, скрытых , чем биткойн.
Питер Тиль рекомендует эту книгу многим людям в качестве введения к Girard. Ну, у Тиля действительно умные друзья. Я знаю многих людей, которые находят эту книгу совершенно непонятной. Это также немного странно из-за диалогической формы, которую он принимает (разговор между тремя людьми). Тем не менее, это книга, к которой я возвращаюсь и от которой пью больше всего. Там есть золото, если вы готовы его добывать. И вам лучше майнить вещей, скрытых , чем биткойн.Эволюция желания: жизнь Рене Жирара, Синтия Л. Хейвен (2018)
Книга Хейвена представляет собой очень солидную биографию. Она называет голову Жирара «тотемной, с ее темными, глубоко посаженными глазами и копной густых волнистых волос цвета соли и перца». Я люблю эту книгу, потому что она строго объясняет происхождение идей Жирара — Хейвен отдает должное его мысли, рассказывая предысторию этого человека и обстоятельства, при которых эти идеи родились. Эта книга благоговейна. И почтение, кажется, к истине.

Разоблачение насилия: Человечество на перекрестке , Джил Бэйли (1995)
Я сидел на скамейке в парке с Джил Бэйли в Сономе (где он живет), проводя исследования и беря интервью для Wanting. Он сказал мне, что его друг Рене Жирар мог «убрать идола из глаз другого человека, как если бы это было актом почтения». Бэйли написал книгу, которая, вероятно, является самой лучшей моделью для меня.
Мимесис и наука: эмпирические исследования подражания и миметическая теория культуры и религии , Скотт Р. Гаррелс, редактор (2011)
Миметическая теория могла бы выиграть от большего научного подхода, и эта книга дает результаты. По крайней мере, это отличное начало. Эссе доктора Эндрю Мельцоффа блестяще.
Эволюция и преобразование: диалоги об истоках культуры , Рене Жирар (2000)
Вы больше нигде не услышите, чтобы Жирар говорил о Сайнфельде. После вещей, скрытых , это книга, к которой я возвращаюсь на втором месте.
 Это одна из самых поздних и зрелых работ.
Это одна из самых поздних и зрелых работ.Воскрешение из подполья: Федор Достоевский , Рене Жирар (1989)
Роман Достоевского « Записки из подполья » называют первым по-настоящему «современным» романом, и Жирар интерпретирует его как никакой другой. По моему мнению, идея «подполья» (желания) является одним из наиболее важных и актуальных для нас образов. Я собственными глазами видел, как подпольное миметическое желание разрушает браки, компании и друзей. Нам нужно усвоить важные уроки, чтобы этого не случилось с нами.
Битва до конца: Беседа с Бенуа Шантром , Рене Жирар (2009)
Холод. Это все, что я должен сказать. Прочтите это. Слово «апокалипсис» просто означает «раскрытие» грядущих событий. Это самая пророческая работа Жирара.
Как многие из вас знают, 1 июня у меня выходит книга по миметической теории. Тайлер Коуэн сказал об этом.
Но не мне его куда-то помещать в этом списке.

 Одновременно с развитием воспитательных институтов и средств массовой коммуникации появляются и разнообразные возможности управления подражанием образцу: массовому сознанию предъявляются и «образцы», и «способы подражания».
Одновременно с развитием воспитательных институтов и средств массовой коммуникации появляются и разнообразные возможности управления подражанием образцу: массовому сознанию предъявляются и «образцы», и «способы подражания». Леви-Строссом, Ж. Делёзом и другими исследователями.
Леви-Строссом, Ж. Делёзом и другими исследователями.






 «Ratio без мимесиса отрицает себя». Здесь мимесис — форма человеческого отношения к природе через страх, то есть в виде негативной психомиметической реакции. Жест конкретно направленного отрицания позволяет проявить в объекте ужасное, и его воспроизведением — отвергнуть, то есть принять, «впустить» в сознание, но в качестве объекта больше уже не внушающего страх. Такова новая, негативная эстетика Ш. Бодлера, Ф. Кафки, С. Беккета, композиторов новой Венской школы (А. Шенберг, А. Берг).
«Ratio без мимесиса отрицает себя». Здесь мимесис — форма человеческого отношения к природе через страх, то есть в виде негативной психомиметической реакции. Жест конкретно направленного отрицания позволяет проявить в объекте ужасное, и его воспроизведением — отвергнуть, то есть принять, «впустить» в сознание, но в качестве объекта больше уже не внушающего страх. Такова новая, негативная эстетика Ш. Бодлера, Ф. Кафки, С. Беккета, композиторов новой Венской школы (А. Шенберг, А. Берг).