|
Евдемонизм — это философско-этическое учение и жизненная установка, согласно которой единственным или высшим (более предпочтительным, чем все остальные) человеческим благом является счастье. Евдемонизм представляет собой особый, в основе своей телеологический, тип этической теории (см. Этика) и способ обоснования морали (см. Мораль). Ориентация на счастье означает признание того, что конечной целевой причиной, а соответственно и общей ценностной основой (смыслом, нравственным пределом) деятельности является сам действующий субъект. По словам Аристотеля, счастье «мы всегда избираем ради него самого и никогда ради чего-то другого» (EN, 1, 5, 1097 в). Счастье представляет собой общую категорию субъективных оснований деятельности, которые в содержательном плане столь же различны, сколь различны сами субъекты. Учитывая эти различия, этика чаще всего стремится их преодолеть, так как её прежде всего интересует вопрос о том, может ли счастье быть объективным принципом, способным придать нравственную соразмерность жизни как отдельных индивидов в многообразии их желаний, интересов, потребностей, так и человеческих сообществ.  Евдемонизм не только ставит мораль в прямую связь и зависимость от счастья; по-особому понимается и сама мораль, ценность которой связывается прежде всего с приятными ощущениями, чувствами удовольствия, душевного комфорта, сопутствующими добродетельному образу мыслей и действий. Евдемонизм не только ставит мораль в прямую связь и зависимость от счастья; по-особому понимается и сама мораль, ценность которой связывается прежде всего с приятными ощущениями, чувствами удовольствия, душевного комфорта, сопутствующими добродетельному образу мыслей и действий.
Принято различать по крайней мере три разновидности евдемонизма, которые условно можно назвать гедонистическим, моралистическим и синтетическим. Гедонистический вариант был всесторонне разработан Эпикуром, получил широкое распространение в эпоху Просвещения (П. Гассенди, Ж. О. де Ламетри, Ф. Вольтер, П. А. Гольбах). В нём счастье понимается как удовольствие, его отличие от гедонизма в собственном смысле слова состоит в том, что удовольствие интерпретируется как особое (устойчивое, длительное, интенсивное) состояние, а его достижение прямо ставится в зависимость от добродетельной жизни. Обосновывая такой взгляд, Эпикур показывает, что духовные удовольствия выше телесных, и определяет удовольствия как отсутствие страданий. Моралистический вариант евдемонизма связан со стоицизмом и стоической традицией в этике. Синтетический вариант евдемонизма связан с перипатетической традицией в этике, которая восходит к Аристотелю и его школе. В этом случае счастье понимается как высшее благо, которое не отменяет все прочие блага, а, напротив, суммирует, внутренне организует их; непосредственно оно выступает как чувство удовлетворённости жизнью в целом. Для аристотелевского евдемонизма существенны два момента. Во-первых, блага разделяются на внутренние и внешние: внутренние образуют совершенную деятельность души и представляют собой совокупность добродетелей, которые зависят от самого индивида; внешние включают в себя богатство, почёт, телесную красоту, удачливость и прочие жизненно важные факторы, которые не зависят (не полностью зависят) от самого индивида. Понятие евдемонизма охватывает разнообразный круг этических теорий, поэтому принято разграничивать евдемонизм в широком и узком смысле. В узком, или собственном, смысле слова евдемонизм — традиция Эпикура, которая противостоит стоической традиции долга. В широком смысле, который придавал данному понятию И. Кант, евдемонизмом являются все так называемые Гетерономные моральные теории, так как «все материальные практические принципы […] подпадают под общий принцип себялюбия или счастья» (И. Кант. Критика практического разума, кн. 1, гл. 1, § 3). Кант считал, что только его этика свободна от учения о целях, а тем самым и от евдемонизма, однако и ему не удалось удержаться на этой позиции (постулат существования Бога был как раз предназначен для того, чтобы мораль и счастье можно было мыслить соединёнными). Евдемонизм — не только совокупность этических школ и моральных опытов, но и в известном смысле также определённая историческая стадия того и другого. Он был характерен для Античности, Средневековья, в значительной мере для Нового времени. В XX веке этика и моральная практика в целом отказались от евдемонизма: идеал ориентированного на счастье самодовлеющего индивида и счастливого общества оказывается явно несовместимым как с драматизмом существования современного человека в отчуждённом мире, так и с необычно возросшей интенсивностью общественных связей и взаимозависимостью людей друг от друга, а гедонизм, осуществлённый в практике потребительского общества, потерял нравственную привлекательность. Евдемонистические мотивы сохранились в рамках натуралистической этики (например, фелицитология О. Нейрата), но они уже не являются основой построения теории морали. |
Счастье по Аристотелю — Почитать на DTF
«Что такое счастье?», — британский профессор по античной литературе Эдит Холл предлагает поискать ответ на этот вопрос в книге «Счастье по Аристотелю», где рассматривает этику одного из самых значимых философов Античности на современный лад.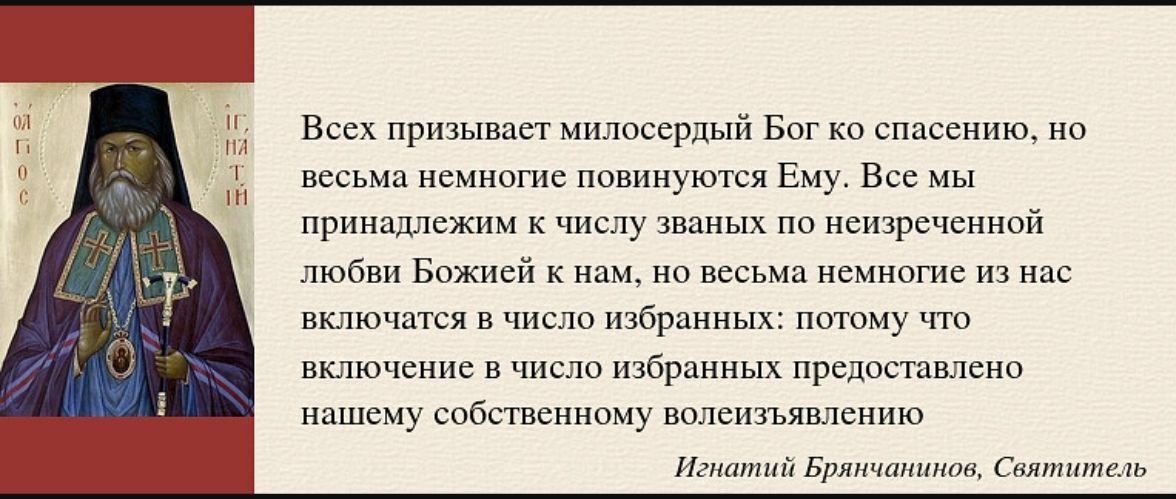
11 419 просмотров
Аристотель wikipedia.org
Почему эта книга?
Я познакомился с этой книгой в рамках предварительного ознакомления с этикой Аристотеля. Для меня важен процесс самопознания и мне интересна философия, но познания мои обрывочны и до Аристотеля не доходили. Поэтому, чтобы подготовиться к изучению его этики воспользовался таким источником.
К удивлению, его философия вполне может стать ориентиром в принятии решений сегодня. Авторша подробно рассматривает сочинения Аристотеля и формирует общее представление об этике и взглядах философа на жизнь. Ниже краткий пересказ идей затрагиваемых здесь.
Краткий пересказ
Счастье по Аристотелю заключается в раскрытии потенциала, заложенного внутри человека, при стремлении к совершенству, насколько позволяют обстоятельства. Счастье — привычка поступать правильно, руководствуясь добродетелями: благодеянием, совестью и самодисциплиной. Это внутреннее стремление к моральному и нравственному эталону.
Это внутреннее стремление к моральному и нравственному эталону.
Единственный способ достичь этой привычки делать добро и руководствоваться в принятии решений человеческой природой — т.е быть разумным.
Для достижения счастья человеку нужно принять решение следовать добродетелям. Это его личная ответственность. Активная, деятельная позиция по отношению к своей жизни — ключ к тому, чтобы руководствоваться ими.
Разумный человек имеет все шансы прожить достойную жизнь. Он поступает по совести со своим окружением, способен на самостоятельные суждения, умеет созерцать. В своих действиях ориентируется на рамки нравственного эталона, каждую ситуацию оценивая отдельно, саму по себе. Поскольку изначально никто не рождается добродетельным или нравственно идеальным, значит, это навык и его можно развить в любом возрасте.
Все в этом мире имеет 4 составляющих: форму — первопричину — материал — смысл. Человек, способен определить для себя смысл своего существования. Удовольствие от деятельности — ориентир в этом. Для раскрытия своего потенциала в деятельности, которая приносит нам удовольствие, может потребоваться много времени. Нам следует постоянно искать среду, которая поможет раскрыть свои задатки и взаимодействовать с ней.
Для раскрытия своего потенциала в деятельности, которая приносит нам удовольствие, может потребоваться много времени. Нам следует постоянно искать среду, которая поможет раскрыть свои задатки и взаимодействовать с ней.
Каждый день мы принимаем решения разной важности, поэтому умение «рассуждать грамотно» — необходимое качество современного человека. Не менее важно уметь прислушиваться к другим и оглядываться на чужой опыт. Это такой же навык, который мы можем развивать. Некоторые, не обучаясь специально, рассуждают таким образом, поэтому нам стоит компенсировать свое неумение целенаправленной работой.
Нужно принимать во внимание среду в которой ты оказался и учится предвидеть разные возможные исходы, чтобы подготовиться к последствиям. Бездействие — тоже имеет последствия, но бездействие не требует усилий, поэтому присуще людям слабым морально.
Риторика — инструмент, которым пользуется каждый человек. Стоит хотя бы ознакомиться с ее основами для того, чтобы уметь воздействовать на аудиторию. Склонять к нужному решению, производить впечатление, одерживать победы в спорах и диспутах. Частью риторики являются принципы: краткости, нацеленности на аудиторию и четкости. Подача материала изменилась не так сильно, как кажется, и спустя тысячелетия можно почерпнуть в «Риторике» и «Поэтике» важное для себя.
Склонять к нужному решению, производить впечатление, одерживать победы в спорах и диспутах. Частью риторики являются принципы: краткости, нацеленности на аудиторию и четкости. Подача материала изменилась не так сильно, как кажется, и спустя тысячелетия можно почерпнуть в «Риторике» и «Поэтике» важное для себя.
Одна из сторон нашей личности — пороки. В умеренных проявлениях они не сильно портят наши взаимоотношения с окружающими и собой. Но крайние проявления их требуют коррекции, хотя бы до состояния умеренности, поэтому стоит уделить внимание самопознанию и трезво посмотреть на себя. Добрые качества в крайней форме тоже носят негативный оттенок, поэтому их проявления тоже необходимо уравновесить.
Нас оценивают по тому, что мы сделали. Не сделанное людей не интересует. Поэтому в этике Аристотеля уделяется большое внимание принятию правильных справедливых решений. Стоит быть честным и не хвастливым — лучше придерживаться умеренной скромности. Нельзя оставаться в стороне, когда видишь несправедливость.
Личные отношения с людьми — важная часть жизни. Разные формы союзов, которые мы образуем с людьми оказывают влияние на наше счастье. Поэтому нам стоит разобрать как и с кем мы взаимодействуем. С кем-то мы близки, с кем-то дружим ради выгоды или удовольствия — выстраивание отношений ценно временем, которое мы вложили в них. Ничего плохо в том, чтобы не испытывать чувства родства к кровным родственникам.
Мы формируем общество. Аристотель рассматривает разные виды политических устройств, которые существуют до сих пор. Каждый из них имеет свои минусы. Правильное общество: небольшое, основано на принципе «гражданского согласия». Бедность приводит к имущественному расслоению и разногласиям на этой почве, поэтому с ней следует бороться.
Человека характеризует его досуг. Если мы формируем общество, то правильно выстроенный досуг формирует нас. Нужно стремиться к тому, чтобы наполнять свою жизнь тем, что развивает нас. Следует изучать искусства, потому что они способны углублять наши нравственные взгляды.
Все живые существа смертны, поэтому нужно научиться принимать смерть и готовится к ней. Неизбежная конечность нашего бытия способна подтолкнуть нас к принятию решений и реализации жизненных проектов. Бог в этике Аристотеля существует в самопознании и не заинтересован в делах людей, он первоначальный импульс, но не наблюдатель. В жизни есть только один неизменный процесс — бесконечный цикл воспроизводства. Жизнь сменяет жизнь, жизнь порождает идеи, которые переживают своих создателей.
Резюмируем
В этой книге дан по сути общий взгляд на идеи философа. Я буду углублять свое знакомство с ними дальше. Однако, мысль о том, чтобы внедрять в свою жизнь следование добродетелям посещала меня неоднократно в процессе прочтения. Глава, посвященная принципу середины, побудила взглянуть на себя и оценить какие качества я вижу у себя и как их следует развивать или сдерживать.
Будь здоров!
Счастье: три традиционные теории
Мартин Э. П. Селигман и Эд Ройзман
Июль 2003 г.
На наш взгляд, существует три типа традиционных теорий счастья. Какой из них, по вашему мнению, влияет на то, как вы ведете свою жизнь, воспитываете своего ребенка или даже отдаете свой голос.
Теория гедонизма
Во-первых, есть гедонизм. Во всех своих вариантах он утверждает, что счастье — это чистое субъективное чувство. Счастливая жизнь максимизирует чувство удовольствия и минимизирует боль. Счастливый человек много улыбается, жизнерадостный, с яркими глазами и пушистым хвостом; ее удовольствия интенсивны и многочисленны, ее боли немногочисленны и редки. Эта теория имеет свои современные концептуальные корни в утилитаризме Бентама (Bentham, 1978), его зараза в голливудских развлечениях, его самое грубое проявление в американском потреблении и одно из самых изощренных воплощений во взглядах нашего коллеги-позитивного психолога Дэнни Канемана, недавно получившего Нобелевскую премию по экономике. Его теория должна ответить на важный вопрос: чья это жизнь, переживающая или ретроспективная оценка удовольствия?
Рассмотрим следующий сценарий: исследователи сигналят случайным образом людям в течение дня, спрашивают, сколько удовольствия или боли человек испытывает в данный момент (метод выборки опыта, ESM), и экстраполируют приблизительное общее количество испытанного счастья за неделю. . Они также потом спрашивают тех же людей: «Насколько счастливой была ваша неделя?» Ретроспективное суммарное суждение о счастье часто сильно отличается от экстраполированного общего количества испытанного счастья. Помните свой последний отпуск? «Да это было здорово!» Вы могли бы сказать, даже если бы во время этого пищали, комары, движение, солнечные ожоги и еда по завышенным ценам могли бы противоречить вашему общему суждению. В руках психолога-экспериментатора гедонизм становится методологическим обязательством: ваше «объективное счастье» за данный период времени вычисляется путем суммирования ваших онлайновых гедонистических оценок всех отдельных моментов, составляющих этот период. Эта рассчитанная совокупность «опытной полезности» становится критерием истинности того, насколько действительно счастливым должен считаться ваш отпуск (ваше детство, ваша жизнь). С этой точки зрения переживающий всегда прав. Если переживающий и ретроспективный судья расходятся во мнениях, тем хуже для судьи.
. Они также потом спрашивают тех же людей: «Насколько счастливой была ваша неделя?» Ретроспективное суммарное суждение о счастье часто сильно отличается от экстраполированного общего количества испытанного счастья. Помните свой последний отпуск? «Да это было здорово!» Вы могли бы сказать, даже если бы во время этого пищали, комары, движение, солнечные ожоги и еда по завышенным ценам могли бы противоречить вашему общему суждению. В руках психолога-экспериментатора гедонизм становится методологическим обязательством: ваше «объективное счастье» за данный период времени вычисляется путем суммирования ваших онлайновых гедонистических оценок всех отдельных моментов, составляющих этот период. Эта рассчитанная совокупность «опытной полезности» становится критерием истинности того, насколько действительно счастливым должен считаться ваш отпуск (ваше детство, ваша жизнь). С этой точки зрения переживающий всегда прав. Если переживающий и ретроспективный судья расходятся во мнениях, тем хуже для судьи.
Одна из основных проблем, с которой сталкивается гедонист, заключается в том, что, когда мы желаем кому-то счастливой жизни (или счастливого детства, или даже счастливой недели), мы не просто желаем, чтобы он накопил кругленькую сумму удовольствий, независимо от того, как эта сумма распределяется на протяжении всей жизни или его значение для всего (Velleman, 1991). Мы можем представить себе две жизни, содержащие одинаковое количество сиюминутных приятных моментов, но одна жизнь рассказывает историю постепенного упадка (восторженное детство, беззаботная юность, дисфоническая взрослость, жалкая старость), а другая — историю постепенного улучшения (благополучие). выше шаблон в обратном порядке). Разница между этими жизнями заключается в их глобальных траекториях, и их нельзя различить с точки зрения отдельных моментов. Их может понять только ретроспективный судья, исследующий образ жизни в целом.
Имея это в виду, главным вызовом гедонизму «Подлинного счастья» являются последние слова Витгенштейна: «Скажите им, что это было прекрасно!» произнесенное даже после жизни отрицательных эмоций и даже откровенного страдания. Гедонизм не может рассматривать этот тип ретроспективного резюме, не помечая его как грубое заблуждение («он, должно быть, был в бреду!»)
Гедонизм не может рассматривать этот тип ретроспективного резюме, не помечая его как грубое заблуждение («он, должно быть, был в бреду!»)
Теория желания
Теория желания может быть лучше, чем гедонизм. Теории желания утверждают, что счастье заключается в том, чтобы получить то, что вы хотите (Гриффин, 19 лет).86), при этом содержание желания остается на усмотрение того, кто желает. Теория желания включает в себя гедонизм, когда мы хотим много удовольствия и немного боли. Подобно гедонизму, теория желания может объяснить, почему рожок мороженого предпочтительнее тыкания в глаз. Однако гедонизм и теория желания часто расходятся. Гедонизм считает, что преобладание удовольствия над болью является рецептом счастья, даже если это не то, чего человек больше всего желает. Теория желания утверждает, что исполнение желания способствует счастью независимо от количества удовольствия (или неудовольствия). Одним из очевидных преимуществ теории Желания является то, что она может объяснить Витгенштейна.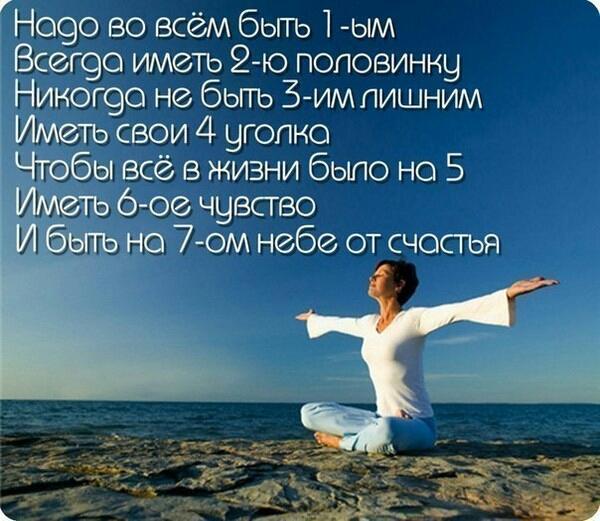 Он хотел правды и просветления, борьбы и чистоты, и он не очень желал удовольствия. Согласно теории Желания, его жизнь была «чудесной», потому что он достиг большей истины и просветления, чем большинство смертных, хотя как «отрицательный аффектив» он испытывал меньше удовольствия и больше боли, чем большинство людей.
Он хотел правды и просветления, борьбы и чистоты, и он не очень желал удовольствия. Согласно теории Желания, его жизнь была «чудесной», потому что он достиг большей истины и просветления, чем большинство смертных, хотя как «отрицательный аффектив» он испытывал меньше удовольствия и больше боли, чем большинство людей.
Машина опыта Нозика (1974) (ваша жизнь проходит в резервуаре с вашим мозгом, подключенным к получению любого опыта, который вы хотите) отвергнута, потому что мы хотим заработать их удовольствия и достижения. Мы хотим, чтобы они возникли в результате правильных действий и хорошего характера, а не как иллюзия химии мозга. Таким образом, критерий Желания для счастья переходит от количества ощущаемого удовольствия в гедонизме к несколько менее субъективному состоянию того, насколько хорошо удовлетворены чьи-либо желания.
Наше принципиальное возражение против теории Желания заключается в том, что человек может желать только коллекционирования фарфоровых чашек чая или оргазмов, или только слушать музыку в стиле кантри и вестерн, или считать опавшие листья целыми днями.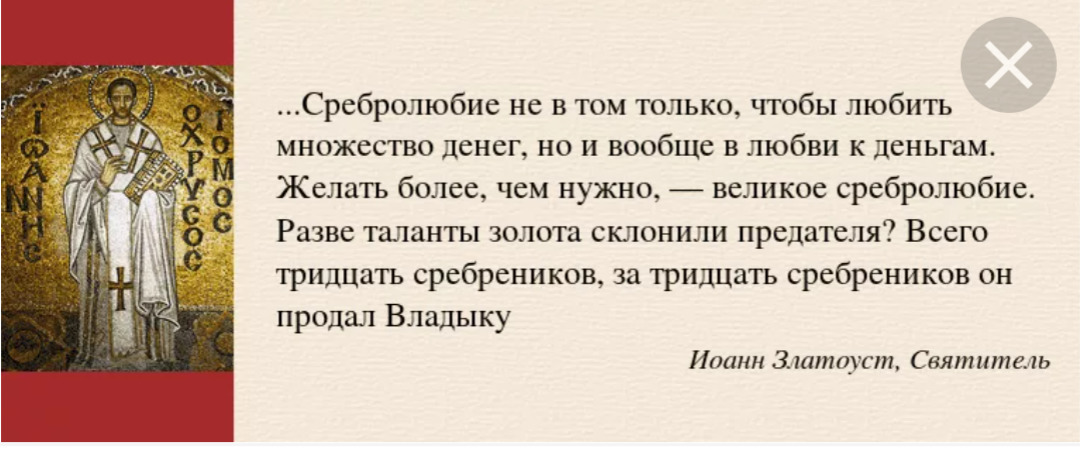 Самая большая в мире коллекция чайных чашек, какой бы «удовлетворительной» она ни казалась, не способствует счастливой жизни. Один из шагов, позволяющих отклонить это возражение, состоит в том, чтобы ограничить область применения теории Желаний выполнением только тех желаний, которые были бы у человека, если бы он стремился составить объективный список того, что действительно ценно в жизни.
Самая большая в мире коллекция чайных чашек, какой бы «удовлетворительной» она ни казалась, не способствует счастливой жизни. Один из шагов, позволяющих отклонить это возражение, состоит в том, чтобы ограничить область применения теории Желаний выполнением только тех желаний, которые были бы у человека, если бы он стремился составить объективный список того, что действительно ценно в жизни.
Теория объективного списка
Теория объективного списка (Nussbaum, 1992; Sen, 1985) помещает счастье вне чувств и в список «действительно ценных» вещей в реальном мире. Он утверждает, что счастье состоит в человеческой жизни, которая достигает определенных целей из списка достойных занятий: такой список может включать карьерные достижения, дружбу, свободу от болезней и боли, материальный комфорт, гражданский дух, красоту, образование, любовь, знания, и добрая совесть. Вспомните тысячи брошенных детей, живущих на улицах ангольской столицы Луанды. Как сообщает нам «Нью-Йорк таймс», «одетые в лохмотья, они проводят ночи на песчаной полосе вдоль залива, а дни добывают пищу среди куч мусора». Кажется возможным, что их существование, поглощенное удовлетворением сиюминутных потребностей, предприимчивым бродяжничеством в бандах, случайным сексом, с небольшими мыслями о завтрашнем дне, может быть на самом деле субъективно «счастливым» либо с точки зрения гедонизма, либо с точки зрения теории желания. Но мы не хотим классифицировать такое существование как «счастливое», и теория объективного списка объясняет нам, почему. Эти дети лишены многих или большинства вещей, которые вошли бы в чей-либо список того, что стоит в жизни.
Кажется возможным, что их существование, поглощенное удовлетворением сиюминутных потребностей, предприимчивым бродяжничеством в бандах, случайным сексом, с небольшими мыслями о завтрашнем дне, может быть на самом деле субъективно «счастливым» либо с точки зрения гедонизма, либо с точки зрения теории желания. Но мы не хотим классифицировать такое существование как «счастливое», и теория объективного списка объясняет нам, почему. Эти дети лишены многих или большинства вещей, которые вошли бы в чей-либо список того, что стоит в жизни.
Хотя мы находим сдвиг Объективного списка в сторону объективно ценного позитивным шагом, наше основное возражение против этой теории состоит в том, что большая часть того, насколько счастливой мы считаем жизнь, должна принимать во внимание чувства и желания (пусть и недальновидные).
Подлинное счастье
Какое место занимает наша теория подлинного счастья (Seligman, 2003) по отношению к этим трем теоретическим традициям? Наша теория утверждает, что существует три различных вида счастья: приятная жизнь (удовольствия), хорошая жизнь (помолвка) и осмысленная жизнь. Первые два субъективны, а третий, по крайней мере частично, объективен и заключается в принадлежности и служении тому, что больше и ценнее, чем просто удовольствия и желания собственного «я». Таким образом, «Подлинное счастье» синтезирует все три традиции: «Приятная жизнь» — это счастье в смысле гедонизма. Хорошая Жизнь — это счастье в смысле Желания, а Осмысленная Жизнь — это счастье в смысле Объективного Списка. В довершение всего, Подлинное Счастье также допускает «Полную жизнь», жизнь, которая удовлетворяет всем трем критериям счастья.
Первые два субъективны, а третий, по крайней мере частично, объективен и заключается в принадлежности и служении тому, что больше и ценнее, чем просто удовольствия и желания собственного «я». Таким образом, «Подлинное счастье» синтезирует все три традиции: «Приятная жизнь» — это счастье в смысле гедонизма. Хорошая Жизнь — это счастье в смысле Желания, а Осмысленная Жизнь — это счастье в смысле Объективного Списка. В довершение всего, Подлинное Счастье также допускает «Полную жизнь», жизнь, которая удовлетворяет всем трем критериям счастья.
Для дальнейшего чтения
Bentham, J. (1978). Принципы морали и законодательства. Баффало: Прометей.
Гриффин, Дж. (1986). Благосостояние: его значение, измерение и моральное значение. Оксфорд, Англия: Clarendon Press.
Канеман, Д. (1999). Объективное счастье. В Д. Канеман, Э. Динер и Н. Шварц (ред.), Благополучие: основы гедонистической психологии (стр. 3-25). Нью-Йорк: Рассел Сейдж.
Каган, С. (1998). Нормативная этика. Боулдер, Колорадо: Westview Press.
Боулдер, Колорадо: Westview Press.
Майерфельд, Дж. (1999). Страдание и моральная ответственность. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Нозик, Р. (1974). Анархия, государство и утопия. Нью-Йорк: Основные книги.
Нуссбаум, М. (1992). Человеческое функционирование и социальная справедливость: в защиту аристотелевского эссенциализма. Политическая теория, 20, 202-246.
Ройзман, Э.Б., Кэссиди, К.В., Барон, Дж. (2003). «Я знаю, ты знаешь»: Эпистемический эгоцентризм у детей и взрослых. Обзор общей психологии, 7, 38-65.
Селигман, MEP (2002). Настоящее счастье. Нью-Йорк: Свободная пресса.
Сен, А. (1985). Товары и возможности. Амстердам: Северная Голландия.
Веллеман, Дж. Д. (1991). Самочувствие и время. Pacific Philosophical Quarterly, 72, 48-77.
© Copyright 2003 Martin E. P. Seligman. Все права защищены.
Добродетели счастья: теория хорошей жизни | Отзывы | Notre Dame Philosophical Reviews
Книга Пола Блумфилда является долгожданным дополнением к недавней литературе о добродетели и счастье, понимаемой как eudaimonia или Хорошая жизнь (10).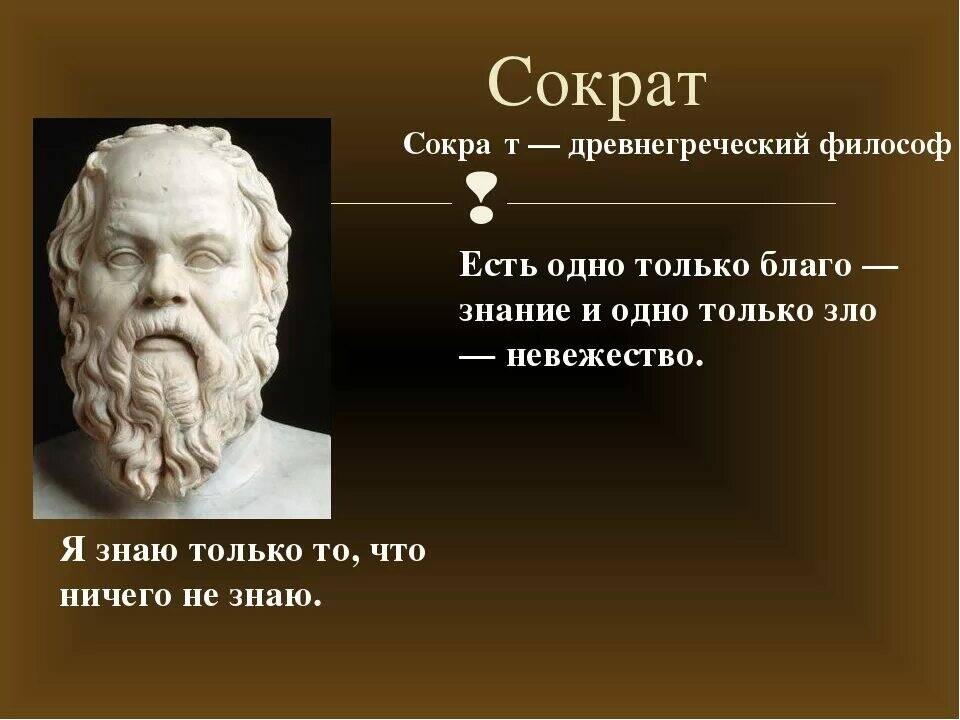 Счастье в этом смысле относится к жизни, которая хороша для человека, живущего в ней, в отличие от просто жизни, наполненной счастливыми чувствами, или жизни, которая приносит удовлетворение. Цель Блумфилда состоит в том, чтобы дать новый аргумент в пользу древнего утверждения о том, что добродетель частично составляет счастье. Его центральное понимание состоит в том, что счастье требует ценить все, включая себя и других, по их истинной ценности, и что мы добродетельны в той мере, в какой мы это делаем. В частности, счастье требует самоуважения, а самоуважение требует уважения к другим как к самоцели. Подробное рассмотрение Блумфилдом этих утверждений, и особенно второго, связывающего современное понятие уважения и самоуважения с древним понятием счастья, действительно оригинально и интересно.
Счастье в этом смысле относится к жизни, которая хороша для человека, живущего в ней, в отличие от просто жизни, наполненной счастливыми чувствами, или жизни, которая приносит удовлетворение. Цель Блумфилда состоит в том, чтобы дать новый аргумент в пользу древнего утверждения о том, что добродетель частично составляет счастье. Его центральное понимание состоит в том, что счастье требует ценить все, включая себя и других, по их истинной ценности, и что мы добродетельны в той мере, в какой мы это делаем. В частности, счастье требует самоуважения, а самоуважение требует уважения к другим как к самоцели. Подробное рассмотрение Блумфилдом этих утверждений, и особенно второго, связывающего современное понятие уважения и самоуважения с древним понятием счастья, действительно оригинально и интересно.
Блумфилд утверждает, что «жизнь нравственно или добродетельно необходима и достаточна для того, чтобы люди жили максимально счастливо, учитывая их личность и обстоятельства» (6). Это не следует путать со стоической точкой зрения, согласно которой добродетель одновременно необходима и достаточна для счастья, поскольку она не утверждает, что добродетель преодолевает все несчастья или что наши обстоятельства не влияют на наше счастье (6-7). Он просто утверждает, что независимо от наших обстоятельств без добродетели мы не можем быть счастливы, а с добродетелью наша жизнь счастливее, чем могла бы быть в противном случае. Эта диссертация защищена в трех длинных главах.
Он просто утверждает, что независимо от наших обстоятельств без добродетели мы не можем быть счастливы, а с добродетелью наша жизнь счастливее, чем могла бы быть в противном случае. Эта диссертация защищена в трех длинных главах.
Главные враги Блумфилда — этические эгоисты, такие как Разумный Мошенник Юма и другие, неуместно пристрастные к себе и тем, кто им дорог, с одной стороны, и «моралисты» — с другой (гл. 1). Первые считают, что их собственное счастье (или свое собственное и счастье тех, кто им небезразличен) является самым ценным в мире и что нравственность вообще противоположна их счастью, тогда как вторые считают, что счастье — это одно, а нравственность — другое. , а когда они противоречат друг другу, мораль должна победить (6-7). И эгоисты, и моралисты понимают мораль как нечто по своей сути бескорыстное, а счастье как по своей сути эгоистичное, и в этом большая часть проблемы. Даже когда такой моралист, как Кант, признает моральную важность эгоистичных установок, таких как, скажем, самоуважение, и осуждает раболепие, он усматривает важность самоуважения в требовании рациональности, а не в требовании нашего счастья (16). сл.). Мораль показывает нам, как жить хорошей жизнью, согласовывая свои интересы и действия с интересами и действиями других (22 и далее), примиряя уважение к другим с самоуважением, и в этом источник авторитета морали (40-42).
сл.). Мораль показывает нам, как жить хорошей жизнью, согласовывая свои интересы и действия с интересами и действиями других (22 и далее), примиряя уважение к другим с самоуважением, и в этом источник авторитета морали (40-42).
Блумфилд соглашается с тем, что аморальность (часто) иррациональна, но указывает, что этого недостаточно, чтобы оправдать нравственность перед эгоистом, поскольку, если он убежден в своей иррациональности, он может заботиться о рациональности не больше, чем о морали. Спор с язвительностью должен начинаться с общих предпосылок, то есть предпосылок, которые разделяют как аморалисты, так и те, кто заботится о морали. Эти предпосылки заключаются в том, что (1) для них важно их собственное счастье и (2) счастье требует самоуважения. Если эгоисты убеждены, что им не хватает самоуважения, вряд ли они скажут, что им наплевать на самоуважение.
Главный аргумент Блумфилда против эгоистов, которых он называет Фоско в честь главного злодея из «Женщина в белом» и которых он противопоставляет Хартрайтам, названным в честь героя романа, появляется в гл. 1. Фоско верят, что они по своей природе выше Хартрайтов, поскольку они, Фоско, видят жизнь такой, какая она есть, тогда как Хартрайты являются обманщиками морали. Фоско считают себя сильными и уважающими себя, а Хартрайты — слабыми, самообманчивыми и лишенными самоуважения (45ff.). Следовательно, Фоско считают себя вправе использовать Хартрайтов в своих интересах всякий раз, когда это необходимо для продвижения их собственных интересов. Фоско и Хартрайт согласны с тем, что серьезное самообман несовместимо с самоуважением и, следовательно, с Хорошей Жизнью, но каждый думает, что это другой обманывает себя. Задача Блумфилда — показать, что ошибаются Фоско.
1. Фоско верят, что они по своей природе выше Хартрайтов, поскольку они, Фоско, видят жизнь такой, какая она есть, тогда как Хартрайты являются обманщиками морали. Фоско считают себя сильными и уважающими себя, а Хартрайты — слабыми, самообманчивыми и лишенными самоуважения (45ff.). Следовательно, Фоско считают себя вправе использовать Хартрайтов в своих интересах всякий раз, когда это необходимо для продвижения их собственных интересов. Фоско и Хартрайт согласны с тем, что серьезное самообман несовместимо с самоуважением и, следовательно, с Хорошей Жизнью, но каждый думает, что это другой обманывает себя. Задача Блумфилда — показать, что ошибаются Фоско.
Первый аргумент Блумфилда онтологический. Он утверждает, что парадигмальные формы безнравственности, такие как принуждение, предательство и манипуляция, вредны для тех, кто их совершает, потому что они несовместимы с самоуважением и, следовательно, со счастьем. Здесь Блумфилд опирается на различие, проведенное Стивеном Даруоллом, а до него Элизабет Телфер, между «уважением оценки» и «уважением признания» (61). Оценочное уважение основано на достижениях или характере человека, тогда как уважение признания основано на том факте, что, поскольку он человек, он внутренне ценен, является самоцелью, а не вещью. Здесь Блумфилд отходит от обычного мнения о том, что то, что заставляет нас кончать в самих себе, — это наша рациональность, или свобода действий, или способность к морали, утверждая, что просто наша человечность наделяет нас этим статусом. Однако Фоско относятся к другим — или к тем, кто им безразличен, — как к простым вещам. Либо они отрицают, что люди являются целями сами по себе и, таким образом, отрицают существование уважения признания, либо они признают, что существует такая вещь, как уважение признания, но утверждают, что только они обладают свойствами, которые являются основанием для такого уважения. В первом случае они не уважают себя и этим вредят себе. Во втором случае они непоследовательны в том, что не относятся к подобным случаям одинаково, и это делает их самоуважение обманчивым (62–63).
Оценочное уважение основано на достижениях или характере человека, тогда как уважение признания основано на том факте, что, поскольку он человек, он внутренне ценен, является самоцелью, а не вещью. Здесь Блумфилд отходит от обычного мнения о том, что то, что заставляет нас кончать в самих себе, — это наша рациональность, или свобода действий, или способность к морали, утверждая, что просто наша человечность наделяет нас этим статусом. Однако Фоско относятся к другим — или к тем, кто им безразличен, — как к простым вещам. Либо они отрицают, что люди являются целями сами по себе и, таким образом, отрицают существование уважения признания, либо они признают, что существует такая вещь, как уважение признания, но утверждают, что только они обладают свойствами, которые являются основанием для такого уважения. В первом случае они не уважают себя и этим вредят себе. Во втором случае они непоследовательны в том, что не относятся к подобным случаям одинаково, и это делает их самоуважение обманчивым (62–63). В любом случае они не могут быть счастливы.
В любом случае они не могут быть счастливы.
Но почему неспособность относиться к подобным случаям одинаково подрывает самоуважение семьи Фоско? Поскольку, отрицая, что свойства, которые делают людей самоцелью, являются достаточным основанием для того, чтобы относиться к другим с признательным уважением, Фоско также, по сути, отрицают, что свойства, которые делают их целями, являются достаточным основанием для того, чтобы относиться к себе с признательным уважением. Этот аргумент, однако, успешен только в том случае, если верно, что (i) то, что заставляет нас кончать с собой, — это просто наш биологический статус как человеческих существ, и (ii) никто не думает, что наша рациональность, свобода воли или способность к морали делают нас нас кончает может иметь признание уважения к любому. Тем не менее, оба предположения несут тяжелое аргументативное бремя. Блумфилд говорит, что его аргумент успешен, даже если (i) ложно (65, прим. 62). Но если оно ложно, то Фоско могли бы легко сказать (как люди часто говорят о тех, кто не принадлежит к их собственному сообществу), что у них есть признание и уважение к членам их собственного сообщества, потому что только они обладают необходимыми качествами. Они по-прежнему сильно ошибались бы, думая, что только члены их собственного сообщества обладают этими свойствами, но поскольку они имеют признание и уважение к некоторым людям, у них есть некоторое подлинное самоуважение.
Они по-прежнему сильно ошибались бы, думая, что только члены их собственного сообщества обладают этими свойствами, но поскольку они имеют признание и уважение к некоторым людям, у них есть некоторое подлинное самоуважение.
Эпистемологический аргумент Блумфилда, однако, успешен без предположения, что именно наша человечность делает нас конечными (72-79). Самоуважение требует самопознания, а «самопознание человека требует знания других людей» (75). Как он утверждает ранее, «мы не могли бы быть теми, кто мы есть, как личности, если бы мы не были человеческими существами» (68). Так что, если Фоско слепы к статусу других в качестве целей, они должны быть слепы и к своим собственным. Отсюда им не хватает признания самоуважения.
Здесь опять же важно различать тех, кто не признает ничьим , или почти ничьим, статусом целей, и тех, кто не признает этого статуса некоторых классов людей: иностранцев, или те, кто молится чужим богам, или женщинам, и так далее. Иногда Блумфилд пишет так, как будто его аргумент о незнании себя в равной степени применим ко всем таким людям. Но при условии, что их собственное сообщество довольно велико, те, кто принижает рейтинг только аутсайдеров, все же имеют некоторое представление о других людях. Следовательно, у них также есть некоторое самопознание и, таким образом, некоторое самоуважение и счастье.
Иногда Блумфилд пишет так, как будто его аргумент о незнании себя в равной степени применим ко всем таким людям. Но при условии, что их собственное сообщество довольно велико, те, кто принижает рейтинг только аутсайдеров, все же имеют некоторое представление о других людях. Следовательно, у них также есть некоторое самопознание и, таким образом, некоторое самоуважение и счастье.
Блумфилд признает, что Фоско могли бы сказать, что их не волнует признание самоуважения, а только оценка самоуважения. Но он убедительно доказывает, что оценочное уважение «имеет смысл только на фоне признания и уважения» (88). Если бы мы были «простыми инструментами, которые могут делать только то, что они делают, и не могут быть или делать иначе», не было бы оснований для уважать их достижения (88). Здесь я согласен с Блумфилдом, но заметьте, что теперь он основывает уважение признания на способности выбора, которой обладает большинство взрослых людей, а не только на принадлежности к виду, хомо сапиенс .
В качестве последней попытки Фоско могут ответить, что им не нужно самоуважение, чтобы быть счастливыми, но таким ответом они опровергнут свое заявление о том, что это Хартрайты, эти обманщики морали, которым не хватает самоуважения , тем самым теряя любое преимущество, которое они имели над ними (89). Блумфилд изменил ситуацию с Фоско.
В гл. 2 Блумфилд рассматривает парадокс счастья, идею о том, что делать все ради собственного счастья обречено на провал. Он отвергает аргумент Генри Сиджвика о том, что это обречено на провал, потому что такая сосредоточенность отвлекает нас от вложений в проекты и отношения, которые делают нас счастливыми, вложений, необходимых для счастья (9).6-97). Ибо если бы это было единственной проблемой, мы могли бы решить отложить мысли о собственном счастье на задний план, но по-прежнему вкладывать себя в наши проекты и отношения как в простое средство для нашего счастья, полагая, что наше счастье — это самое ценное, что есть на свете. мир. Именно в этом представлении — что наше счастье — самая ценная вещь в мире, и что ничто другое не имеет никакой ценности независимо от нашего счастья — и есть проблема. Счастье требует жизни, прожитой с осознанием того факта, что другие люди имеют ценность сами по себе, как и многие проекты, ценность, которая не зависит от нашего счастья. Именно правильное или добродетельное стремление к таким внутренне ценным вещам (или, во всяком случае, некоторым из них) и добродетельные отношения с хорошими людьми делают нас по-настоящему счастливыми. Такие занятия и отношения становятся частью нашего счастья. Фоско не могут быть счастливы, потому что они «неправомерно и аморально пристрастны» к себе, своим семьям или своим сообществам и имеют «ложные убеждения и ожидания относительно того, как жить хорошо и быть счастливыми» (111).
Счастье требует жизни, прожитой с осознанием того факта, что другие люди имеют ценность сами по себе, как и многие проекты, ценность, которая не зависит от нашего счастья. Именно правильное или добродетельное стремление к таким внутренне ценным вещам (или, во всяком случае, некоторым из них) и добродетельные отношения с хорошими людьми делают нас по-настоящему счастливыми. Такие занятия и отношения становятся частью нашего счастья. Фоско не могут быть счастливы, потому что они «неправомерно и аморально пристрастны» к себе, своим семьям или своим сообществам и имеют «ложные убеждения и ожидания относительно того, как жить хорошо и быть счастливыми» (111).
Я согласен с общим замечанием Блумфилда о том, что для счастья необходимо ценить неотъемлемую ценность людей и вещей, а не только их инструментальную ценность для нашего счастья. Но его аргумент поднимает несколько важных вопросов. Согласитесь, неправильно думать, что наше счастье — единственная или даже самая важная вещь в мире, так же неправильно думать, что наше счастье — самая важная вещь в мире для нас ? Последнее совместимо с признанием того, что счастье других может быть самой важной вещью в мире 9. 0064 им , что в мире есть ценные по своей сути вещи. Далее, если именно добродетельное включение в нашу жизнь (некоторых) независимо ценных вещей делает ее счастливой, то что плохого в утверждении, что наше счастье — наша хорошая жизнь — является для нас самой важной вещью в мире? Разве это не то же самое, что сказать, что добродетельные действия в погоне за независимо ценными вещами в нашей жизни являются для нас самой важной вещью в мире?
0064 им , что в мире есть ценные по своей сути вещи. Далее, если именно добродетельное включение в нашу жизнь (некоторых) независимо ценных вещей делает ее счастливой, то что плохого в утверждении, что наше счастье — наша хорошая жизнь — является для нас самой важной вещью в мире? Разве это не то же самое, что сказать, что добродетельные действия в погоне за независимо ценными вещами в нашей жизни являются для нас самой важной вещью в мире?
Частичный ответ на эти вопросы дает использование Блумфилдом различения Джозефа Батлера между нашим счастьем и вещами, которые делают нас счастливыми (97-98). Блумфилд утверждает, что «если мы полностью вкладываемся в то, что делает нас счастливыми, и если мы сделали правильный выбор в этом отношении, то у нас больше нет причин быть мотивированным нашим собственным счастьем как таковым, помимо того, что мы уже мотивированы тем, что делает нас счастливыми». мы уже считаем ценными» (132). Нам нужно снова принимать во внимание наше счастье только в том случае, если мы обнаружим, что наш выбор не делает нас счастливыми.
Теперь, если быть «мотивированным нашим собственным счастьем как таковым» означает постоянно размышлять о том, вызывает ли наш выбор положительные эмоции или приносит ли он внешнее вознаграждение, совет Блумфилда верен. Но Блумфилд идет дальше этих советов, когда заявляет, что «мы не должны стремиться к [тому, что делает нас счастливыми] из-за его инструментальной ценности для нашего собственного счастья…0064 действительно быть мотивированы стремиться к нему, потому что оно само по себе имеет ценность, как самоцель, и ни по какой другой причине» (133, ср. 207). Короче говоря, мы не должны быть мотивированы счастьем, потому что это несовместимо с тем, что мы мотивированы внутренней ценностью вещей, которые делают нас счастливыми. Это поднимает два вопроса. Во-первых, почему мы не можем быть мотивированы вещами, которые делают нас счастливыми как самоцель, так и инструментально? Если я люблю и математику, и философии, но выбираю стать учителем математики, потому что это лучше оплачивается, а более высокая заработная плата является средством для моего счастья, я выбираю быть учителем математики частично из инструментальных соображений и продолжаю преподавать частично из инструментальных соображений. Разве нас не мотивирует что-то и как самоцель, и как часть нашего счастья? Есть много по своей сути ценных видов деятельности или проектов, из которых мы можем выбирать, но phronesis — практическая мудрость — предписывает мне выбрать то, что отчасти составляет мое счастье, и продолжать заниматься им до тех пор, пока оно составляет часть моего счастья. Аргументы Блумфилда не дают оснований думать, что я не могу или не должен этого делать.
Разве нас не мотивирует что-то и как самоцель, и как часть нашего счастья? Есть много по своей сути ценных видов деятельности или проектов, из которых мы можем выбирать, но phronesis — практическая мудрость — предписывает мне выбрать то, что отчасти составляет мое счастье, и продолжать заниматься им до тех пор, пока оно составляет часть моего счастья. Аргументы Блумфилда не дают оснований думать, что я не могу или не должен этого делать.
Он действительно говорит, что, «когда нам приходится выбирать между двумя», т. е. счастьем и тем, что делает нас счастливыми, например, нашими собственными детьми, «мы должны считать последнее более важным, чем наше счастье», потому что, если мы продолжать думать, что оба одинаково важны, «наша мотивационная структура будет разделена, и в конечном итоге мы подорвем наше счастье» (130ff.). Но это утверждение ограничено конфликтными ситуациями, в отличие от утверждения, рассмотренного выше. Однако даже это ограниченное утверждение не может быть верным для каждая ценная вещь, которая делает нас счастливыми, например, уроки математики. Если я потеряю интерес к преподаванию математики и заинтересуюсь, скажем, написанием романов, у меня не будет веской причины продолжать преподавать математику. Мы должны предпочесть наших детей нашему счастью, потому что у нас есть обязательства перед ними, но нет таких обязательств перед всем ценным.
Если я потеряю интерес к преподаванию математики и заинтересуюсь, скажем, написанием романов, у меня не будет веской причины продолжать преподавать математику. Мы должны предпочесть наших детей нашему счастью, потому что у нас есть обязательства перед ними, но нет таких обязательств перед всем ценным.
Причина, по которой Блумфилд не предпочитал наше счастье нашим детям, а именно, что, если мы это сделаем, «мы закончим тем, что подорвем наше счастье», также нуждается в уточнении. Ибо если мы выберем наших детей над нашим счастьем , мы, согласно гипотезе, также подрываем наше счастье. Максимум, на что Блумфилд может заявить, это то, что это менее вредно, чем бездействие. Иногда, как утверждала Филиппа Фут, что бы мы ни делали, мы подрываем наше счастье (2001).
В гл. 3, Блумфилд выдвигает еще более серьезные претензии против того, чтобы считать счастье целью. Он утверждает, что счастье — это лишь побочный эффект или побочный продукт добродетельной жизни (207–208). «Что должно занимать почетное место в принятии практических решений, так это не быть счастливым, а быть добродетельным» (208). Но побочные продукты неважны и часто нежелательны, как дым от угольного двигателя. Так что, если счастье — это только побочный продукт, трудно признать его ценным, а если оно ценно, то трудно понять, почему оно должно вообще выпадать из нашего обдумывания и мотивации. По причинам, изложенным выше, инструментальные и неинструментальные мотивы могут существовать одновременно. Далее, если счастье в значительной степени состоит из добродетельной деятельности, то, размышляя о том, что делать добродетельно, мы не можем не осознавать, что выполнение этого является частью счастливой жизни. Игнорирование Блумфилдом счастья в обдумывании и мотивации находится в противоречии с его центральным аргументом, что мы должны быть добродетельными, потому что добродетель необходима для счастья.
«Что должно занимать почетное место в принятии практических решений, так это не быть счастливым, а быть добродетельным» (208). Но побочные продукты неважны и часто нежелательны, как дым от угольного двигателя. Так что, если счастье — это только побочный продукт, трудно признать его ценным, а если оно ценно, то трудно понять, почему оно должно вообще выпадать из нашего обдумывания и мотивации. По причинам, изложенным выше, инструментальные и неинструментальные мотивы могут существовать одновременно. Далее, если счастье в значительной степени состоит из добродетельной деятельности, то, размышляя о том, что делать добродетельно, мы не можем не осознавать, что выполнение этого является частью счастливой жизни. Игнорирование Блумфилдом счастья в обдумывании и мотивации находится в противоречии с его центральным аргументом, что мы должны быть добродетельными, потому что добродетель необходима для счастья.
Существует, конечно, концепция счастья, согласно которой взгляд Блумфилда о том, что счастье не должно занимать центральное место в принятии практических решений, (обычно) верен: чисто психологическое чувство хорошего отношения к жизни, позитивного настроения или длительное чувство самореализации. Но это не концепция счастья Блумфилда.
Но это не концепция счастья Блумфилда.
Рекомендации Блумфилда в его рассуждениях о любви к людям столь же суровы. Он утверждает, что, хотя любовь к хорошим людям вознаграждается, мы не должны любить их ради награды, включая награду за ответную любовь (221). Возвращение нашей любви также является, по его словам, побочным продуктом любви (хотя см. 219, н. 74). Но, по крайней мере, в романтической любви и дружбе быть любимым или понравиться в ответ — это сама суть достойных отношений, и желание быть любимым или любимым, а также вера в то, что мы есть или будем любимыми или любимыми, необходимы для того, чтобы позволить нашим чувствам расти и придерживаться отношений.
Блумфилд завершает книгу в гл. 3, давая живое и оригинальное обсуждение добродетелей справедливости, мужества, воздержания и phronesis (практической мудрости) и их роли в хорошей жизни. Он признает, что добродетели связаны друг с другом, но отвергает доктрину единства добродетели, которая говорит, что есть только одна добродетель: фронезис .


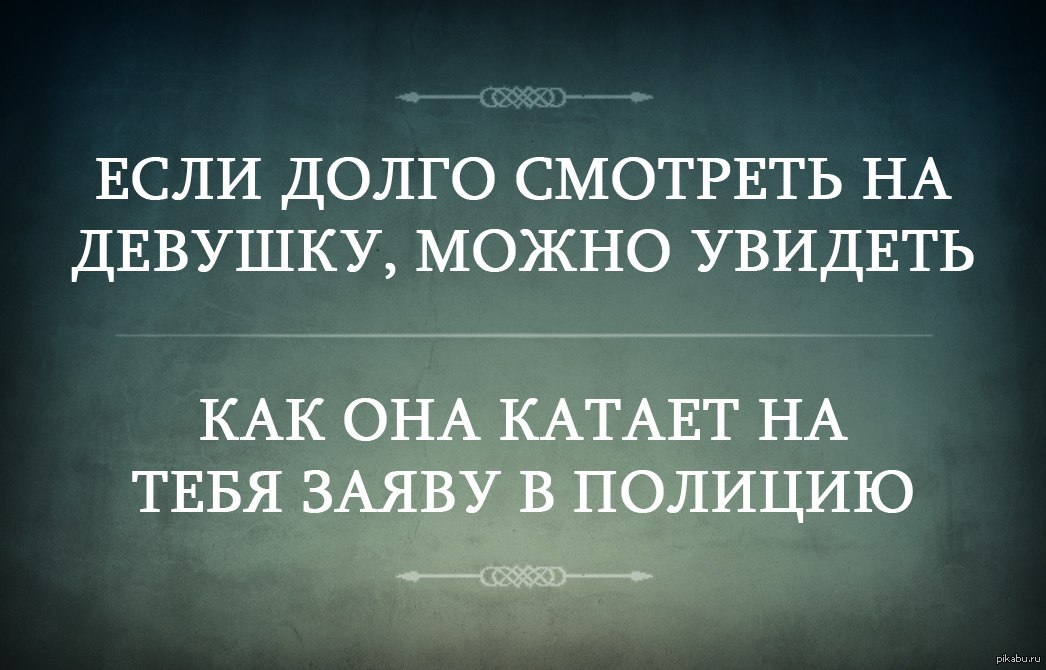
 Исходя из понимания счастья как самодостаточности, когда человек ни в чём не нуждается и ни от чего не зависит, стоики приходили к выводу, что этим критериям удовлетворяет только добродетель. Соответственно счастье — не следствие добродетели, оно совпадает с ней: по Сенеке, добродетели достаточно для счастья; согласно Спинозе, счастье — не награда за добродетель, а сама добродетель.
Исходя из понимания счастья как самодостаточности, когда человек ни в чём не нуждается и ни от чего не зависит, стоики приходили к выводу, что этим критериям удовлетворяет только добродетель. Соответственно счастье — не следствие добродетели, оно совпадает с ней: по Сенеке, добродетели достаточно для счастья; согласно Спинозе, счастье — не награда за добродетель, а сама добродетель. На счастье человека, решающим образом зависящее от совершенства его души, этических (нравственных) качеств, влияют также внешние обстоятельства. Они могут как способствовать, так и препятствовать хорошим поступкам; превратности судьбы не сделают счастливого своей добродетельностью человека злосчастным, но крупные и многочисленные бедствия могут помешать человеку стать счастливым. Во-вторых, добродетели рассматриваются как деятельные состояния, и совершенство увязано с совершенной деятельностью. Тем самым акцент переносится на ценностный анализ деятельности; античные авторы по этому критерию выделяли три типа деятельного существования, или образа жизни — чувственный, практический и созерцательный. В зависимости от того, как понимается ценностная иерархия форм деятельности (образов жизни), евдемонизм переходит в другие этические программы. Так, например, сам Аристотель совершенной деятельностью считал философско-теоретическую, и его этику поэтому можно назвать этикой созерцательного блаженства.
На счастье человека, решающим образом зависящее от совершенства его души, этических (нравственных) качеств, влияют также внешние обстоятельства. Они могут как способствовать, так и препятствовать хорошим поступкам; превратности судьбы не сделают счастливого своей добродетельностью человека злосчастным, но крупные и многочисленные бедствия могут помешать человеку стать счастливым. Во-вторых, добродетели рассматриваются как деятельные состояния, и совершенство увязано с совершенной деятельностью. Тем самым акцент переносится на ценностный анализ деятельности; античные авторы по этому критерию выделяли три типа деятельного существования, или образа жизни — чувственный, практический и созерцательный. В зависимости от того, как понимается ценностная иерархия форм деятельности (образов жизни), евдемонизм переходит в другие этические программы. Так, например, сам Аристотель совершенной деятельностью считал философско-теоретическую, и его этику поэтому можно назвать этикой созерцательного блаженства.
