Что такое эзопов язык • Arzamas
У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.
КурсРусская литература XX века. Сезон 3ЛекцииМатериалыКак свободомыслящие писатели скрывали непроходные смыслы от цензоров? Пересказ основных положений классической, но недостаточно хорошо прочтенной книги Льва Лосева
Подготовила Мария Канатова
Портрет Михаила Салтыкова-Щедрина. Автолитография Евгения Сидоркина. 1977 год © РИА «Новости»Эзопов язык — литературная система, которая помогает автору передавать читателю особую информацию, одновременно скрывая ее же от цензора. При помощи разнообразных художественных средств автор создает «щиты», маскирующие неподцензурную информацию. А о возможности иносказательного прочтения читателю подсказывают специальные маркеры:
Сочинена тобою, Самозванов,
Романов целая семья;
Но молвлю, правды не тая:Я не люблю твоей семьи романов. 
Адресная эпиграмма Владимира Лихачева, опубликованная в 1905 году в журнале «Зритель», вроде бы обращена к плохому писателю. Но читатель того времени видит, где пропущена запятая в последнем стихе: «Я не люблю твоей семьи, Романов», и стихотворение превращается в антиправительственную эпиграмму. Эзопово высказывание, таким образом, строится здесь на омонимическом каламбуре.
Эзопов язык — непосредственное детище цензуры, которая действовала в России с эпохи Петра I, когда русская литература только начиналась. Цензура воспитала в писателе виртуозного загадывателя, а в читателе — непревзойденного отгадывателя загадок. Критики XIX века презирали эзопов язык за рабскую тайнопись, противопоставляя ему смелую, прямую сатиру. Салтыков-Щедрин, автор термина «эзопов язык», писал о нем как о «рабьей манере», которая состоит в том, чтобы писатель не меньше, чем произведением, был озабочен способами провести его в печать.
Отношение к эзопову языку меняется к концу века. Его парадокс в том, что жесткая цензура подхлестывает творческую мысль автора, заставляя идти на различные художественные ухищрения, чтобы высказать то, что сказать прямо нельзя: говоря языком аналогий, опасность, исходящая от волков, поддерживает оленей в хорошей форме. Произведения того же Салтыкова-Щедрина, широко использовавшего эзопов язык, потеряли свою злободневность, но мы до сих пор восхищаемся их тонким остроумием.
Его парадокс в том, что жесткая цензура подхлестывает творческую мысль автора, заставляя идти на различные художественные ухищрения, чтобы высказать то, что сказать прямо нельзя: говоря языком аналогий, опасность, исходящая от волков, поддерживает оленей в хорошей форме. Произведения того же Салтыкова-Щедрина, широко использовавшего эзопов язык, потеряли свою злободневность, но мы до сих пор восхищаемся их тонким остроумием.
Эзопово высказывание существует в двух планах — прямом и иносказательном. Второй план читатель может не заметить, но произведение от этого не станет хуже, поскольку первый план сам по себе полон разнообразных художественных смыслов. С практической точки зрения вмешательство цензора и необходимость эзопова языка — ненужная помеха для передачи сообщения от автора к читателю. Но в этих помехах, шуме может быть заключен смысл всего сообщения. Главное для заговора кодировщика и расшифровщика — чтобы цензор за этим шумом не увидел тайного сообщения.
Так произошло, например, с пьесой Михаила Шатрова «Большевики». Она описывает заседание Совнаркома в 1918 году, на котором обсуждается необходимость красного террора против оппозиции. Этот иконографический жанр документальной драмы, распространенный в СССР, сам по себе является хорошим щитом: такие пьесы легко пропускали даже очень образованные цензоры. А зритель, который смотрит ее в 1960-х, уже знает, что террор будет длиться годами и коснется даже тех, кто его по сюжету пьесы обсуждает. За фасадом предельной документальности лежит эзопова полемика с большевистской идеей власти. В пьесе отсутствуют многие элементы ленинианы как жанра: демонстрация «доброты» Ленина, карикатурное изображение «врагов», что сигнализирует зрителю об эзоповой составляющей, а для цензора является этим самым шумом, художественным недостатком.
Она описывает заседание Совнаркома в 1918 году, на котором обсуждается необходимость красного террора против оппозиции. Этот иконографический жанр документальной драмы, распространенный в СССР, сам по себе является хорошим щитом: такие пьесы легко пропускали даже очень образованные цензоры. А зритель, который смотрит ее в 1960-х, уже знает, что террор будет длиться годами и коснется даже тех, кто его по сюжету пьесы обсуждает. За фасадом предельной документальности лежит эзопова полемика с большевистской идеей власти. В пьесе отсутствуют многие элементы ленинианы как жанра: демонстрация «доброты» Ленина, карикатурное изображение «врагов», что сигнализирует зрителю об эзоповой составляющей, а для цензора является этим самым шумом, художественным недостатком.
Пользоваться эзоповым языком может и государство. Например, 7 ноября 1975 года певец Иосиф Кобзон на праздничном концерте при партийной элите спел песню «Летят перелетные птицы…», которая не исполнялась с 1940–50-х и почти забылась. Концерт транслировали по телевидению, показывали аплодисменты высокопоставленных зрителей в зале. Эзопово сообщение было такое: еврею обещается процветание в Советском Союзе, если он верен государству. Миллионы зрителей мгновенно это поняли и сообщение без труда расшифровали. Кобзон олицетворял евреев, слова песни — лояльность, аплодисменты партийной элиты обещали процветание. Щитом послужила вся ситуация, маркером — песня, которая давно не исполнялась, и исполнитель-еврей. Такой эзопов способ оповещения был очень удобен государству: если бы оно затем решило изменить условия негласного соглашения с евреями, никто не смог бы доказать, что таковое вообще существовало.
Концерт транслировали по телевидению, показывали аплодисменты высокопоставленных зрителей в зале. Эзопово сообщение было такое: еврею обещается процветание в Советском Союзе, если он верен государству. Миллионы зрителей мгновенно это поняли и сообщение без труда расшифровали. Кобзон олицетворял евреев, слова песни — лояльность, аплодисменты партийной элиты обещали процветание. Щитом послужила вся ситуация, маркером — песня, которая давно не исполнялась, и исполнитель-еврей. Такой эзопов способ оповещения был очень удобен государству: если бы оно затем решило изменить условия негласного соглашения с евреями, никто не смог бы доказать, что таковое вообще существовало.
Стихотворение Софии Парнок «Беллерофонт» 1922 года является одним из самых ранних примеров эзопова языка в послеоктябрьской литературе. В роли щитов выступает мифологический сюжет и мифологические имена — Беллерофонт, Химера. В то же время слово «химера», имеющее второе значение «утопия», становится маркером для читателя.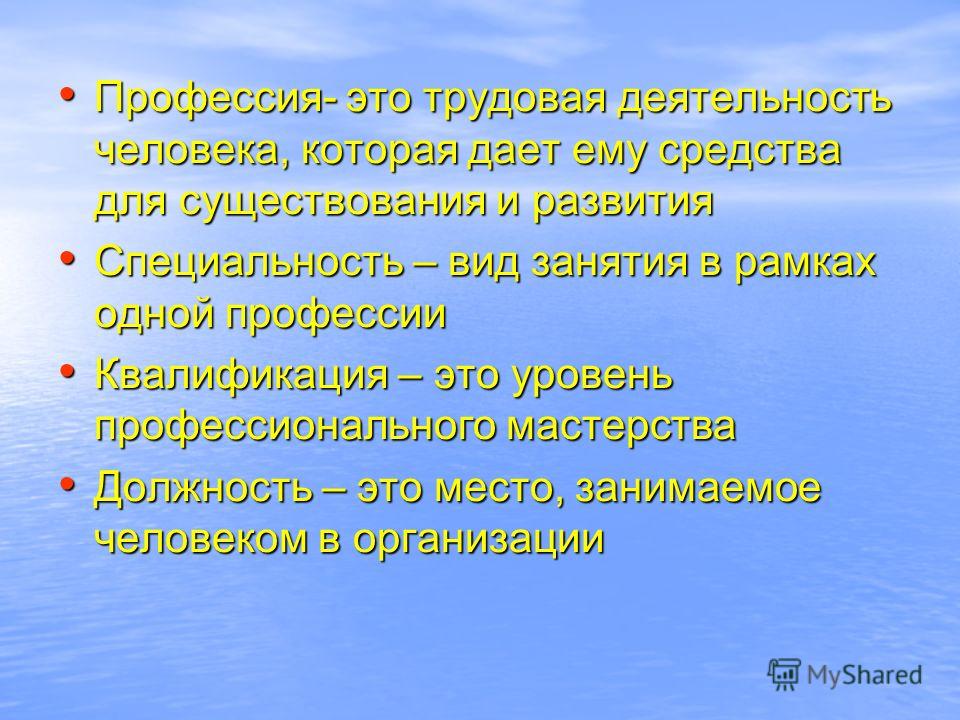 И тогда две последние строфы стихотворения прочитываются по-другому: теперь они о советском режиме, репрессирующем поэта.
И тогда две последние строфы стихотворения прочитываются по-другому: теперь они о советском режиме, репрессирующем поэта.
Борис Пастернак © ТАСС–ДосьеБеллерофонт в Химеру
А я без слез, упрямо
Низринул ливень стрел…
Кто может верить, веруй,
Что меток был прицел!
Гляжу на жизнь мою,
И древней той, той самой,
Я когти узнаю,И знаю, кем придушен
Глубокий голос мой
И кто дохнул мне в душу
Расплавленною тьмой.
Щитом для эзопова высказывания может служить, например, перевод. Так, Пастернак в своем переводе «Макбета» попытался выразить, как он жил и что чувствовал в годы сталинского террора, немного сдвинув шекспировские акценты:
К слезам привыкли, их не замечают.
К мельканью частых ужасов и бурь
Относятся, как к рядовым явленьям.
Весь день звонят по ком-то, но никто
Не любопытствует, кого хоронят.(Where sighs and groans and shrieks that rend the air
Are made, not mark’d; where violent sorrow seems
A modern ecstasy; the dead man’s knell
Is there scarce ask’d for who…)
Часто авторы переносят действие в другую эпоху или страну, имея в виду современность и соотечественников. Так, Белла Ахмадулина в стихотворении «Варфоломеевская ночь» вроде бы пишет о печальных событиях французской истории, но внимательный читатель поймет, что речь на самом деле об СССР. Маркерами тут становятся стилистические намеки (типично русские разговорные выражения: «какие пустяки!»).
Эзопово сообщение может скрываться в детском произведении: взрослые читатели увидели в стихотворении Георгия Ладонщикова «Скворец на чужбине» («Улетел скворец от стужи…») намек на эмиграцию писателей; в строках о том, как скворец тоскует по «кошке, что охотилась за ним», — насмешку над распространенным интеллигентским мнением о том, что эмиграция — это все‑таки ошибка.
Эзопово сообщение может касаться конкретного человека. Во время травли Солженицына в «Новом мире» вышло стихотворение Евгения Маркина «Белый бакен». Оно о бакенщике, и только одно слово намекает на историю с Солженицыным — отчество бакенщика Исаич. Стихотворение начинает читаться в аллегорическом ключе: «…как нелепа эта лямка, / как глаза его чисты». Внимательный и сведущий читатель принимает сообщение: Солженицын — хороший человек.
В принципе, читателю, который способен разгадать эзопово сообщение, и без него известно, что Солженицын — хороший человек, а Сталин — злодей. Эзопов язык чаще всего противостоит самым священным табу, например прогосударственным мифам.
Источники
- Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature.
München, 1984.
Теги
СССР
Радио ArzamasНовый подкаст «Точки опоры»
Культуролог Анна Шмаина-Великанова — о том, что авторы библейских книг думали о смерти, любви, страданиях и других вещах, которые волнуют нас и сегодня
Хотите быть в курсе всего?
Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу
Курсы
Все курсы
Спецпроекты
Лекции
13 минут
1/7Бунин. «Господин из Сан-Франциско»
Как Бунин отреагировал на катастрофу «Титаника» и Первую мировую, обратился к мистике и подписал приговор европейской цивилизации
Читает Лев Соболев
Как Бунин отреагировал на катастрофу «Титаника» и Первую мировую, обратился к мистике и подписал приговор европейской цивилизации
15 минут
2/7
Вячеслав Иванов.
 «Мэнада»
«Мэнада»Как поэт скрестил Христа с Дионисом, создал новый ритм и вывел поэзию символизма из русских сеней
Читает Геннадий Обатнин
Как поэт скрестил Христа с Дионисом, создал новый ритм и вывел поэзию символизма из русских сеней
13 минут
3/7
Гумилев. «Заблудившийся трамвай»
Как Гумилев получил послание из будущего, вскочил на подножку революции и убедился в ее бесчеловечности
Читает Дмитрий Быков
Как Гумилев получил послание из будущего, вскочил на подножку революции и убедился в ее бесчеловечности
16 минут
4/7
Погодин. «Аристократы»
Как комедия про ГУЛАГ была написана, стала хитом в советском театре, прославила чекистов и попала под запрет
Читает Илья Венявкин
Как комедия про ГУЛАГ была написана, стала хитом в советском театре, прославила чекистов и попала под запрет
11 минут
5/7
Бродский. «Рождественский романс»
Зачем поэт смешал луну со звездой, Новый год — с Рождеством, а Москву — с Петербургом
Читает Олег Лекманов
Зачем поэт смешал луну со звездой, Новый год — с Рождеством, а Москву — с Петербургом
13 минут
6/7
Искандер.
 «Летним днем»
«Летним днем»Как писатель обманул цензуру, выдав КГБ за гестапо, и экзистенциально осмыслил этот обман
Читает Александр Жолковский
Как писатель обманул цензуру, выдав КГБ за гестапо, и экзистенциально осмыслил этот обман
12 минут
7/7
Трифонов. «Дом на набережной»
Как Трифонов переступил через совесть, затем беспощадно осудил себя, а заодно осмыслил механизмы политического террора
Читает Александр Архангельский
Как Трифонов переступил через совесть, затем беспощадно осудил себя, а заодно осмыслил механизмы политического террора
Материалы
Вдоль по Беломорканалу в 1933 году
Путешествие по «великой стройке» с писателями, чекистами и заключенными
Сан-Франциско времен «Господина из Сан-Франциско»
В какой город так и не вернулся герой Бунина?
Выберите самых красивых писателей
Голосование за эталон писательской красоты
Дуэли
Серебряного века
Гумилев, Мандельштам и Пастернак у барьера
Что такое эзопов язык
Проверенные способы обмануть цензуру
Поэзия Гумилева в инфографике
Как менялся главный акмеист: статистические данные
Краткий словарь гумилевской экзотики
От дурро и онагра до тэджа и фелуки
Иосиф Бродский: greatest hits
10 текстов для первого знакомства с поэтом
33 тусовщика
Удивительные истории гостей «Башни» Вячеслава Иванова
Поэзия Бунина для начинающих
Небольшая хрестоматия для тех, кто любит не только прозу
География Гумилева
Жизнь и творчество поэта на карте мира
Бунин знает, как правильно
Нотации, прочитанные классиком по поводу и без
Гумилев: жизнь после смерти
Как сложилась литературная биография поэта после расстрела
Как и что пить:
советы Бунина
От шампанского до крестьянской водки, пахнущей сапогами
Как писать под Бродского
Инструкция для начинающих стихотворцев
Медиумы и мистики Серебряного века
Кто и как дружил с миром духов в России начала XX века
Любовные треугольники Серебряного века
Блок, Ахматова, Белый, Гиппиус и другие
Лучшие цитаты из Фазиля Искандера
О женщинах, козах, вечности, мещанах и прочих важных материях
Формула всего советского
Искусствовед Вадим Басс о том, что нам говорит Дом на набережной
О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь
Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas
ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день
© Arzamas 2022. Все права защищены
Все права защищены
Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top of Page | Разработано LiveJournal.com |
И еще интересная статья. Часть 1.: ru_strygackie — LiveJournal
Опубликовано в журнале:«НЛО» 2007, №88
СОЦИАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ: ИСТОРИЯ РЕЦЕПЦИИ
ИРИНА КАСПЭ
Смысл (частной) жизни, или Почему мы читаем Стругацких?
ЭЗОПОВ КОМПЛЕКС
Кто-то из поклонников братьев Стругацких, запутавшись в античных именах, назвал язык патриархов советской фантастики “эдиповым”.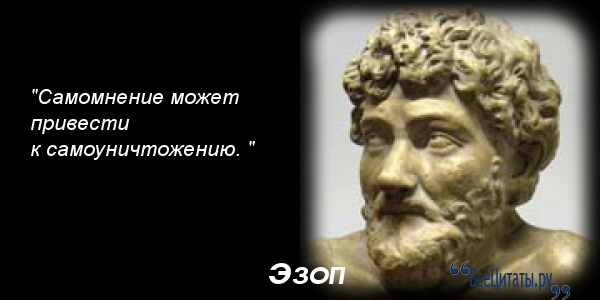 Эта оговорка вряд ли вызовет интерес у психоаналитика, но и историку культуры не покажется неожиданной.
Эта оговорка вряд ли вызовет интерес у психоаналитика, но и историку культуры не покажется неожиданной.
Начиная с середины 1980-х годов сомнительный термин “эзопов язык” употреблялся в отечественной публицистике настолько часто, что ближе к 1990-м почти превратился в диагноз. “…То, о чем раньше только намекалось, нынче говорится впрямую, в открытую. И иносказания уже “не звучат”. Эзопов язык недаром создан рабом”1, — утверждал семнадцать лет назад в посвященной Стругацким статье литератор Сергей Плеханов. Эзопов язык стремительно выходил из моды, что казалось достаточным основанием для вопроса: “Не был ли порожден интерес к так называемой социальной фантастике ее генетическим родством с идеологией застоя?”2 Легкость, с которой литература братьев Стругацких (“так называемая социальная фантастика”) редуцировалась здесь до иносказательного, эзопова сообщения о чем-то общеизвестном, свидетельствует о существовании длительной, многолетней интерпретативной традиции.
Вопреки прогнозам эта традиция вовсе не прервалась с отменой института цензуры — во всяком случае, она активно воспроизводится сейчас, и было бы спекулятивным упрощением пытаться объяснить этот факт новой актуальностью проблемы свободы слова.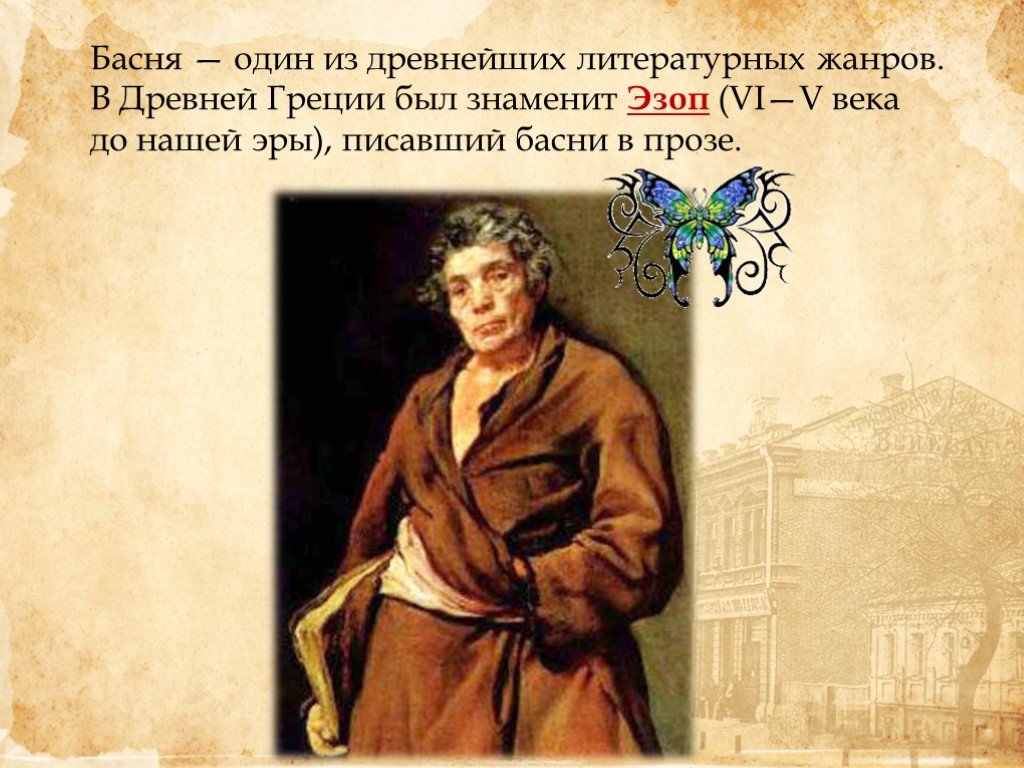 Чаще всего интерпретаторы Стругацких пытаются “расшифровать”, “декодировать” текст, выяснить, “что означают”, “что символизируют” те или иные “странные”, “фантастические” элементы повествования.
Чаще всего интерпретаторы Стругацких пытаются “расшифровать”, “декодировать” текст, выяснить, “что означают”, “что символизируют” те или иные “странные”, “фантастические” элементы повествования.
Конечно, в первую очередь под зашифрованным сообщением подразумевается развернутое идеологическое высказывание и даже политический манифест — инструменты дешифровки практически не модифицировались за последние тридцать лет, однако ее результаты кардинально изменились. По мере того, как процедура выявления (в негативном варианте — разоблачения) антитоталитарных и (более радикально) антисоветских подтекстов утрачивала популярность или начинала казаться самоочевидной, избыточной, обнаруживались новые ресурсы герменевтического чтения — поиск подтекстов прокоммунистических и антидиссидентских. Интернет-блоги предоставляют достаточно обширный материал для исследования подобных — как правило, конспирологических — способов интерпретации: разговор о Стругацких нередко оказывается одной из форм самоопределения, различения “своих” и “чужих”, декларации самых разнообразных идеологических приоритетов, от леворадикальных до консервативных. Характерно, что при этом завуалированные аллегории и подтексты ищутся преимущественно в тех произведениях, которые вплоть до политических перемен 1980-х не публиковались в Советском Союзе и распространялись исключительно в “тамиздатских” и “самиздатских” копиях — “Град Обреченный”, “Гадкие лебеди” (ср., к примеру, размышления в “Живом журнале” политолога Бориса Межуева: “Ясно, что “Град” представляет собой хорошо замаскированную апологию Советской тоталитарной власти, написанную уже не столько для либеральной (как “[Обитаемый] остров”), сколько для буржуазно-патриотической части диссидентского движения”3). Иными словами, классическая модель эзопова языка — с институтом цензуры (и, соответственно, самоцензуры) в центре — переворачивается, ее заменяют попытки обнаружить следы тайной апологии политического режима в текстах, для него же неприемлемых.
Характерно, что при этом завуалированные аллегории и подтексты ищутся преимущественно в тех произведениях, которые вплоть до политических перемен 1980-х не публиковались в Советском Союзе и распространялись исключительно в “тамиздатских” и “самиздатских” копиях — “Град Обреченный”, “Гадкие лебеди” (ср., к примеру, размышления в “Живом журнале” политолога Бориса Межуева: “Ясно, что “Град” представляет собой хорошо замаскированную апологию Советской тоталитарной власти, написанную уже не столько для либеральной (как “[Обитаемый] остров”), сколько для буржуазно-патриотической части диссидентского движения”3). Иными словами, классическая модель эзопова языка — с институтом цензуры (и, соответственно, самоцензуры) в центре — переворачивается, ее заменяют попытки обнаружить следы тайной апологии политического режима в текстах, для него же неприемлемых.
Впрочем, в некоторых случаях осведомленность о самом факте “зашифрованного”, “непрямого” высказывания, так или иначе ориентированного на институт советской цензуры, оказывается для поклонников Стругацких серьезной травмой — книга Бориса Стругацкого “Комментарии к пройденному” (2003) и его недавние интервью спровоцировали неподдельное читательское отчаяние:
Братья выучили не одно поколение думать <…> Согласно последующему разъяснению [Бориса Стругацкого], оказывается, [что он] никогда не имел возможности писать то, что хотел писать, в тяжелых условиях переступал через себя и писал то, что ВЫНУЖДЕН был писать и т. п. и т.д. А те, кто по недомыслию принимали написанное за чистую монету, никогда ничего не понимали и, наверное по убогости, никогда уже не поймут. Ну, хорошо, а в чем тогда ЕГО ЗАСЛУГИ ПЕРЕДО МНОЙ?4
п. и т.д. А те, кто по недомыслию принимали написанное за чистую монету, никогда ничего не понимали и, наверное по убогости, никогда уже не поймут. Ну, хорошо, а в чем тогда ЕГО ЗАСЛУГИ ПЕРЕДО МНОЙ?4
…[Борис Стругацкий] оскорбил мои чувства читателя и просто человека. Это — откровенный плевок в лицо всем тем, кто верил в светлое будущее, видя его именно таким, каким оно было нарисовано А[ркадием и] Б[орисом] С[тругацкими]. Вы, может быть, не знаете или не помните, но на излете социализма читателям не предлагалось никакой иной реалистичной, понятной и последовательной картины близкого торжества коммунистических идей, кроме как нарисованной братьями Стругацкими. И в разговорах о “веришь ли ты в коммунизм” едва ли не самым серьезным аргументом были вовсе не апелляции к классикам марксизмаленинизма, а ссылка на то, что хотелось бы жить в таком мире, в котором живут герои Стругацких5.
Настойчивое напоминание о том, что братья Стругацкие выучили не одно поколение думать, отсылает к еще одному режиму дешифровки их текстов: в этом случае процедура интерпретации воспринимается и описывается как “решение задачи” — этической или логической.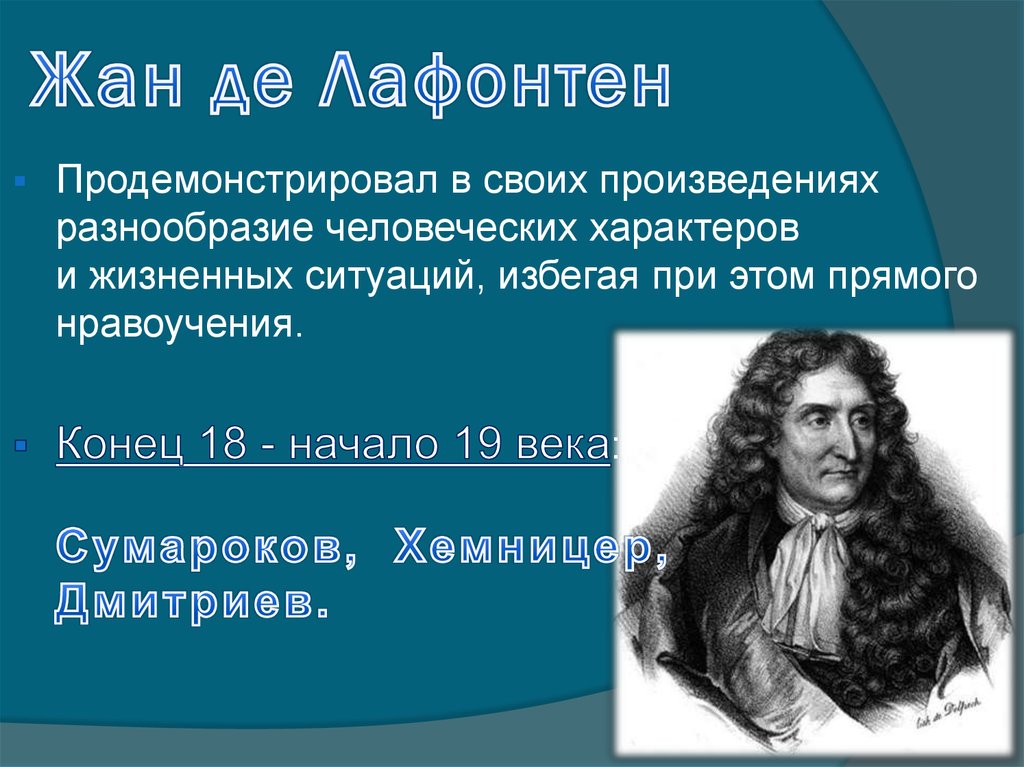 “В отечественной фантастике Стругацкие первыми стали предлагать читателю этические задачи, у которых не было и быть не могло однозначного “правильного” решения. Это было странно, непривычно, это заставляло не только сопереживать, но и думать”6, — замечает Роман Арбитман; однако чаще интерпретаторы видят свою задачу в том, чтобы восстановить некую однозначную, непротиворечивую, целостную этическую систему, причем желательно — способную служить ключом ко всем произведениям Стругацких7. К тому же режиму прочтения относятся попытки реконструировать или достроить неявные мотивации персонажей, разгадать подлинный смысл слишком бегло упомянутых деталей, выяснить то, о чем повествование умалчивает: узнать о содержимом загадочной папки Изи Кацмана в “Граде Обреченном” или о таинственных обстоятельствах гибели Тристана из “Жука в муравейнике”. Пожалуй, именно для такой увлекательной герменевтики читатели прежде всего используют возможность задать Борису Стругацкому вопрос на официальном сайте фантастов8; и именно подобные неразгаданные загадки нередко становятся опорной интригой реминисценций, сиквелов, приквелов, ремейков, в немалом количестве сочиненных поклонниками Стругацких.
“В отечественной фантастике Стругацкие первыми стали предлагать читателю этические задачи, у которых не было и быть не могло однозначного “правильного” решения. Это было странно, непривычно, это заставляло не только сопереживать, но и думать”6, — замечает Роман Арбитман; однако чаще интерпретаторы видят свою задачу в том, чтобы восстановить некую однозначную, непротиворечивую, целостную этическую систему, причем желательно — способную служить ключом ко всем произведениям Стругацких7. К тому же режиму прочтения относятся попытки реконструировать или достроить неявные мотивации персонажей, разгадать подлинный смысл слишком бегло упомянутых деталей, выяснить то, о чем повествование умалчивает: узнать о содержимом загадочной папки Изи Кацмана в “Граде Обреченном” или о таинственных обстоятельствах гибели Тристана из “Жука в муравейнике”. Пожалуй, именно для такой увлекательной герменевтики читатели прежде всего используют возможность задать Борису Стругацкому вопрос на официальном сайте фантастов8; и именно подобные неразгаданные загадки нередко становятся опорной интригой реминисценций, сиквелов, приквелов, ремейков, в немалом количестве сочиненных поклонниками Стругацких.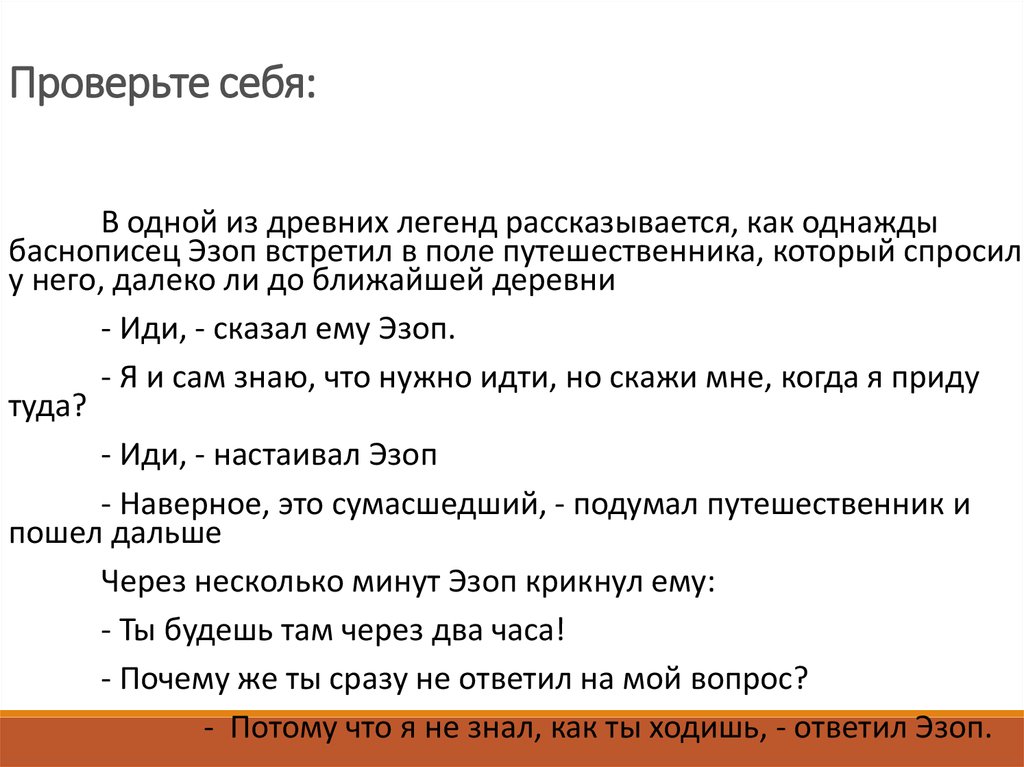
Наконец, под закодированным сообщением может подразумеваться пророчество: за Стругацкими признается способность прогнозировать и предсказывать “наши сегодняшние проблемы”9. Таким образом, кодом к их текстам оказывается сама современность, все, что помечается при интерпретации как актуальное и проблематичное, — будь то засилье массовой культуры или дело Ходорковского10.
Все эти способы чтения сейчас, как правило, мало интересуют серьезных исследователей. Понятия “зашифрованного сообщения”, “кода”, “подтекста” в ракурсе гуманитарных наук не только неотделимы от языка семиотики, но и воспринимаются как его базовые, самые элементарные атрибуты, которым вряд ли удастся вновь придать аналитическую свежесть. Строго говоря, с такой точки зрения речь выше шла не об одном исследовательском поводе (“чтение как дешифровка”), а о нескольких, вполне тривиальных.
Во-первых, об особой системе адресации, внутри которой выделяется и начинает учитываться специфическая фигура “перехватчика сообщения” — цензора.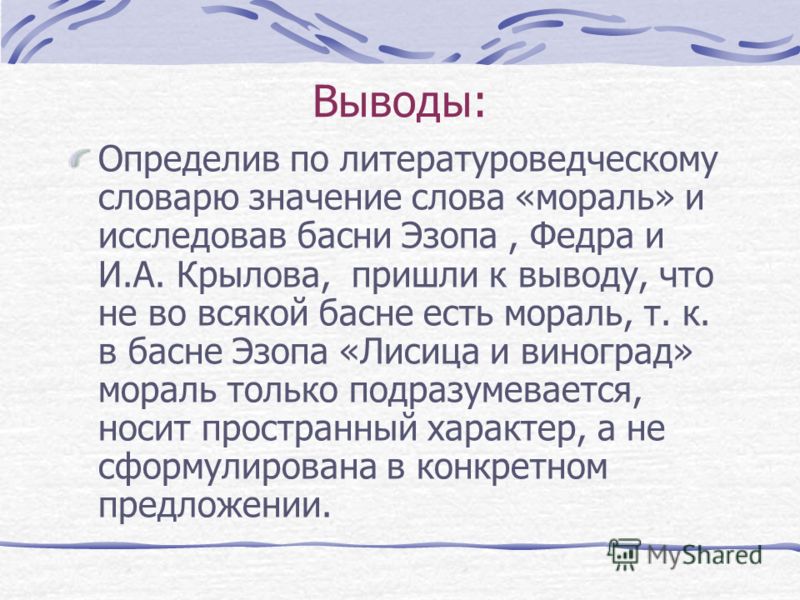 Во-вторых, о том, что в терминологии Ролана Барта следовало бы называть “герменевтическим кодом” повествования11: о загадке как нарративном механизме. Разнообразные приемы уклонения от разгадки (ее “отсрочка”, “блокировка”, двусмысленность предложенного ответа) создают ситуацию увлеченности чтением, а в игровых, концентрированных формах являются стандартными ресурсами развлекательных жанров. Третий повод и вовсе может показаться исключительно жанровым: футурологический прогноз принято считать одной из основных функций научной фантастики. К тому же иллюзия вечной современности, непреходящей актуальности в принципе характерна для интерпретации любых текстов с высоким (“культовым” или “почти классическим”) статусом.
Во-вторых, о том, что в терминологии Ролана Барта следовало бы называть “герменевтическим кодом” повествования11: о загадке как нарративном механизме. Разнообразные приемы уклонения от разгадки (ее “отсрочка”, “блокировка”, двусмысленность предложенного ответа) создают ситуацию увлеченности чтением, а в игровых, концентрированных формах являются стандартными ресурсами развлекательных жанров. Третий повод и вовсе может показаться исключительно жанровым: футурологический прогноз принято считать одной из основных функций научной фантастики. К тому же иллюзия вечной современности, непреходящей актуальности в принципе характерна для интерпретации любых текстов с высоким (“культовым” или “почти классическим”) статусом.
Не оспаривая каждый из этих тезисов в отдельности, можно, однако, увидеть ситуацию иначе. Попытка “разгадать”, “расшифровать” произведения Стругацких, подобрать к ним “ключ” — с какой бы целью она ни предпринималась — в любом случае представляет собой максимальную рационализацию читательского опыта. Литература при этом лишь на первый взгляд мистифицируется, окружается ореолом тайны; фактически же происходит прямо обратное: декларируется ценность и (что особенно важно) возможность абсолютно успешной коммуникации между авторами и читателями. Иначе говоря, читатель должен в конце концов понять, что означает текст, — понимание неизбежно, хотя и по ряду причин отсрочено. Сам факт столь тотальной — очень часто “непрофессиональной”, “бытовой”, даже “наивной” — рационализации и семиотизации представлений о литературе провоцирует заслуживающие исследования вопросы. И прежде всего — как совмещается эта рационализирующая риторика, ориентированная на описание знаков и поиск символов, с почти иррациональной преданностью “реалистичному миру”, в котором “живут герои Стругацких”?
Литература при этом лишь на первый взгляд мистифицируется, окружается ореолом тайны; фактически же происходит прямо обратное: декларируется ценность и (что особенно важно) возможность абсолютно успешной коммуникации между авторами и читателями. Иначе говоря, читатель должен в конце концов понять, что означает текст, — понимание неизбежно, хотя и по ряду причин отсрочено. Сам факт столь тотальной — очень часто “непрофессиональной”, “бытовой”, даже “наивной” — рационализации и семиотизации представлений о литературе провоцирует заслуживающие исследования вопросы. И прежде всего — как совмещается эта рационализирующая риторика, ориентированная на описание знаков и поиск символов, с почти иррациональной преданностью “реалистичному миру”, в котором “живут герои Стругацких”?
МОДАЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТЫ:
РЕАЛИСТИЧНОЕ, ФАНТАСТИЧЕСКОЕ, АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ
Монография Льва Лосева, впервые изданная в 1984 году12, по сей день остается наиболее развернутым и доказательным исследованием метафоры “эзопов язык”, занимавшей в период существования советской цензуры столь заметное место в славистике. Книга Лосева опирается на утверждение, что эта метафора приобретает в русской, а затем в советской ситуации терминологическую определенность: под “эзоповым языком” начинает подразумеваться особый режим письма. Во многом следуя подходам московско-тартуской школы и продолжая лотмановские размышления о коммуникативном шуме13, Лосев описывает идеальный, предельно успешный для автора эзопова сообщения тип коммуникации характерным алгебраическим (требующим дополнительной расшифровки) способом: A: Nc + Nae —> C: /-0/ —> R.
Книга Лосева опирается на утверждение, что эта метафора приобретает в русской, а затем в советской ситуации терминологическую определенность: под “эзоповым языком” начинает подразумеваться особый режим письма. Во многом следуя подходам московско-тартуской школы и продолжая лотмановские размышления о коммуникативном шуме13, Лосев описывает идеальный, предельно успешный для автора эзопова сообщения тип коммуникации характерным алгебраическим (требующим дополнительной расшифровки) способом: A: Nc + Nae —> C: /-0/ —> R.
Согласно пояснению (ключу) к этой формуле, автор (А) должен отправить сообщение на эзоповом языке, которое воспринимается цензором как шум (Nae), и, параллельно, сообщение, которое отвечает всем требованиям цензуры и воспринимается как шум читателем (Nc), — лишь в этом случае вмешательство цензора (С) имеет все шансы оказаться минимальным (в пределе — нулевым) и читателю (R) удастся декодировать высказывание именно так, как того ожидает автор. То есть идеальный эзопов текст будет состоять исключительно из сегментов, способных казаться шумом (на языке семиотических формул — Т = Nc + Nae14). Тогда этот режим письма (и чтения) можно в каком-то смысле назвать воплощением семиотической мечты: он предполагает коммуникацию, при которой сама идея неупорядоченности, неуправляемости, шумовых помех начинает служить налаживанию и структурированию каналов связи. Кажется, для этого следует всего лишь усилить (удвоить, а то и утроить) процедуру кодировки: чем тщательнее будет закодировано сообщение, тем вернее оно приобретет в глазах стороннего и нежелательного наблюдателя характеристики шума.
Тогда этот режим письма (и чтения) можно в каком-то смысле назвать воплощением семиотической мечты: он предполагает коммуникацию, при которой сама идея неупорядоченности, неуправляемости, шумовых помех начинает служить налаживанию и структурированию каналов связи. Кажется, для этого следует всего лишь усилить (удвоить, а то и утроить) процедуру кодировки: чем тщательнее будет закодировано сообщение, тем вернее оно приобретет в глазах стороннего и нежелательного наблюдателя характеристики шума.
Подобный сговор с хаосом, однако, оказывается разрушителен именно для семиотического подхода: исследователь здесь вступает на шаткую почву, несовместимую с проектом “точного” знания о коммуникации. Лев Лосев концептуализирует и подробно рассматривает маркеры, которые позволяют читателю опознать эзопов язык, но ненадежность таких сигналов очевидна — и, пожалуй, в первую очередь для самого автора монографии. Собственно, проблематична граница между “эзоповым” и “прямым” сообщением — в принципе цензор вполне способен расшифровать “эзопов” код, а “прямое” сообщение легко принимается подготовленным читателем за “эзопово”15.
Главка монографии, посвященная притчам, которые скрываются под маской научной фантастики, — и преимущественно произведениям братьев Стругацких, — вероятно, наименее убедительна. Попытки декодировать имя главного героя “Гадких лебедей” (Банев — от “русской бани” и от “полбанки”) или увидеть в плотной атмосфере планеты Саракш из “Обитаемого острова” аллегорию удушающей атмосферы “закрытого общества” никак не противоречат формальной логике, но в то же время вызывают отчетливое сопротивление, плохо согласуясь с памятью о непосредственном читательском опыте.
Иначе — в обход распространенного способа говорить о Стругацких — интерпретирует их прозу американская исследовательница Ивонн Хауэлл16. Намеренно не останавливаясь на проблеме эзопова языка, Хауэлл отказывается описывать эту прозу “просто” как набор аллегорий, скрытых под оболочкой “популярного” (научно-фантастического, отчасти — детективного и приключенческого) жанра. По мнению исследовательницы, речь здесь должна идти о значительно более сложных нарративных механизмах, прежде всего — о механизме “префигурации” (“prefiguration”): в повествование вводятся уже закрепленные в тех или иных культурных практиках, связанные с устойчивым комплексом читательских ожиданий и даже “архетипичные” образы-мотивы (от литературных до религиозных), которые могут разворачиваться в определенную сюжетную парадигму и тем самым “предвосхищать” дальнейшее развитие событий в большей степени, чем жанровые формулы.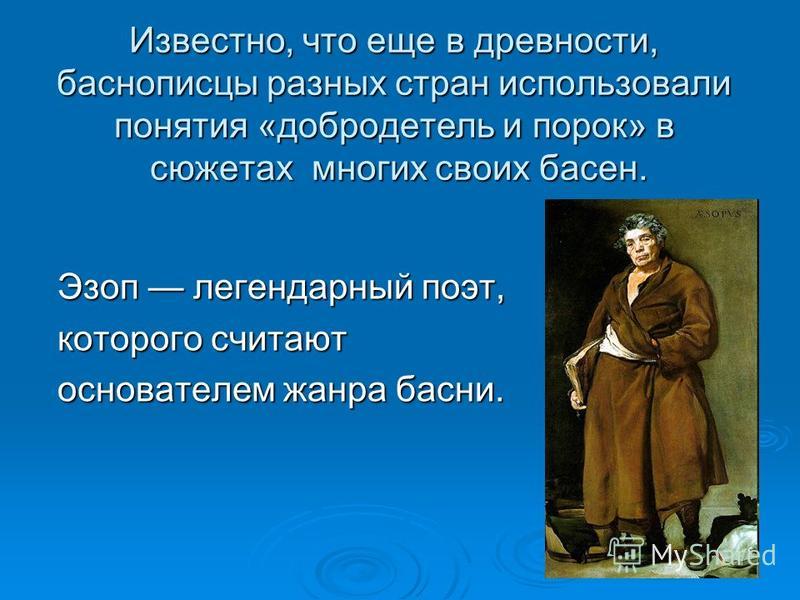 Рычагом, который запускает такой механизм, является не столько иносказательность, сколько интертекстуальность: Стругацкие, согласно Хауэлл, пытаются “возобновить прерванный диалог” с “философскими и эстетическими традициями русского модернизма”, и именно эта “апокалиптическая культура до- и послереволюционной эпохи” признается в данном случае основным поставщиком образов и мотивов, основным каналом для префигурации.
Рычагом, который запускает такой механизм, является не столько иносказательность, сколько интертекстуальность: Стругацкие, согласно Хауэлл, пытаются “возобновить прерванный диалог” с “философскими и эстетическими традициями русского модернизма”, и именно эта “апокалиптическая культура до- и послереволюционной эпохи” признается в данном случае основным поставщиком образов и мотивов, основным каналом для префигурации.
Как видим, префигурация, в общем, подразумевает все ту же предельно рациональную авторскую стратегию: аллюзия, как и аллегория, представляет собой загадку, которую разгадывают читатели, код для избранных, а нередко и ключ ко всему произведению в целом. Хауэлл подчеркивает, что Стругацкие “сознательно”, более того — “с наставническим упорством” апеллировали в своих текстах к источникам, “забытым” советскими читателями, вытесненным из “культурной памяти”. Предполагается, что наслоение “полузнакомых образов” позволяло “вспомнить” забытое: пока главный герой романа “Град Обреченный” по дороге домой, на окраину города проходил мимо рабочих, роющих котлован, читатель Стругацких должен был (по мнению исследовательницы) “мысленно “пройти” мимо романа Платонова “Котлован””, вспомнить и его содержание, и его “настоящее “место” в нарушенном и искаженном континууме российской интеллектуальной истории”. В этом — далеко не самом обоснованном — утверждении Хауэлл различие между аллюзией и аллегорией и вовсе практически стерто.
В этом — далеко не самом обоснованном — утверждении Хауэлл различие между аллюзией и аллегорией и вовсе практически стерто.
Но префигурация заключает в себе и ресурсы неоднозначности: ведь даже в том случае, когда образы и мотивы заимствуются из некоего конкретного источника, они отсылают к существенно более широкому кругу и литературных, и культурных контекстов. Иными словами, результат префигурации вовсе не обязательно будет прочитываться как аллюзия. Скорее, наоборот — и это наблюдение Ивонн Хауэлл представляется мне особенно значимым для разговора о литературе Стругацких, — весьма смутно узнавая, но не идентифицируя подвергшийся префигурации образ, читатель присваивает ему характеристики реальности, тем более по контрасту с “фантастическими” декорациями и в сочетании с деталями “из повседневной жизни”.
Возможно, такое наблюдение и продолжает отчасти постструктуралистскую традицию, в рамках которой понятия “реализм” и “интертекст” тесно связаны17; с точки зрения и в терминологии Барта — “эффект реальности” основывается на “референциальной иллюзии” (“…По ту сторону бумажного листа находится вовсе не реальность, не референт, но Референция, “безбрежное и неуловимое пространство письма””18).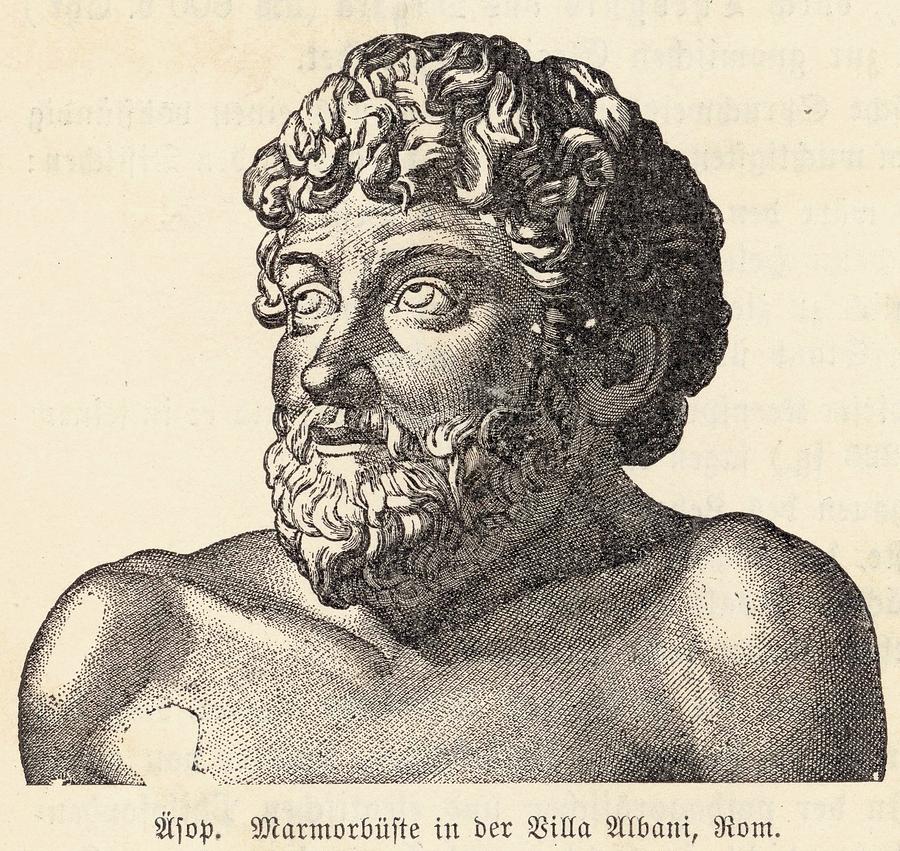 Отнюдь не являясь последователем этой традиции (что, разумеется, будет продемонстрировано и в настоящей статье), я, однако, хотела бы зафиксировать подобную возможность увидеть в эффекте реальности альтернативу “эзоповым” прочтениям Стругацких.
Отнюдь не являясь последователем этой традиции (что, разумеется, будет продемонстрировано и в настоящей статье), я, однако, хотела бы зафиксировать подобную возможность увидеть в эффекте реальности альтернативу “эзоповым” прочтениям Стругацких.
Впрочем, важный для Хауэлл акцент на авторской интенции, на сознательном авторском замысле тоже не вполне соответствует теории референциальной иллюзии. Фактически, концептуализируя “префигурацию”, исследовательница описывает нарративный механизм, который замышляется авторами как “диалог”, отсылка к “чужому тексту”, воспринимается читателями как непосредственное дыхание реального мира, а при малейших интерпретаторских усилиях превращается в аллегорию.
Здесь будет уместно подчеркнуть: исследовательские проблемы, рассмотренные выше, — в значительной мере проблемы рецепции. Но что представляет собой в данном случае фигура реципиента, читателя? Режим эзопова языка предполагает читателя подготовленного, механизм префигурации — читателя с эклектичными вкусами, информированного отрывочно и хаотично; но при этом и Лосев, и Хауэлл, говоря о читателе Стругацких, имеют в виду, в общем, одну и ту же аудиторию.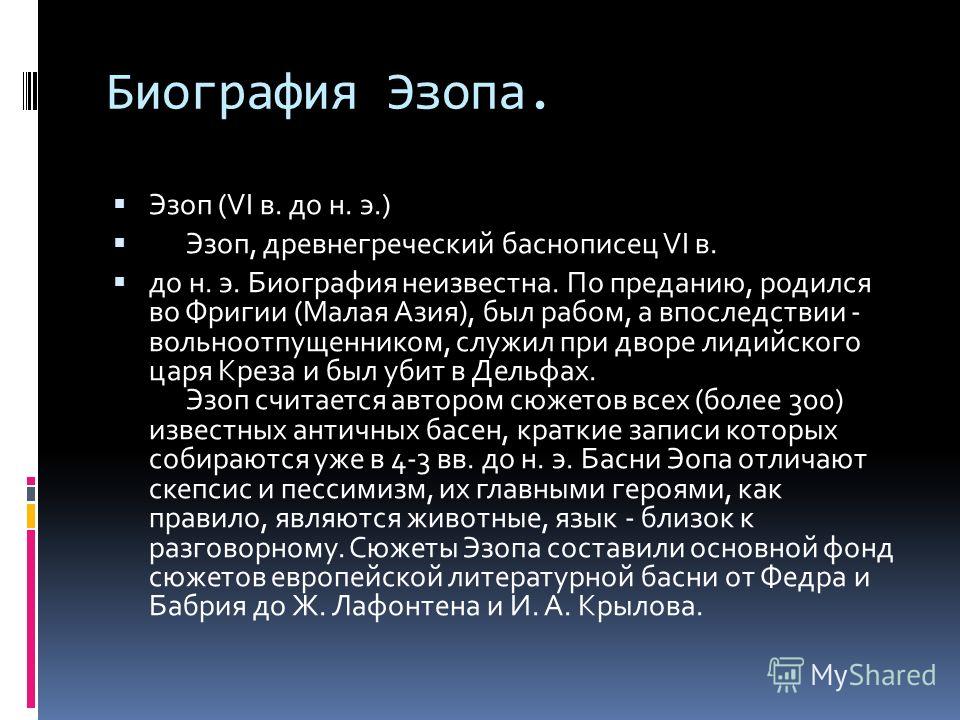 Речь идет о “советской интеллигенции”, или, как пишет Хауэлл, об обитателях “промежуточной культуры”, тех “расщелин” в культуре официальной, которые “появляются в послесталинскую “оттепель” и продолжают расширяться в годы правления Брежнева и в период, предшествовавший “гласности””. При всей меткой образности такого определения остается неясным, как обозначить границы этой промежуточной среды, была ли она гомогенна и претерпевала ли изменения за вполне продолжительный срок от “оттепели” до “гласности”.
Речь идет о “советской интеллигенции”, или, как пишет Хауэлл, об обитателях “промежуточной культуры”, тех “расщелин” в культуре официальной, которые “появляются в послесталинскую “оттепель” и продолжают расширяться в годы правления Брежнева и в период, предшествовавший “гласности””. При всей меткой образности такого определения остается неясным, как обозначить границы этой промежуточной среды, была ли она гомогенна и претерпевала ли изменения за вполне продолжительный срок от “оттепели” до “гласности”.
Практически любое сколько-нибудь пространное исследование, посвященное Стругацким, открывается периодизацией их литературы — произведения, написанные в разные годы, отличаются друг от друга до такой степени, что, кажется, обращены к разным адресатам. Противопоставление ранних и поздних текстов, “крепкой научной фантастики” (hard SF)19 и “социально-философских притч”, влечет за собой и противопоставление читательских групп: “юношеская” аудитория противополагается “взрослой”, “научно-техническая интеллигенция” — “гуманитарной”. Собственно, феномен Стругацких, интересный Льву Лосеву или Ивонн Хауэлл, начинается с выхода за пределы “крепкого жанра”, с того раздвоения адресации, о котором пишет Лосев: под маской детской (или, в данном случае, юношеской) литературы может скрываться сообщение для значительно более искушенных читателей20.
Собственно, феномен Стругацких, интересный Льву Лосеву или Ивонн Хауэлл, начинается с выхода за пределы “крепкого жанра”, с того раздвоения адресации, о котором пишет Лосев: под маской детской (или, в данном случае, юношеской) литературы может скрываться сообщение для значительно более искушенных читателей20.
Ситуация выглядит несколько по-другому, если наблюдать за ритуалами, принятыми в сообществах поклонников фантастов. Вопрос: “Какую из книг Стругацких вы считаете лучшей?”, весьма часто структурирующий обсуждение в блогах и на форумах21, предоставляет иную (отличную от периодизации) возможность справиться с многообразием этой прозы. Выбор “лучшего” задает персональную оптику, через которую прочитываются и связываются вместе все остальные тексты. Подобные опросы — тоже своеобразный способ классификации читательской аудитории, и он демонстрирует, что логика поступательной эволюции от простого к сложному, от однозначного к многозначному здесь не всегда работает, а аудитория ранних и поздних произведений может различаться гораздо меньше, чем сами произведения.
Между тем и ранние, и поздние произведения Стругацких, пожалуй, не содержат никаких сколько-нибудь заметных подсказок, призванных прояснить проблемы адресации. Если не считать ироничного подзаголовка к повести “Понедельник начинается в субботу” — “для научных работников младшего возраста”, фигура адресата эксплицирована лишь в “Хромой судьбе”: сюжет этого романа строится вокруг тайной рукописи, которую главный герой пишет “в стол”, и таинственной машины, которая умеет определять Наивероятнейшее Количество Читателей Текста. Образ читателя, с одной стороны, наделяется безусловной значимостью, однако с другой — скорее деконструируется, чем конструируется: “Читатель. Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых, совершенно посторонних мне людей” [Т. 9. С. 130]22.
Мало что добавят к этому подчеркнуто рациональному ракурсу и “Комментарии к пройденному”. Каждая глава книги Бориса Стругацкого фактически состоит из двух историй: истории создания того или иного литературного текста и истории его публикации. Занимая центральное место во второй (как правило, более чем драматичной) истории, фигура адресата почти полностью отсутствует в первой.
Занимая центральное место во второй (как правило, более чем драматичной) истории, фигура адресата почти полностью отсутствует в первой.
Единожды упомянуто, впрочем, “подробное математическое исследование”, которое фантасты предприняли в начале 1970-х годов, вычисляя, какой из придуманных ими сюжетов “более других подходит для немедленного взятия в работу”: “По десятибалльной системе определяются: степень разработанности сюжета; вероятность будущего опубликования; пригодность для “Детгиза”; желание этот сюжет писать; способность (готовность) писать; общественная потребность в данной повести, а также (по десятибалльной шкале) “повесть может получиться на… баллов”. Затем определяется для каждого сюжета некое среднее взвешенное”23. Эта схема приоритетов вряд ли достаточна для далеко идущих выводов об образе адресата и мотивациях письма — не только потому, что она явно ситуативна, окказиональна, но и потому, что в глазах стороннего наблюдателя предельно абстрактна (в конечном счете мы узнаём лишь о заинтересованности фантастов в читателе). Однако стоит обратить внимание на критерий отбора, опередивший в перечне “общественную потребность”, — “желание писать”.
Однако стоит обратить внимание на критерий отбора, опередивший в перечне “общественную потребность”, — “желание писать”.
К этому герметичному критерию “Комментарии…” и апеллируют чаще прочих: процесс литературного письма приобретает мотивацию и ценность уже постольку, поскольку он “увлекателен”, “интересен” самим авторам, и, напротив, утрачивает всякий смысл, непременно прерывается ими, если “писать стало неинтересно”24.
Тем не менее дальше я намереваюсь продолжить разговор о рецепции Стругацких, опираясь непосредственно на их тексты. Антуан Компаньон описал жанр как “модель чтения”25, но в данном случае было бы точнее говорить не о жанровой эволюции (от hard SF до притчи), а о готовности авторов свободно экспериментировать с тем, что социологи литературы называют “модальными рамками” письма, “эстетическими мнимостями”26, и прежде всего — со всевозможными модусами “иной реальности”: ирреальное, будущее, должное (утопическое), волшебное, мифологическое и проч.
Эта проблема тоже может быть описана как проблема читательского восприятия: именно так, с опорой на читательский опыт и фигуру имплицитного читателя, концептуализирует “фантастическое” Цветан Тодоров. В сегодняшних исследованиях заметен интерес к тодоровскому “Введению в фантастическую литературу” — интерес критический, но вместе с тем операциональный. При всем схематизме гипотезы, согласно которой “эффект фантастического” возникает между полюсом “необычного” и полюсом “чудесного” (напомню, предмет “Введения…” достаточно узок — фантастическая проза конца XVIII—XIX веков, “литература “чудес” и литература “чудищ””27, в формулировке Бориса Дубина), понятие “фантастического эффекта” может быть использовано в более широком смысле. Вводя это понятие, со всей очевидностью антонимичное бартовскому “эффекту реальности”, Тодоров замечает, что фантастическая литература проблематизирует читательские представления о “реальности”, с одной стороны, и о “литературе” (фикциональности), с другой28.
В сегодняшних исследованиях заметен интерес к тодоровскому “Введению в фантастическую литературу” — интерес критический, но вместе с тем операциональный. При всем схематизме гипотезы, согласно которой “эффект фантастического” возникает между полюсом “необычного” и полюсом “чудесного” (напомню, предмет “Введения…” достаточно узок — фантастическая проза конца XVIII—XIX веков, “литература “чудес” и литература “чудищ””27, в формулировке Бориса Дубина), понятие “фантастического эффекта” может быть использовано в более широком смысле. Вводя это понятие, со всей очевидностью антонимичное бартовскому “эффекту реальности”, Тодоров замечает, что фантастическая литература проблематизирует читательские представления о “реальности”, с одной стороны, и о “литературе” (фикциональности), с другой28.
С этих позиций исследователи литературы и кино, плодотворно работающие с категорией фантастического, склонны различать два ее значения. Если в первом значении фантастическое — узловой элемент той или иной узнаваемой жанровой формулы (научная фантастика, фэнтези, хоррор — жанры, которые иногда объединяются термином speculative fiction), то во втором — особый “эффект” (в случае литературы — повествовательный), который разрушает инерцию восприятия, а нередко и дезориентирует читателя, поскольку побуждает его сверять собственные представления о реальном с атрибутами вымышленного мира и с самой логикой вымысла29. Тогда можно сказать, что фантастическая проза появляется как своеобразное зеркало “реалистической” литературы30, фиксируя, делая явными модальные рамки любого литературного вымысла и присваивая многообразным модусам иной реальности (от “ирреального” до “мифологического”) статус “эстетических”, литературных.
Тогда можно сказать, что фантастическая проза появляется как своеобразное зеркало “реалистической” литературы30, фиксируя, делая явными модальные рамки любого литературного вымысла и присваивая многообразным модусам иной реальности (от “ирреального” до “мифологического”) статус “эстетических”, литературных.
Однако к интересующей меня в данном случае теме имеет прямое отношение еще один концепт, которым оперирует Тодоров, — “аллегорическое”. Аллегория, по мнению автора “Введения…”, не только несовместима с фантастическим эффектом, но обязательно его нивелирует. Персонажи аллегорического повествования воспринимают происходящие с ними “сверхъестественные”, “необъяснимые” события как нечто закономерное, не выказывают “удивления” — пожалуй, именно отсутствие удивления при встрече с необъяснимым и необъясненным трактуется во “Введении…” как основной сигнал, позволяющий отличить фантастику от аллегории. Иными словами, аллегория сопоставима с фантастическим эффектом постольку, поскольку тоже выявляет читательскую потребность в нормализации реальности, побуждает нас ощутить отсутствие “объяснений” как недостачу, хотя тут же ее компенсирует возможностями “небуквального прочтения”, обнаружения “второго смысла”.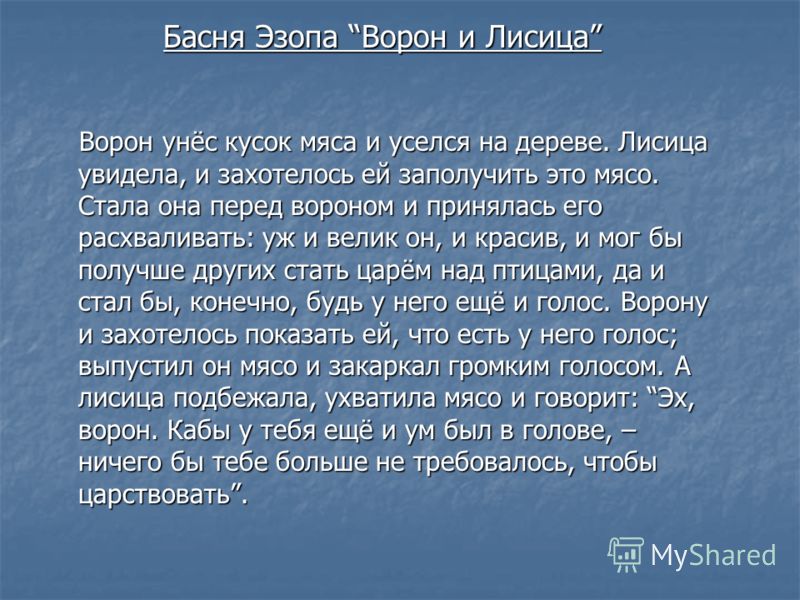
При этом Тодоров подчеркивает: “…Об аллегории можно говорить только тогда, когда в самом тексте содержатся эксплицитные указания на нее. В противном случае перед нами обычное читательское толкование; в этом смысле не существует литературного текста, который не был бы аллегорическим, ибо литературному произведению свойственно служить предметом бесконечных истолкований и перетолкований”31. В произведениях, отвечающих достаточно жестким жанровым канонам, распознать подобные экспликации, конечно, не составит труда (не случайно в качестве примера здесь прежде всего приводится басенная мораль), но очевидно, что грань между “читательским толкованием” и “авторским замыслом” далеко не всегда просматривается столь отчетливо. Таким образом, в книге Тодорова “аллегорическое” — как и “фантастическое” — легко утрачивает определенные очертания, становясь отражением литературы в целом, воплощая условность, присущую любому литературному тексту.
Социологическая оптика предоставляет возможность увидеть здесь в первую очередь нормативную, а не нарративную проблему.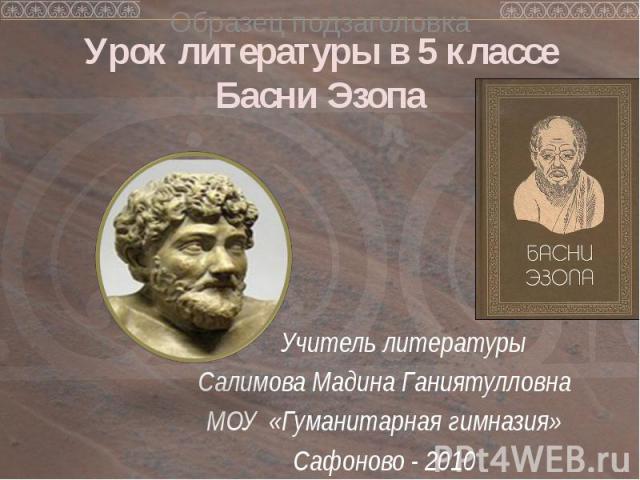 Эти заметки о прозе Стругацких будет структурировать не столько готовая оппозиция фантастика/аллегория (или, тем более, фантастика/реальность), сколько внимание к многообразию модальных рамок — к тому, как именно они соотносятся с имплицитными механизмами восприятия литературных норм (не в последнюю очередь жанровых) и норм правдоподобия (конструкций “реального”, “обычного”, “настоящего”).
Эти заметки о прозе Стругацких будет структурировать не столько готовая оппозиция фантастика/аллегория (или, тем более, фантастика/реальность), сколько внимание к многообразию модальных рамок — к тому, как именно они соотносятся с имплицитными механизмами восприятия литературных норм (не в последнюю очередь жанровых) и норм правдоподобия (конструкций “реального”, “обычного”, “настоящего”).
Можно предположить, что такой нормативно-ценностный ракурс позволит аналитически связать те эффекты и программы чтения, которые имплицитно содержатся в повествовании, с более или менее общими формами опыта, разделяемого первыми читателями фантастов. С этой точки зрения не принципиально, “кем” являлся прямой адресат Стругацких — студентом технического вуза или доктором филологических наук, тем более что грань между этими статусами проницаема. Значимо другое — с какими представлениями о социальной реальности и навыками чтения “работает” литературный текст; какими представлениями нужно обладать, чтобы этот текст был прочитан.
___________________________
1) Плеханов С. Когда все можно? // Литературная газета. 1989. 29 марта. С. 4.
2) Там же.
3) http://magic-garlic.livejournal.com/15151.html.
4) http://abcdefgh.livejournal.com/186513.html?thread=734 353#t734353.
5) http://katherine-kinn.livejournal.com/65491.html?thread =1079251#t1079251.
6) Арбитман Р. Участь Кассандры: Братья Стругацкие… О наших сегодняшних проблемах они говорили еще вчера // Литературная газета. 1991. 20 ноября. С. 10.
7) См., например: Брилева О. Братья Стругацкие: кризис человекобожества в “Мире Полудня”: http://www.krotov. info/libr_min/b/brileva.html.
8) http://www.rusf.ru/abs/int.htm.
9) Ср. название статьи: Арбитман Р. Участь Кассандры: Братья Стругацкие… О наших сегодняшних проблемах они говорили еще вчера.
10) См., например: Ермилова Е. Дурак — идеал рыночной экономики! // Литературная газета. 2003. № 26; Быков Д. Прекрасные утята (о пользе чтения Стругацких) [Быковquickly: взгляд-76]: http://old.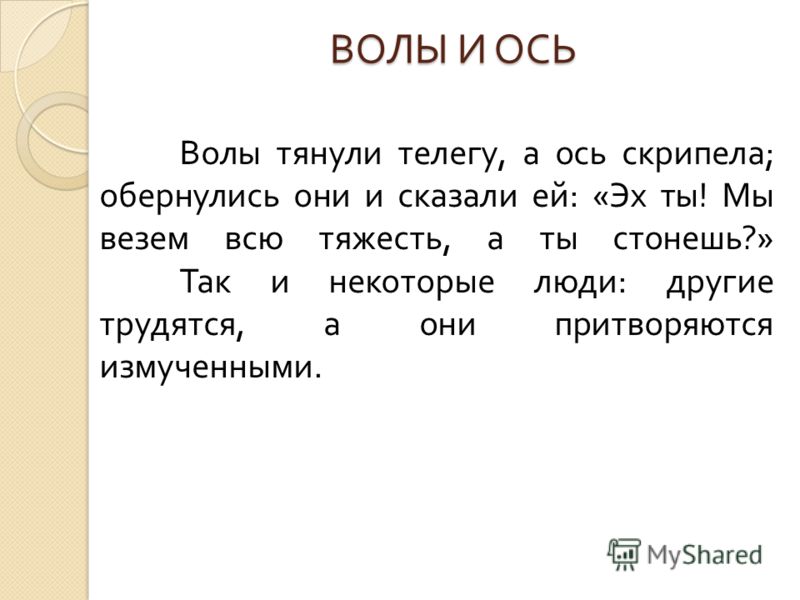 russ.ru/columns/bikov/.
russ.ru/columns/bikov/.
11) Барт Р. S/Z / Пер. с фр. под ред. Г.К. Косикова. 2-е изд. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 44, 140—141.
12) Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature / Translated by J. Bobko. München: O. Sagner in Kommission, 1984.
13) Лотман Ю. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. С. 98—99.
14) Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature. P. 42-49.
15) Ibid. P. 16, 119.
16) Howell Y. Apocalyptic Realism: The Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky. N.Y.; Bern; Berlin; Frankfurt am Main; Paris; Wien: Lang, 1994. (Далее цит. с изменениями по пер. А. Кузнецовой: http://fan.lib.ru/a/ashkinazi _l_a/text_2110.shtml.)
17) Об этом: Компаньон А. Демон теории / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 128—133.
18) Barthes R. S/Z. Paris, 1970. Р. 29. Цит. по: Компаньон А. Демон теории. С. 129—130.
19) Potts S. W. The Second Marxian Invasion: The Fiction of the Strugatsky Brothers. San-Bernardino: The Borgo Press, 1991. (Здесь и далее цит. с изменениями по пер. А. Кузнецовой: http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2150.shtml.)
W. The Second Marxian Invasion: The Fiction of the Strugatsky Brothers. San-Bernardino: The Borgo Press, 1991. (Здесь и далее цит. с изменениями по пер. А. Кузнецовой: http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2150.shtml.)
20) Loseff L. On the Beneficence of Censorship… P. 116.
21) См., например: http://www.rusf.ru/cgi-bin/voting; http:// community.livejournal.com/strugatsky/9884.html.
22) Здесь и далее произведения братьев Стругацких цит. по изд.: Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. соч.: В 10 т. 2-е изд., доп. М.: Текст, 1991—1993.
23) Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. СПб.: Амфора, 2003. С. 225.
24) Там же, С. 91—93, 154, 156, 181, 198, 286 и др.
25) Компаньон А. Демон теории. С. 184.
26) Гудков Л. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М.: Русина, 1994. С. 386—388.
27) Дубин Б. Обращенный взгляд [Рец. на кн.: Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997 ] // НЛО. 1998. № 32. С. 363.
28) Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. С. 126.
Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. С. 126.
29) См. размышления о “Введении в фантастическую литературу” в статьях: Зенкин С. Эффект фантастики в кино // Фантастическое кино. Эпизод первый / Под ред. Н. Самутиной. М.: НЛО, 2006. С. 50—65; Дашкова Т., Степанов Б. Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского “Солярис” и “Сталкер” // Там же. С. 311—344.
30) Об этом: Дубин Б. Обращенный взгляд С. 365.
31) Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 55.
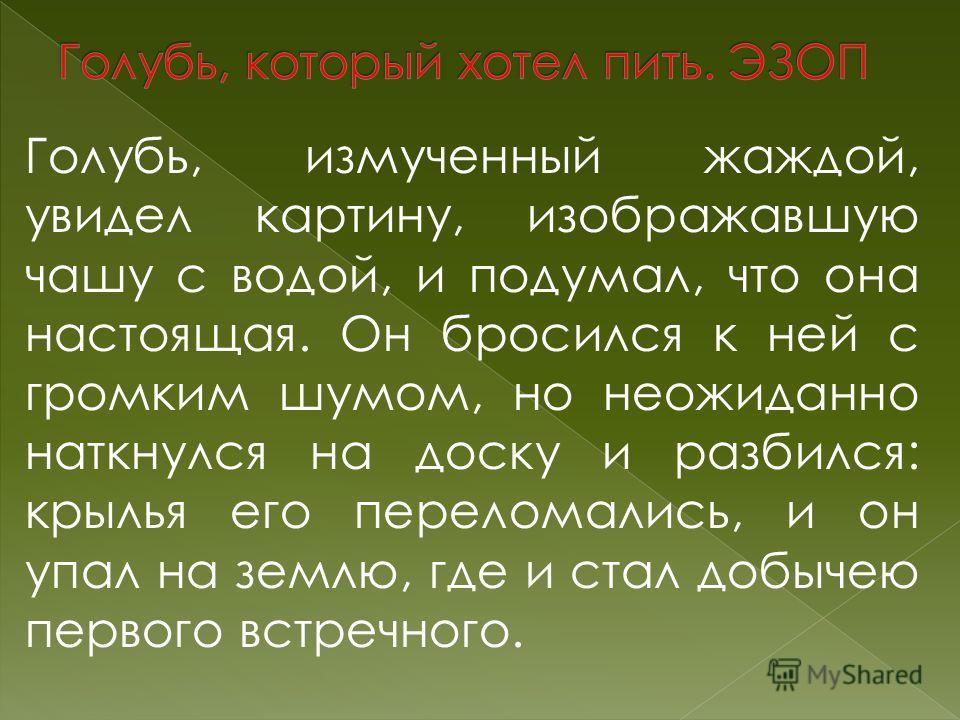 Внедрение передового опытаТо, как мы делаем что-то в определенных обстоятельствах, не нужно тщательно продумывать и тем более записывать, чтобы претендовать на ярлык «практика», если мы когда-нибудь захотим так его назвать. Однако в тот момент, когда мы добавляем квалификацию «лучший», мы говорим о совсем другом звере. Слово «лучший» подразумевает оценку, но ассоциация этих двух слов стала означать гораздо больше. Понятие «лучшие практики» выходит за рамки определения того, что хорошо сработало в проекте, с целью сделать то же самое или даже лучше в следующий раз. Он предполагает обобщение. Лежащее в основе понятия «лучшие практики» убеждение состоит в том, что мы можем извлечь определенные из наших способов ведения дел и извлечь из них выгоду в другом месте в другом контексте. Конечно, каждый из нас делает это совершенно естественно, когда мы учимся на собственном опыте. Команды, как известно, тоже хороши в этом. Однако стремление разработать «лучшие практики», которое в настоящее время вдохновляет менеджеров и политиков, основано на вере в то, что, если обобщить эту формулировку избранного опыта, то, как все делается в промышленности и на предприятии, может эволюционировать и развиваться быстрее к большей выгоде экономика. По сути, идея использования опыта тех, кто работает в других местах, привлекательна. Для большого числа компаний это может стать источником решающего коммерческого преимущества. Как выразились авторы проекта AESOPIAN: «Для многих организаций выигрывать бизнес только за счет издержек будет все труднее, поскольку они будут сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны экономик, где традиционные факторы производства дешевле. необходимы знания и компетентность». С более радикальной точки зрения можно также говорить об экологии знаний, в которой делается попытка сократить потери. Но здесь не место для развития этой идеи. Основной проблемой остается то, как эти знания отбираются и как лучше всего передать их тем, кто в них нуждается. По сути, идея использования опыта тех, кто работает в других местах, привлекательна. Для большого числа компаний это может стать источником решающего коммерческого преимущества. Как выразились авторы проекта AESOPIAN: «Для многих организаций выигрывать бизнес только за счет издержек будет все труднее, поскольку они будут сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны экономик, где традиционные факторы производства дешевле. необходимы знания и компетентность». С более радикальной точки зрения можно также говорить об экологии знаний, в которой делается попытка сократить потери. Но здесь не место для развития этой идеи. Основной проблемой остается то, как эти знания отбираются и как лучше всего передать их тем, кто в них нуждается.Надпись на стенеАвторы проекта AESOPIAN считают, что лучше всего это можно сделать с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они предлагают создать систему технологической поддержки, позволяющую топ-менеджерам «получать нужные знания в нужном месте в нужный момент». Для этого необходимо, чтобы основные знания были доступны в переносимой форме. К сожалению, обычно это не так. Единственная практичная и экономичная форма широкомасштабной передачи таких знаний — это письменная форма. Знания могут быть встроены в базу данных и доступны по всему миру через Интернет, но их все равно нужно сначала записать, а затем интерпретировать. Проект AESOPIAN предполагает, что формулирование лучших практик в письменной форме будет удовлетворительным. Это довольно неудачный — хотя, вероятно, и неизбежный — вариант, поскольку существуют очевидные трудности при попытках сформулировать практики в письменном виде, чтобы их могли понять и применять другие, особенно когда эти люди работают в разных контекстах. Каким бы изобретательным ни был коммуникационный инструмент, его успех в конечном счете зависит от того, насколько осмысленным и ценным для других является контент, который он транслирует. Для этого необходимо, чтобы основные знания были доступны в переносимой форме. К сожалению, обычно это не так. Единственная практичная и экономичная форма широкомасштабной передачи таких знаний — это письменная форма. Знания могут быть встроены в базу данных и доступны по всему миру через Интернет, но их все равно нужно сначала записать, а затем интерпретировать. Проект AESOPIAN предполагает, что формулирование лучших практик в письменной форме будет удовлетворительным. Это довольно неудачный — хотя, вероятно, и неизбежный — вариант, поскольку существуют очевидные трудности при попытках сформулировать практики в письменном виде, чтобы их могли понять и применять другие, особенно когда эти люди работают в разных контекстах. Каким бы изобретательным ни был коммуникационный инструмент, его успех в конечном счете зависит от того, насколько осмысленным и ценным для других является контент, который он транслирует.Важность контекстаЕсть еще одна проблема в понятии лучших практик, особенно когда мы стремимся развивать их и делать доступными с помощью методов баз данных. Ценность практики зависит от контекста, в котором она происходит. Любая попытка обобщения должна в определенной степени извлекать практику из ее контекста. При этом существует риск того, что получившаяся «лучшая практика» будет далеко не лучшим образом действовать в новом контексте. Дополнительное посредничество за счет ИКТ увеличивает риск неправильного понимания и последующего неправильного выбора. К счастью, у нас есть некоторая уверенность в том, что люди сопоставят то, что предлагается, с опытом их собственного контекста — что компьютер никоим образом не может сделать — и придут к наиболее подходящим выводам. Однако, как бы мы ни были осторожны, суждение может быть искажено внутренними характеристиками системы доставки, которая работает довольно коварным образом. Это может звучать несколько параноидально. Но это не так. Возьмем пример. «Создание, сбор, хранение, доступ и использование практических знаний — вот что для многих организаций сектора ИКТ является основной задачей того, что обещает управление знаниями», — говорят авторы проекта AESOPIAN. Ценность практики зависит от контекста, в котором она происходит. Любая попытка обобщения должна в определенной степени извлекать практику из ее контекста. При этом существует риск того, что получившаяся «лучшая практика» будет далеко не лучшим образом действовать в новом контексте. Дополнительное посредничество за счет ИКТ увеличивает риск неправильного понимания и последующего неправильного выбора. К счастью, у нас есть некоторая уверенность в том, что люди сопоставят то, что предлагается, с опытом их собственного контекста — что компьютер никоим образом не может сделать — и придут к наиболее подходящим выводам. Однако, как бы мы ни были осторожны, суждение может быть искажено внутренними характеристиками системы доставки, которая работает довольно коварным образом. Это может звучать несколько параноидально. Но это не так. Возьмем пример. «Создание, сбор, хранение, доступ и использование практических знаний — вот что для многих организаций сектора ИКТ является основной задачей того, что обещает управление знаниями», — говорят авторы проекта AESOPIAN. Модель, которую они предлагают, требует, чтобы то, как все делается, было разбито на ряд гораздо более мелких практик. Затем модель позволяет обрабатывать каждый из этих меньших объектов и при необходимости перерабатывать их. Но имеем ли мы право предполагать, что мы можем безопасно разделить способы работы таким образом, не лишая их смысла? Можем ли мы относиться к получившимся кусочкам как к отдельным дискретным предметам, которыми можно манипулировать, как множеством несвязанных между собой предметов на полке? Если мы примем во внимание, что способы работы — это сложные явления, являющиеся неотъемлемой частью контекста в целом, не приведет ли это аналитическое овеществление к неправильной оценке того, что мы делаем, несмотря на нашу осторожность? Что требуется, так это основанный на процессах подход к управлению знаниями, который поддерживает общее видение контекста, в котором способы работы взаимосвязаны и развиваются. Компьютеры плохо справляются с оценкой в сложных взаимосвязанных контекстах, тогда как люди могут. Модель, которую они предлагают, требует, чтобы то, как все делается, было разбито на ряд гораздо более мелких практик. Затем модель позволяет обрабатывать каждый из этих меньших объектов и при необходимости перерабатывать их. Но имеем ли мы право предполагать, что мы можем безопасно разделить способы работы таким образом, не лишая их смысла? Можем ли мы относиться к получившимся кусочкам как к отдельным дискретным предметам, которыми можно манипулировать, как множеством несвязанных между собой предметов на полке? Если мы примем во внимание, что способы работы — это сложные явления, являющиеся неотъемлемой частью контекста в целом, не приведет ли это аналитическое овеществление к неправильной оценке того, что мы делаем, несмотря на нашу осторожность? Что требуется, так это основанный на процессах подход к управлению знаниями, который поддерживает общее видение контекста, в котором способы работы взаимосвязаны и развиваются. Компьютеры плохо справляются с оценкой в сложных взаимосвязанных контекстах, тогда как люди могут.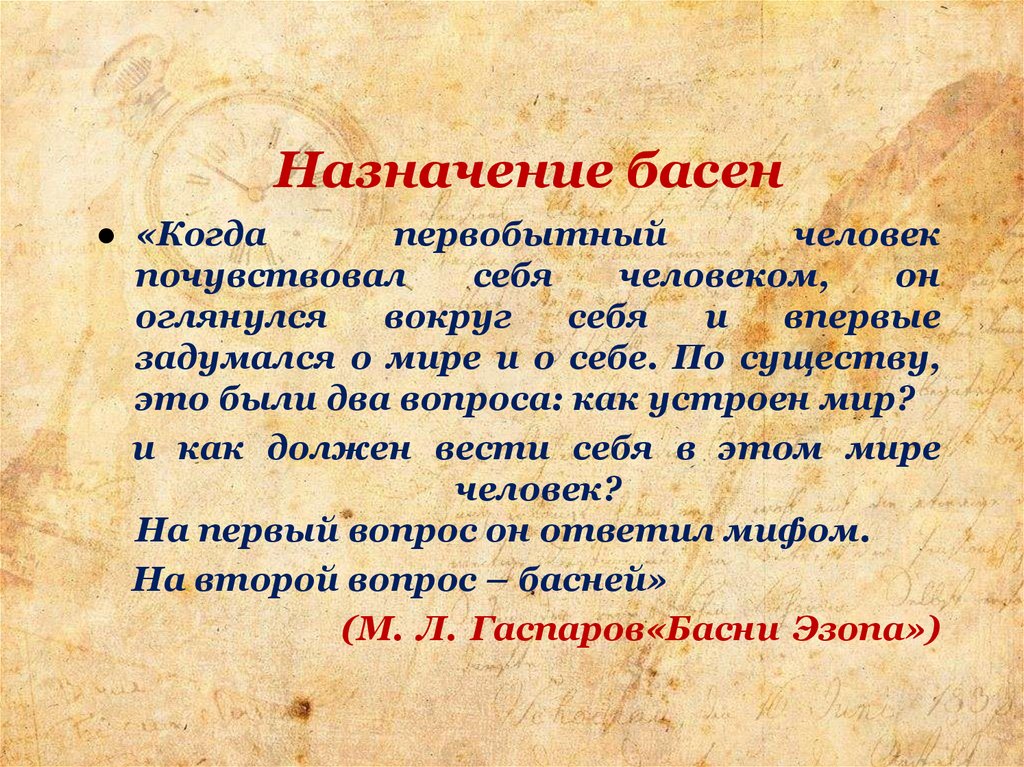 Чтобы улучшить наше использование знаний, в частности, в разработке и распространении лучших способов работы, нам необходимо найти правильный баланс между развитием соответствующих человеческих способностей и компетенций, как таковых, и возможностями используемых инструментов. Чтобы улучшить наше использование знаний, в частности, в разработке и распространении лучших способов работы, нам необходимо найти правильный баланс между развитием соответствующих человеческих способностей и компетенций, как таковых, и возможностями используемых инструментов.Роль оценкиВышеизложенный вывод приводит нас к еще одному очевидному упущению в технологическом подходе к лучшим практикам: ключевая роль оценки как фактора мотивации, понимания и доступа к необходимым компетенциям со стороны широкого круга вовлеченных субъектов. Когда мы говорим о «лучших практиках», мы говорим об «изменениях». Изменения естественным образом провоцируют возбуждение и порождают сопротивление. Что должно быть изменено и кем? Кто должен решать? Понятие «наилучшей практики» постулирует, что выбор может быть продиктован экстраполяцией прошлого опыта при принятии решений о новом поведении. Это не всегда может быть уместно. Будь то изменение путем эволюции или революции, трудность его внедрения заключается в том, чтобы заручиться поддержкой всех вовлеченных акторов.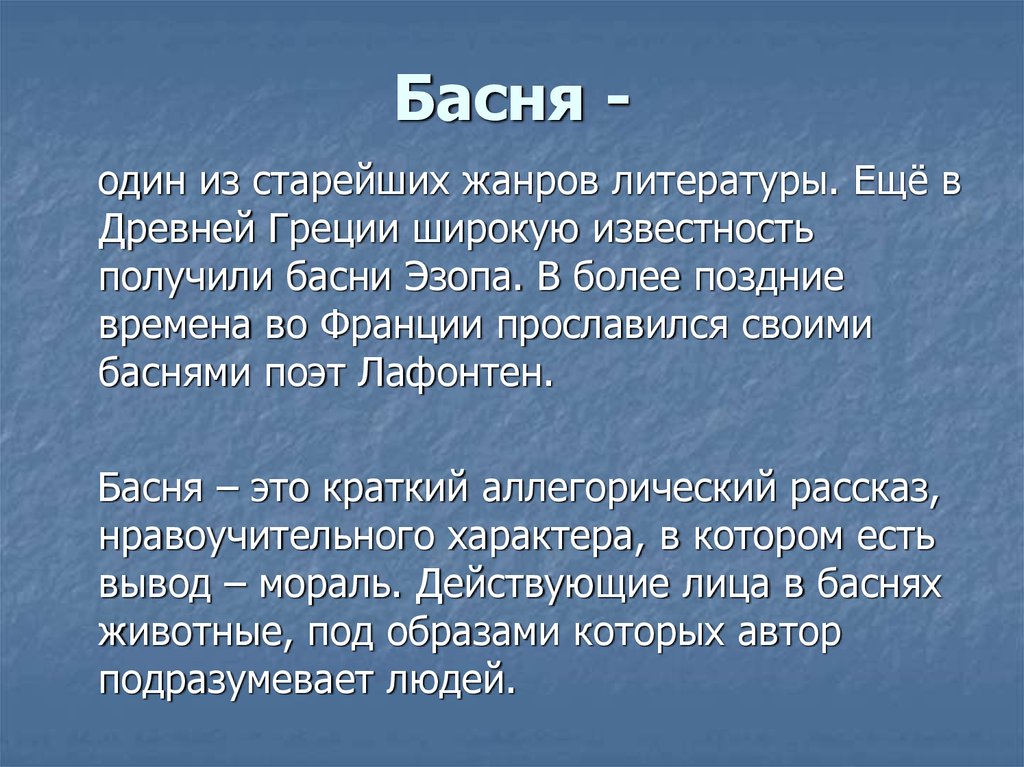 Вовлечение всех участников процесса оценки может привести к необходимому пониманию необходимости изменений (если они будут). Это также может привести к обучению, необходимому для успешного осуществления этих изменений. Принимая во внимание, что отключение актеров от этого процесса обучения за счет того, что эксперты решают, что для них лучше, может привести к потере большого количества времени и усилий на объяснение того, что узнали другие, и преодоление сопротивления. Вовлечение всех участников процесса оценки может привести к необходимому пониманию необходимости изменений (если они будут). Это также может привести к обучению, необходимому для успешного осуществления этих изменений. Принимая во внимание, что отключение актеров от этого процесса обучения за счет того, что эксперты решают, что для них лучше, может привести к потере большого количества времени и усилий на объяснение того, что узнали другие, и преодоление сопротивления.Сомнительные предположенияСкажу несколько слов в пользу партнеров проекта AESOPIAN, людей умных, чутких, благонамеренных, многое из того, о чем я говорю выше, явно не в их компетенции. Это был технологический ответ на проблему управления бизнес-знаниями. Вполне вероятно, что выбор AESOPIAN был молчаливо продиктован технологической предвзятостью контекста, в котором проходила их исследовательская работа. Даже если бы они хотели решать такие вопросы, как навыки письма и расширение прав и возможностей человека посредством оценки в сочетании с их технологическими исследованиями, разделение областей знаний и связанных с ними программ помешало бы им сделать это. Логика программы и ограничения финансирования оказывают большое влияние на выбор проекта и последующие результаты. Области исследований, связанные с так называемым «информационным обществом», воплощенным во многих программах Европейского союза, основаны на неоспоримом предположении, что крайне широкое использование информационных и коммуникационных технологий является желательным и неизбежным. Существует желание улучшить человеческие функции, в частности, в отношении промышленности и торговли, с помощью компьютерных сетей. Хотя в некоторых случаях это может быть продуктивным выбором, мы должны быть осторожны, чтобы чрезмерное обобщение не ввело нас в заблуждение. Компьютер не делает все лучше нас. Желание улучшить управление знаниями за счет использования ИКТ для хранения высококонтекстных данных вполне может быть одной из таких ошибок, когда человеческий мозг справляется с этим гораздо лучше. Возможно, эти инструменты лучше использовать для поиска тех, кто обладает необходимыми знаниями, и для установления контакта с ними. Логика программы и ограничения финансирования оказывают большое влияние на выбор проекта и последующие результаты. Области исследований, связанные с так называемым «информационным обществом», воплощенным во многих программах Европейского союза, основаны на неоспоримом предположении, что крайне широкое использование информационных и коммуникационных технологий является желательным и неизбежным. Существует желание улучшить человеческие функции, в частности, в отношении промышленности и торговли, с помощью компьютерных сетей. Хотя в некоторых случаях это может быть продуктивным выбором, мы должны быть осторожны, чтобы чрезмерное обобщение не ввело нас в заблуждение. Компьютер не делает все лучше нас. Желание улучшить управление знаниями за счет использования ИКТ для хранения высококонтекстных данных вполне может быть одной из таких ошибок, когда человеческий мозг справляется с этим гораздо лучше. Возможно, эти инструменты лучше использовать для поиска тех, кто обладает необходимыми знаниями, и для установления контакта с ними. «Единственная» проблема с этим предложением заключается в том, что владеть базами данных и управлять ими легче, чем людьми. Рыночная логика (и логика правительств) имеет тенденцию отдавать предпочтение конкретным решениям, которые можно легко контролировать, а не нематериальным и кажущимся непредсказуемым. «Единственная» проблема с этим предложением заключается в том, что владеть базами данных и управлять ими легче, чем людьми. Рыночная логика (и логика правительств) имеет тенденцию отдавать предпочтение конкретным решениям, которые можно легко контролировать, а не нематериальным и кажущимся непредсказуемым. Поделитесь или прокомментируйте | Подробнее обучение + сетевое общество + досье + доп. ISSN: 1664-834X Copyright © , Алан МакКласки, [email protected]
|
Знакомство с пандами — биомеханическое джиу-джитсу с силой ботаника — Мэтт Эсо — Inverted Gear
В этой серии мы проливаем свет на многих представителей народа панд. В прошлом выпуске мы говорили с Дэвидом Фимсипасом из Maximum Athletics. Теперь мы сосредоточимся на Мэтте «Эзопиане» Киртли с черным поясом: компьютерном волшебнике, ходячей энциклопедии BJJ и беззастенчивом поклоннике Magic: The Gathering.
В прошлом выпуске мы говорили с Дэвидом Фимсипасом из Maximum Athletics. Теперь мы сосредоточимся на Мэтте «Эзопиане» Киртли с черным поясом: компьютерном волшебнике, ходячей энциклопедии BJJ и беззастенчивом поклоннике Magic: The Gathering.
В бытность свою обладателем синего пояса Мэтт Киртли (32 года) чуть не взорвал Интернет одним из первых замечательных блогов по БЖЖ: Aesopian BJJ, новаторским источником бесплатных онлайн-уроков по БЖЖ. С тех пор он известен как высокотехнологичный и аналитический инструктор, который принял свой внутренний ботаник.
Занимались ли вы другими боевыми искусствами до того, как открыли для себя джиу-джитсу?
Мэтт Китли: Нет. В детстве я хулиганил, но формального обучения у меня не было. Мой единственный другой контакт с боевыми искусствами был, когда в мою школу в детстве пришел парень из тхэквондо. Он заставил всех нас принять стойку лошади, вот и все. Я познакомился с джиу-джитсу много лет спустя, когда начал смотреть «Гордость» на DVD.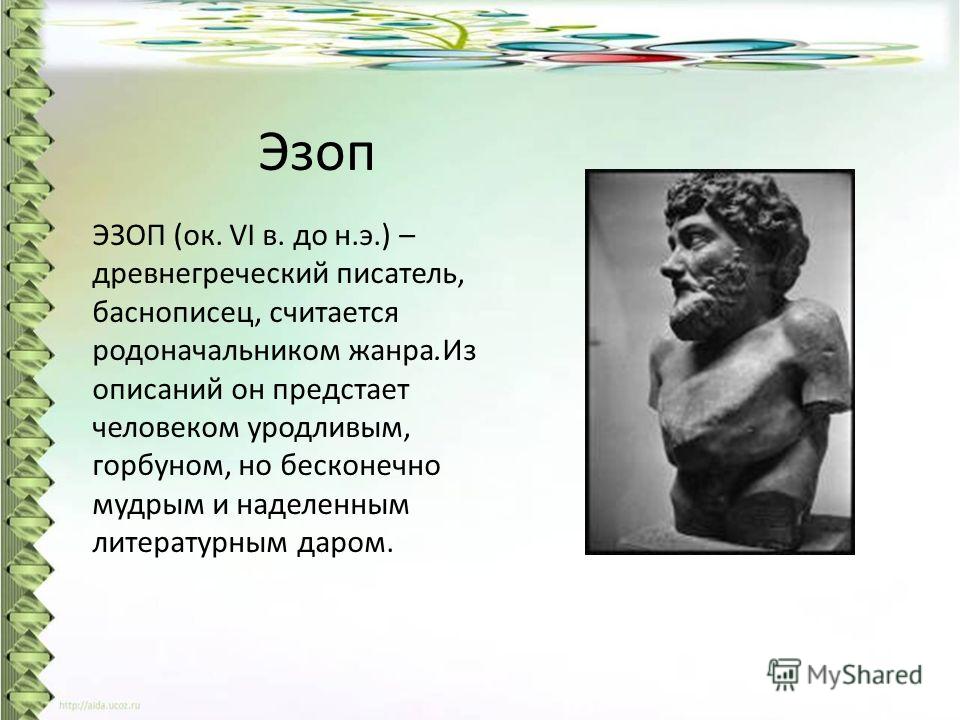 Я действительно увлекся этим, и мне стало интересно, что эти ребята делают (помимо большого количества «особого соуса»). Мне нравился Казуши Сакураба и, конечно же, Грейси, у которых был образ всей этой боевой семьи. На старом форуме Sherdog также размещалась куча классных видеороликов о бойцах, настроенных на хейр-метал, и я фанатично смотрел их. Вам нужно скачать и посмотреть их на RealPlayer. То были времена.
Я действительно увлекся этим, и мне стало интересно, что эти ребята делают (помимо большого количества «особого соуса»). Мне нравился Казуши Сакураба и, конечно же, Грейси, у которых был образ всей этой боевой семьи. На старом форуме Sherdog также размещалась куча классных видеороликов о бойцах, настроенных на хейр-метал, и я фанатично смотрел их. Вам нужно скачать и посмотреть их на RealPlayer. То были времена.
Вы были физически активны?
МК: Вовсе нет. Я был компьютерным ботаном, и мой отец постоянно подталкивал меня к тому, чтобы я двигался. Кто-то на форуме Sherdog порекомендовал школу Эдуардо де Лимы. Это была Грейси Барра — я понятия не имел, что это значит. Но Эдуардо оказался всего в 5 минутах от моего дома. Я постоянно проезжал мимо него и не замечал. У него не было никаких подписок или чего-то еще.
Насколько я понимаю, Эдуардо — один из тех гриндеров старой школы, которые придерживаются некоммерческого подхода.
МК: Совершенно верно. Школа, в которой я тренировался в течение многих лет — вплоть до черного пояса — была просто потной комнатой в задней части складского комплекса. В нем была вращающаяся дверь, цементные стены, не было вестибюля и кондиционера — и все это при удушающей 100-градусной флоридской погоде. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы найти это место, потому что оно было спрятано между магазином металлолома и местом хранения воздушных фильтров.
Школа, в которой я тренировался в течение многих лет — вплоть до черного пояса — была просто потной комнатой в задней части складского комплекса. В нем была вращающаяся дверь, цементные стены, не было вестибюля и кондиционера — и все это при удушающей 100-градусной флоридской погоде. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы найти это место, потому что оно было спрятано между магазином металлолома и местом хранения воздушных фильтров.
Итак, вы вошли в комнату с людьми, имитирующими убийство. Думали ли вы: эти люди безумны?
МК: Мое первое воспоминание о тренажерном зале — это один из фиолетовых поясов, который отдышался снаружи сразу после тренировки. Это был огромный парень с плечами размером с мою голову, и от него поднимался пар. Урок только что закончился, и Эдуардо появился из-за гипсокартона, чтобы поприветствовать меня. Он был чрезвычайно приветлив. Но я подумал, правильно ли это место? Первые пару месяцев я всегда очень нервничал перед тренировкой.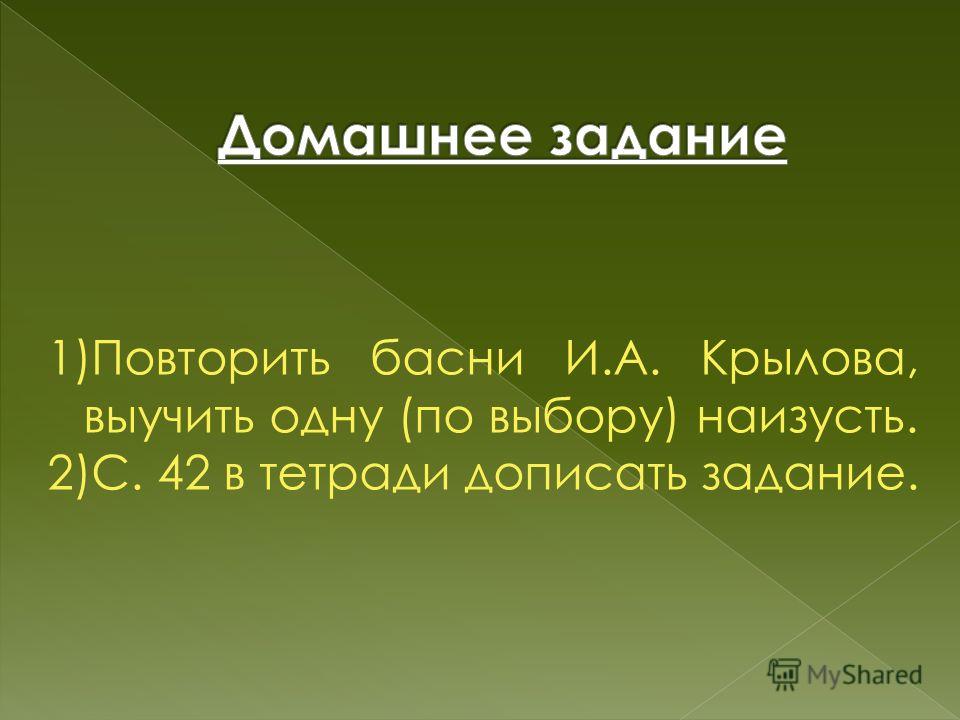 Не из-за какого-то плохого отношения, а просто потому, что я никогда не делал ничего подобного: меня швыряли и раздавливали незнакомцы.
Не из-за какого-то плохого отношения, а просто потому, что я никогда не делал ничего подобного: меня швыряли и раздавливали незнакомцы.
Сообщение, опубликованное Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на
Что ты помнишь о своем первом классе?
МК: Моя сестра, одна из наших подруг, и я начали в один день. Мы все сделали разминку (которая была интенсивной, с большим количеством гимнастики). А вводный класс отодвинули в сторону и напарником выступила обладательница синего пояса, в моем случае худощавая высокая девушка (которая оказалась из отдела шерифа). Она оседлала меня, и Эдуардо спросил нас, как я выберусь, не натворив глупостей. Конечно, я вертелся, как рыба в воде. И, конечно же, она останется на вершине и, в конце концов, прикроет мою спину. Эдуардо задавал риторический вопрос: «Ну, это хорошо или плохо для тебя?» А потом мы поменялись местами, и каждый раз она убегала. Весь смысл был в том, чтобы продемонстрировать, как многого вы не знаете. Затем мы научились основному побегу с моста. Итак, мой первый опыт был избит худенькой девушкой.
Весь смысл был в том, чтобы продемонстрировать, как многого вы не знаете. Затем мы научились основному побегу с моста. Итак, мой первый опыт был избит худенькой девушкой.
Но понравилось ли это твоему занудству?
МК: В конце концов это произошло. Как новичок, вы не в состоянии оценить технические аспекты. Вы едва понимаете, что происходит, но я мог сказать, что мне нужно было многое понять, и это заставляло меня возвращаться. Жара убивала меня. Неделями не мог закончить урок. После кувырка я почти терял сознание, спотыкался, возвращался к линии и врезался прямо в стены лицом вперед.
Пост, опубликованный Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на
В какой-то момент вы начали вести один из первых замечательных блогов о БЖЖ: Aesopian.com
МТ: Ну, я все время был онлайн.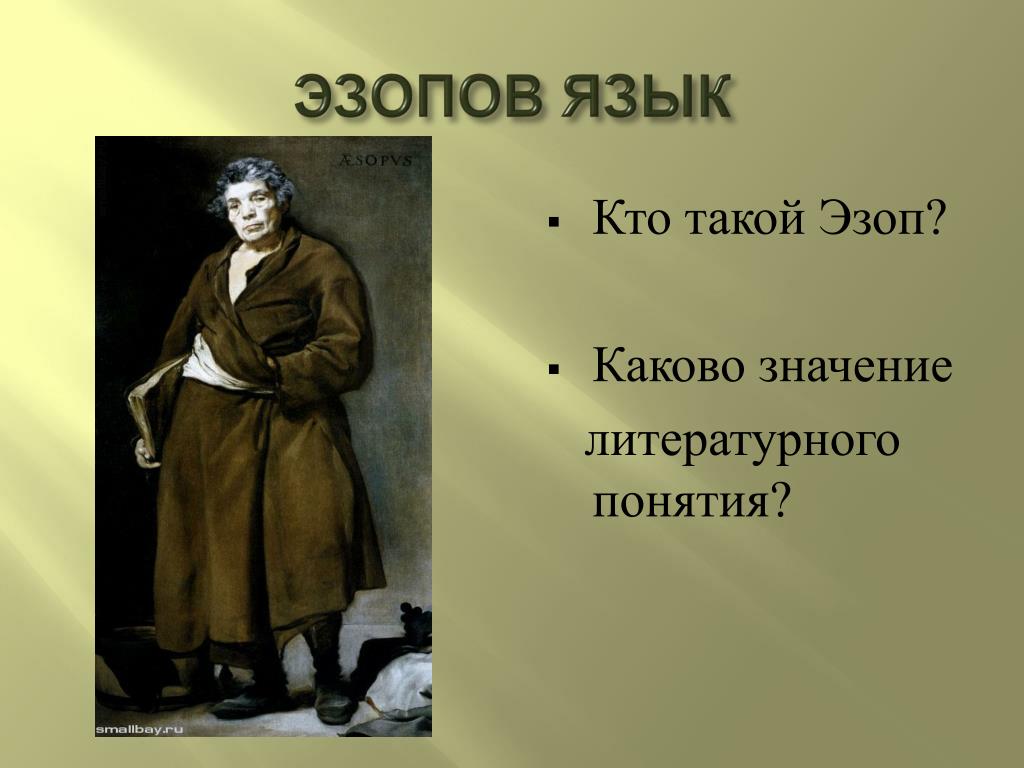 Как и многие люди моего поколения, я думал, что своим мнением стоит поделиться с миром, поэтому я активно участвовал во всех форумах по джиу-джитсу. Оглядываясь назад, было довольно странно осознавать, что какой-то синий пояс без диплома или опыта начал так много постить о джиу-джитсу. Но вроде нормально получилось. У меня был хороший старт, потому что не так много людей, которые тренировались в BJJ, могли бы также пользоваться Интернетом, создавать веб-сайты и иметь хорошую камеру.
Как и многие люди моего поколения, я думал, что своим мнением стоит поделиться с миром, поэтому я активно участвовал во всех форумах по джиу-джитсу. Оглядываясь назад, было довольно странно осознавать, что какой-то синий пояс без диплома или опыта начал так много постить о джиу-джитсу. Но вроде нормально получилось. У меня был хороший старт, потому что не так много людей, которые тренировались в BJJ, могли бы также пользоваться Интернетом, создавать веб-сайты и иметь хорошую камеру.
Вы ходили в школу веб-дизайна?
МК: Я немного этим занимался в старшей школе и сразу после того, как поступил на обучение к веб-разработчику. Я делаю веб-сайты и работаю над интернет-материалами почти половину своей жизни. Я много делаю для Inverted Gear и помогаю им с маркетингом — вместе с Маршалом Карпером он взрослый в комнате. Вместе с ним я управляю Artechoke Media.
Пост, опубликованный Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на
Что было самым трудным для изучения?
МК: Я переверну ваш вопрос. У новичков у большинства людей проблемы с запоминанием всех движений. Но в этом плане мне повезло: я всегда очень хорошо запоминал всевозможные безумные детали. Я смотрел все DVD и читал все инструкции. Я попал под проклятие синего пояса, так как постоянно собирал техники. Это была тотальная информационная перегрузка. Для меня самым трудным было избавиться от этого накопительного менталитета. В какой-то момент я понял, что в джиу-джитсу не нужен миллион приемов. Цель состоит в том, чтобы создать прочную основную игру, а не хвастаться тем, сколько классных приемов вы знаете.
Можете ли вы описать самую большую эволюцию в вашей игре?
МК: Когда я начал отходить от простого сбора техник, я стал сосредотачиваться на биомеханических концепциях, лежащих в основе движений. Когда вы понимаете, как манипулировать позвоночником, плечами и шеей противника, чтобы он не мог двигаться определенным образом, вы можете предсказать, как он может повернуться.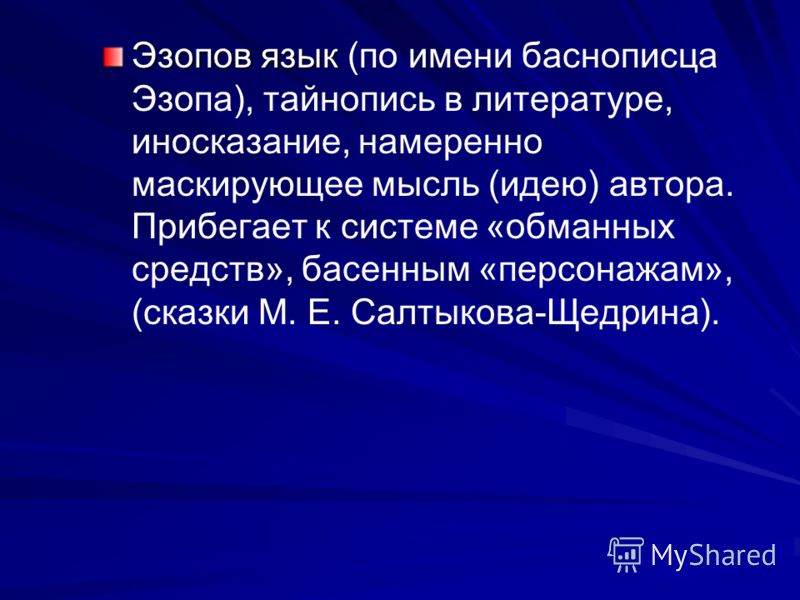 Использование этой биомеханической структуры позволяет вам контролировать противника и направлять его в ловушки, а также позволяет быстрее импровизировать. Это гораздо более эффективный метод, чем попытки запомнить конкретную технику для каждой ситуации. Это большое изменение произошло в коричневом поясе. Как ни странно, я чувствую, что знал больше в пурпурном поясе — с точки зрения объема. Но я стал лучше в коричневом поясе, избавившись от многих вещей. Теперь я делаю ровно столько, чтобы получить одну из четырех моих лучших должностей.
Использование этой биомеханической структуры позволяет вам контролировать противника и направлять его в ловушки, а также позволяет быстрее импровизировать. Это гораздо более эффективный метод, чем попытки запомнить конкретную технику для каждой ситуации. Это большое изменение произошло в коричневом поясе. Как ни странно, я чувствую, что знал больше в пурпурном поясе — с точки зрения объема. Но я стал лучше в коричневом поясе, избавившись от многих вещей. Теперь я делаю ровно столько, чтобы получить одну из четырех моих лучших должностей.
Значит, все дороги ведут к распятию?
МК: Да, мне всегда было весело. На самом деле, я выпустил инструкцию по распятию некоторое время назад. Распятие в целом считается продвинутым движением, потому что вам нужен хороший контроль ног и чувствительность, чего может не быть у новичка. Но зацепить ногой чью-то руку не так уж и сложно. Если вам уже нравится побеждать и душить людей, у вас есть почти все, что вам нужно для разработки этой игры.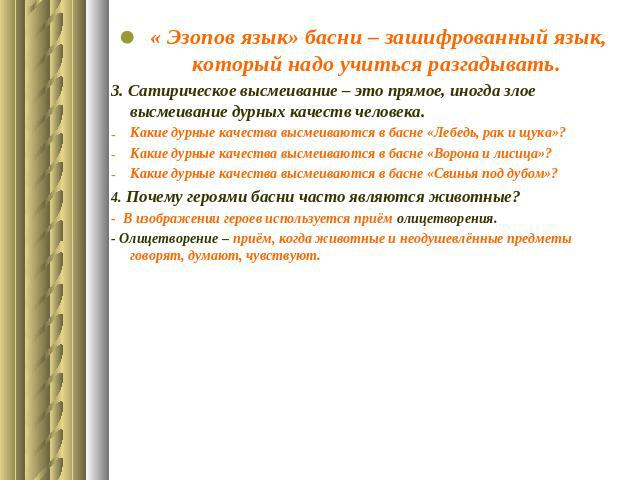 Как только вы распознаете триггерные позиции, у вас появится много возможностей. Потом он просто расширяется.
Как только вы распознаете триггерные позиции, у вас появится много возможностей. Потом он просто расширяется.
Сообщение, опубликованное Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на
Вы участвуете в соревнованиях?
MK: Я не очень склонен к соперничеству, так что это никогда не было моим делом. Я думаю, что соревновался по одному разу в каждом поясе до фиолетового, а потом мне стало все равно. Каждый раз, когда я усердно тренировался перед турниром, я также болел или травмировался, что было отстойно. Когда я разговариваю с фанатичными соперниками, у всех у них сломаны тела, и это не та цена, которую я готов заплатить.
Кому вы пытаетесь подражать в искусстве?
МК: Мне нравятся преподаватели, которые хорошо понимают, но не объясняют слишком много. Есть парень по имени Джефф Роквелл, который тоже всегда в сети. Он выпустил отличный инструктаж по побегу из положения сидя. Джефф всегда публикует действительно умные вещи, и за эти годы я украл многие его приемы. Что касается методики преподавания, мне очень нравится Брюс Хойер. У него классная система обучения под названием «перевернутый класс». Когда вы приходите на занятия, он на самом деле ничему не учит. Он спланировал и заснял все свои уроки, поэтому перед занятием вы смотрите свой урок онлайн, а затем ступаете на коврик, готовый к практике. Все ремни работают вместе на своих собственных ходах. Это максимально систематизированный, основанный на технологиях и очень индивидуальный метод обучения.
Он выпустил отличный инструктаж по побегу из положения сидя. Джефф всегда публикует действительно умные вещи, и за эти годы я украл многие его приемы. Что касается методики преподавания, мне очень нравится Брюс Хойер. У него классная система обучения под названием «перевернутый класс». Когда вы приходите на занятия, он на самом деле ничему не учит. Он спланировал и заснял все свои уроки, поэтому перед занятием вы смотрите свой урок онлайн, а затем ступаете на коврик, готовый к практике. Все ремни работают вместе на своих собственных ходах. Это максимально систематизированный, основанный на технологиях и очень индивидуальный метод обучения.
Сообщение, опубликованное Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на
Какова ваша база?
MK: Страх много лет назад мы с женой переехали в Пенсильванию. Никакого джиу-джитсу здесь не было, разве что пара залов ММА с инструкторами с фиолетовыми поясами.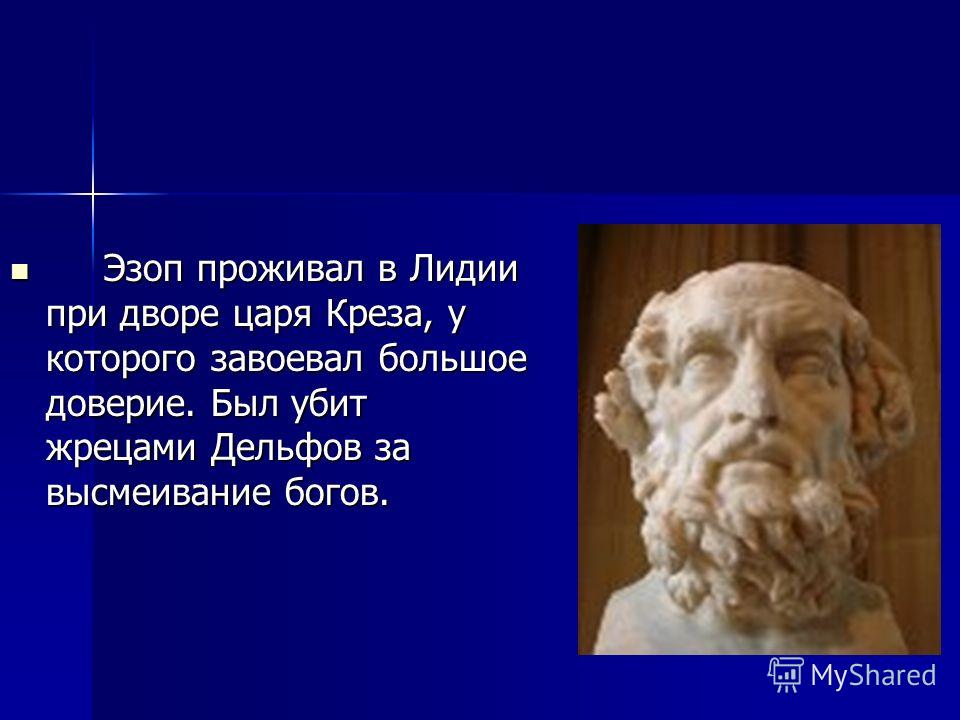 Мне пришлось бы либо открывать свою собственную школу — чего мне не хотелось делать — либо тренироваться с другими людьми, и я был бы самым опытным парнем в комнате — что нормально, но не идеально. Случайно Джереми Хендерсон, коричневый пояс из RMNU Робсона Моуры, только что переехал в тот же район, чтобы открыть школу: Zombie BJJ. Я начал тренироваться с ним на той неделе, когда открылась его школа. Теперь у него черный пояс под руководством Робсона. Итак, мы тренировались вместе четыре года, и по мере того, как школа росла, я стал заниматься преподаванием. Я также помогаю с учебной программой и некоторыми вещами в школе.
Мне пришлось бы либо открывать свою собственную школу — чего мне не хотелось делать — либо тренироваться с другими людьми, и я был бы самым опытным парнем в комнате — что нормально, но не идеально. Случайно Джереми Хендерсон, коричневый пояс из RMNU Робсона Моуры, только что переехал в тот же район, чтобы открыть школу: Zombie BJJ. Я начал тренироваться с ним на той неделе, когда открылась его школа. Теперь у него черный пояс под руководством Робсона. Итак, мы тренировались вместе четыре года, и по мере того, как школа росла, я стал заниматься преподаванием. Я также помогаю с учебной программой и некоторыми вещами в школе.
Как обучение BJJ изменило ваш взгляд на искусство?
МК: Это заставляет задуматься о гораздо большем, чем просто собственный способ делать вещи. Я не буду называть имен, но однажды во Флориде я встретил человека с черным поясом, которого попросили показать элементарный побег от бокового контроля. Он стал пустым. Единственное, что он мог показать, это его собственная версия, основанная на сверхпричудливых атрибутах. Это клише, но как учитель вы должны сосредоточиться на основах. Движения, которые работают на большинстве людей большую часть времени, независимо от возраста и физических данных. Это помогло мне расширить мое понимание искусства. Это иронично. Вернувшись во Флориду, я был «новичком», и Эдуардо следил за тем, чтобы мы делали наши основы. Сейчас в Zombie BJJ у меня роль инструктора старой школы. Я заставляю их выполнять технические стойки, серию ударов и все такое. Показывать соревновательную игру новой школы — это дело Джереми.
Это клише, но как учитель вы должны сосредоточиться на основах. Движения, которые работают на большинстве людей большую часть времени, независимо от возраста и физических данных. Это помогло мне расширить мое понимание искусства. Это иронично. Вернувшись во Флориду, я был «новичком», и Эдуардо следил за тем, чтобы мы делали наши основы. Сейчас в Zombie BJJ у меня роль инструктора старой школы. Я заставляю их выполнять технические стойки, серию ударов и все такое. Показывать соревновательную игру новой школы — это дело Джереми.
В цикличности есть красота.
МК: Определенно. Забавно, как все вращается. Что люди делают в наши дни, чтобы противостоять гвардии Де Ла Рива и Беримболо, так это пасовать очень низко или падать на оба колена. Итак, каково решение, чтобы пройти на коленях? Защита баттерфляем, наколенник, все эти приемы вышли из моды. Я нахожу большое удовлетворение в том, чтобы придерживаться чистого джиу-джитсу 1996 года.
Пост, опубликованный Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на
Как джиу-джитсу повлияло на вашу жизнь?
МК: Я стараюсь не слишком напрягаться из-за чего-то, но, наверное, это мой общий характер. Джиу-джитсу в основном научило меня настойчивости. Всегда будут проблемы. Но если вы будете придерживаться этого, вы либо найдете способ справиться с этим, либо проблема решится сама собой. Не обязательно быть супергением. Единственное, что требуется, — это приверженность и готовность задавать вопросы.
Что вы делаете вне мата, чтобы оставаться в здравом уме?
МК: Вернувшись во Флориду, я много катался на байдарках, велосипедах и каяках. В последние несколько лет я серьезно увлекся функциональной тренировкой диапазона, системой подвижности суставов доктора Андрео Спина. Мой друг Джош Фогель из Balance Studios познакомил меня с работой Spina, и я также многое узнал о FRC от Сэма Фаульхабера, еще одного обладателя черного пояса из Филадельфии. FRC направлен на заживление и укрепление соединительных тканей, а также на улучшение вашей способности контролировать свои суставы. И это здорово, чтобы ускорить и направить ваше выздоровление. Он не основан на астрологии или мистических вещах, но опирается на современную науку. В конечном счете, джиу-джитсу просто очень вредно для вашего тела — если это все, что вы делаете. У многих спортсменов, занимающихся боевыми видами спорта, очень плохая осанка, и мы постоянно нагружаем свое тело странными способами. Это очень неестественно. Если бы вы были пещерным человеком, участвующим в таком количестве боев в неделю, ваша родословная, вероятно, не развилась бы… Так что да, я очень глубоко погрузился в FRC, получил сертификат, и теперь я собираюсь пройти следующий уровень сертификации.
FRC направлен на заживление и укрепление соединительных тканей, а также на улучшение вашей способности контролировать свои суставы. И это здорово, чтобы ускорить и направить ваше выздоровление. Он не основан на астрологии или мистических вещах, но опирается на современную науку. В конечном счете, джиу-джитсу просто очень вредно для вашего тела — если это все, что вы делаете. У многих спортсменов, занимающихся боевыми видами спорта, очень плохая осанка, и мы постоянно нагружаем свое тело странными способами. Это очень неестественно. Если бы вы были пещерным человеком, участвующим в таком количестве боев в неделю, ваша родословная, вероятно, не развилась бы… Так что да, я очень глубоко погрузился в FRC, получил сертификат, и теперь я собираюсь пройти следующий уровень сертификации.
Сообщение, опубликованное Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на
Что привлекло вас к искусству?
MK: Обычно я очень глубоко погружаюсь в интересующую тему примерно на три месяца, а потом перескакиваю к следующему.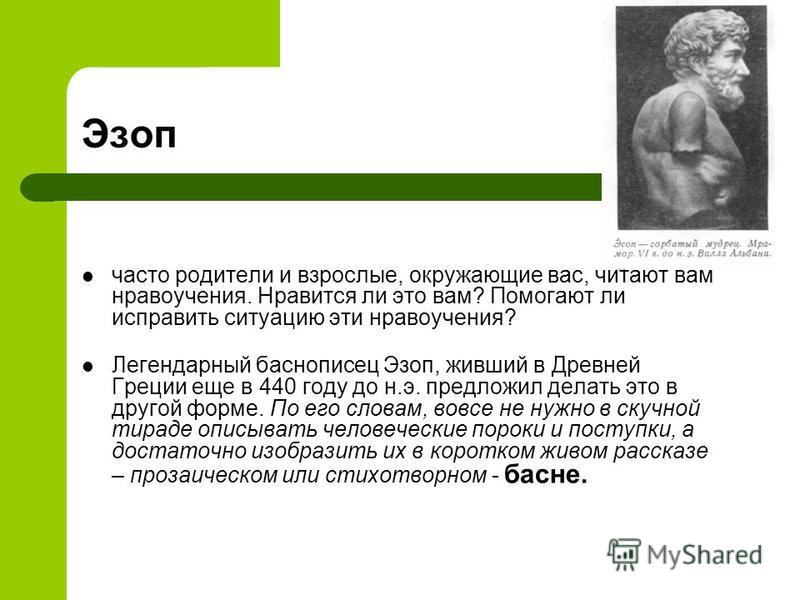 Но в джиу-джитсу этого не произошло. Искусство позволяет мне снова и снова следовать этому шаблону сверхсфокусированного, а затем рассеянного, по любой подтеме в искусстве. С джиу-джитсу я могу постоянно подпитывать свой СДВГ, так что, думаю, мне никогда не понадобится другое хобби.
Но в джиу-джитсу этого не произошло. Искусство позволяет мне снова и снова следовать этому шаблону сверхсфокусированного, а затем рассеянного, по любой подтеме в искусстве. С джиу-джитсу я могу постоянно подпитывать свой СДВГ, так что, думаю, мне никогда не понадобится другое хобби.
Мэтт Киртли преподает в Zombie BJJ в Аллентауне, Пенсильвания, ведет блог на aesopian.com и является одним из руководителей artechokemedia.com. Подпишитесь на него в Instagram: @aesopianbjj
Даниэль Бертина — журналист и писатель из Нидерландов. Он имеет черный пояс 1-й степени под руководством Маркоса Флекса из Carlson Gracie Amsterdam. Подпишитесь на него в Твиттере и Инстаграме: @joyofirony
Басни о власти: эзоповские сочинения и политическая история Аннабель Паттерсон, Мягкая обложка
Басни о власти
Эзоповы сочинения и политическая история
Аннабель Паттерсон
Duke University Press Copyright © 1991 Duke University Press
Все права защищены.
ISBN: 978-0-8223-1118-8
ГЛАВА 1
Жизнь Эзопа: Отцовство басни
Случилось так, что волк напился наверху, и Ранке пил наверху. И когда волк увидел и увидел ягненка, он сказал с hyghe voys Ха, мошенник, почему ты беспокоил и ловил мою воду, Которую я держу сейчас, дрынке. Псевдоним мой Господь sauf вашей милости [сказал ягненок] Потому что вода идет от вас ко мне. Тогда сказал волк агнцу Не стыдно мне проклясть. И ламбе сказал: «Мой господин, своим левом». И Вульф сказал, что эйджейне Хит не шесть месяцев, что твой фейдер дыд мне как моче. И lambe ansuerd Но я не в то время родился. И вульф сказал агене гимну Ты съел мой фейдер. И ламбе сказал, что у меня нет зубов. Тогдан сказал, что волк, которого ты хорошо любишь, твой фейдер, а для его синне и мисдеде ты должен быть. Wulf thenne toke the lambe and ete hym. Эта басня показывает, что злого человека не тошнит, каким бы способом он ни ограбил и не уничтожил доброго и невинного человека.
—William Caxton: Fables of Esope
Обсуждая влияние Михаила Бахтина на современные теории художественной литературы, Поль де Ман процитировал изречение Гегеля о древней басне: «Im Sklaven fangt die Prosa an»; примерно переводится как «Проза берет свое начало в рабской культуре». Тем самым Гегель придал по крайней мере статус афоризма античной жизни Эзопа, отца басни и традиционно горбатого раба шестого века до нашей эры. Цитата Де Мана, однако, не лишена исторической иронии; ибо замечание Гегеля о причинно-следственной связи между загадкой формы и рабством как институтом, которое Де Ман счел ценным связать с чревовещательными стратегиями уклонения от цензуры, используемыми в нашем веке Бахтиным, первоначально в «Эстетике» было просто пренебрежительным; и максима о том, что проза началась с рабства, далеко не предвосхитила рождение романа (как предполагал Де Ман), на самом деле служила уравнению между прозаическим и художественным примитивом.
Гегель утверждал, что фабулистский способ изображения — произвольное и явное сравнение между предполагаемым означаемым и некоторым природным явлением — отдален от бессознательного, непреднамеренного союза между символом и трансцендентальным означаемым, которого он требовал для истинного искусства.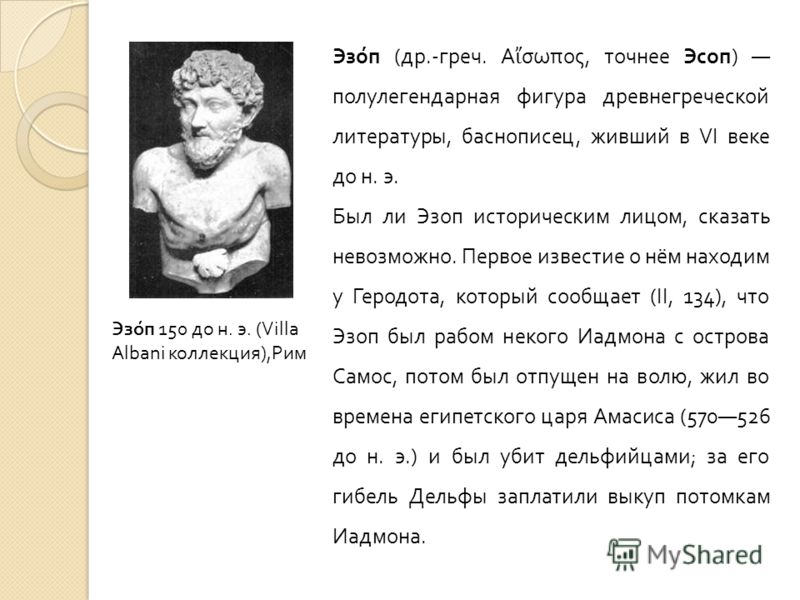 Для Гегеля баснописец имеет дело с простым остроумием, а не с глубиной проницательности, и он ограничивается рассмотрением таких мелочей, как повадки животных, «потому что он не осмеливается открыто излагать свое учение и может сделать его понятным только в виде загадки, которая в то же время всегда решается». И даже легендарное место жительства Эзопа, Фригию, Гегель определял как «ту самую землю… которая знаменует собой переход от непосредственно символического и рабского бытия к Природе, к земле, в которой человек начинает овладевать духовным и [дух] в себе».
Для Гегеля баснописец имеет дело с простым остроумием, а не с глубиной проницательности, и он ограничивается рассмотрением таких мелочей, как повадки животных, «потому что он не осмеливается открыто излагать свое учение и может сделать его понятным только в виде загадки, которая в то же время всегда решается». И даже легендарное место жительства Эзопа, Фригию, Гегель определял как «ту самую землю… которая знаменует собой переход от непосредственно символического и рабского бытия к Природе, к земле, в которой человек начинает овладевать духовным и [дух] в себе».
Я начинаю с этого мезальянса между Гегелем и Де Маном, чтобы инициировать теоретическое переосмысление эзоповской традиции и ее места в современной культуре. Если, как кажется очевидным, культурная ценность басни как жанра в любой исторический момент зависит от господствующей эстетики и от того, насколько гостеприимной она может быть для социально-политических аспектов литературы, конец двадцатого века, несомненно, является временем, когда мы могли бы извлечь пользу из баснописческого мышления, прошлого и настоящего. Гениальная перспектива Де Мана, окрашенная тогда новым энтузиазмом в отношении Бахтина, была только в начале культурного сдвига, который снова сделал респектабельными «политические» концепции литературы; в то время как иронические отношения между советскими гласность и мусульманская цензура — это лишь самые яркие признаки новой международной озабоченности властью литературы, которая никогда не становится более очевидной, чем тогда, когда ей угрожает наибольшая опасность.
Гениальная перспектива Де Мана, окрашенная тогда новым энтузиазмом в отношении Бахтина, была только в начале культурного сдвига, который снова сделал респектабельными «политические» концепции литературы; в то время как иронические отношения между советскими гласность и мусульманская цензура — это лишь самые яркие признаки новой международной озабоченности властью литературы, которая никогда не становится более очевидной, чем тогда, когда ей угрожает наибольшая опасность.
С этой истиной басня имеет необычное, если не уникальное отношение, тематизированное в нескольких баснях, но наиболее явно в Волке и Агнце, , которое в английском прозаическом переводе Кэкстона конца пятнадцатого века стоит так: эпиграф главы. Будучи первопечатником Англии и очень влиятельным переводчиком, Кэкстон выбирал тексты для передачи на родном языке, несомненно, определялся потребностями и особыми обстоятельствами его преимущественно аристократической аудитории. В данном случае его перевод несет в себе сильный привкус генеалогической определенности («ты очень похож на своего фейдера, а для его synne & mysdede thow shalt deye»), что, безусловно, соответствовало культуре, пытавшейся понять семейные распри времен Войн Розы.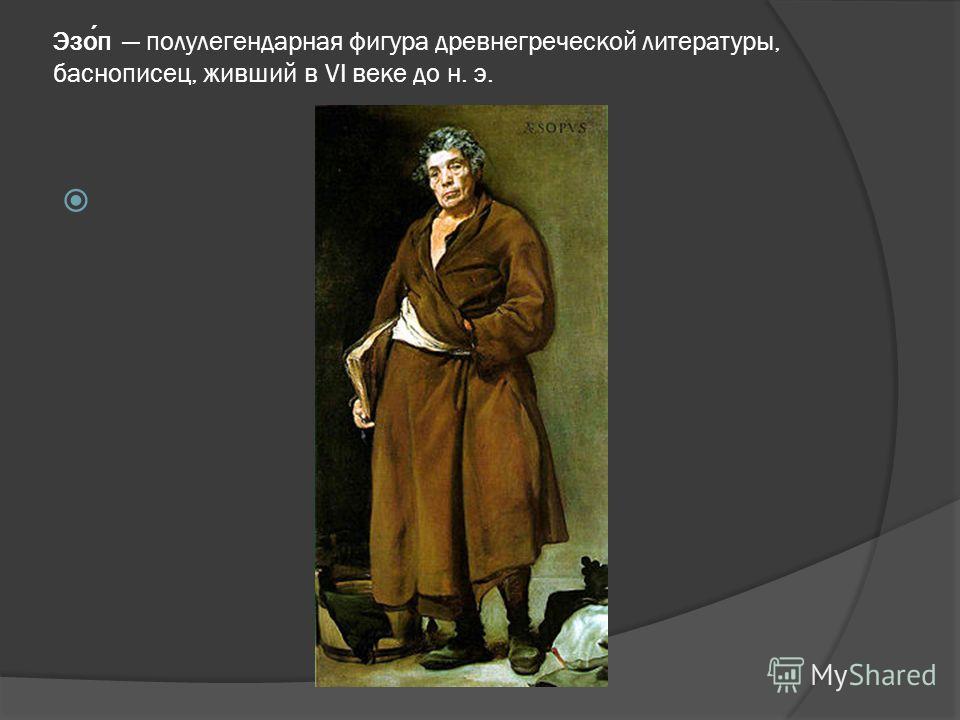 Но что эта басня также говорит нам, возможно, более ясно сегодня, чем для читателей Кэкстона, так это то, что провозглашенная «мораль» неравных властных отношений ощущается с особой остротой, когда сам язык оказывается беспомощным перед этим неравенством, когда право побеждает. спор, но может победить.
Но что эта басня также говорит нам, возможно, более ясно сегодня, чем для читателей Кэкстона, так это то, что провозглашенная «мораль» неравных властных отношений ощущается с особой остротой, когда сам язык оказывается беспомощным перед этим неравенством, когда право побеждает. спор, но может победить.
Хотя это трагическое сообщение, очевидно, может быть опровергнуто другими баснописцами, например, когда Шантеклер, героический петух Чосера в «Рассказе монахини-священника», буквально выговаривает себя изо рта лисы, более мрачное послание эзоповского канона также тематизирован в образе Отца. Я имею в виду традицию происхождения басни в культуре рабов, то есть легендарную жизнь Эзопа, которая обычно предшествовала сборникам басен в позднем средневековье и в эпоху Возрождения. Ко времени Гегеля эта легенда уже превратилась в апокриф, поскольку известно, что она произошла от египетского текста I века нашей эры, прошла через византийскую версию XI века и была распространена в двух текстовых традициях, первая из которых представлена Греческая жизнь приписывается Максимусу Планудесу, второму латинскому переводу Ринуччо да Кастильоне. Современная наука о текстах считает, что оба направления этой традиции вобрали в себя дефекты и ложь более поздних периодов. Тем не менее Гегелю (и Де Ману) было удобно предположить, что миф все еще жив; и я восстанавливаю его сейчас как один из тех редких мифов о происхождении, чья собственная структура подразумевает последовательную философию литературы, большую, чем она сама. Для Жизнь Эзопа предлагает нам, если мы вдумчиво читаем ее повествовательные эпизоды, набор положений, объясняющих, что эзоповская басня может делать лучше всего, хотя она не контролирует исключительно эти функции:
Современная наука о текстах считает, что оба направления этой традиции вобрали в себя дефекты и ложь более поздних периодов. Тем не менее Гегелю (и Де Ману) было удобно предположить, что миф все еще жив; и я восстанавливаю его сейчас как один из тех редких мифов о происхождении, чья собственная структура подразумевает последовательную философию литературы, большую, чем она сама. Для Жизнь Эзопа предлагает нам, если мы вдумчиво читаем ее повествовательные эпизоды, набор положений, объясняющих, что эзоповская басня может делать лучше всего, хотя она не контролирует исключительно эти функции:
1. литература в ее самой основной форме , всегда говорил о неравных властных отношениях;
2. те, у кого нет власти в этих отношениях, если они хотят прокомментировать их, должны закодировать свой комментарий;
3. написание разрешено авторством, тексты нуждаются в названии, чтобы цепляться за них, если они должны получить культурный резонанс;
4. остроумие (литературная изобретательность) может освободить;
5. основные вопросы требуют основных метафор; когда, как в басне, роль метафоры состоит в том, чтобы быть посредником между человеческим сознанием и человеческим выживанием, разум узнает каменное дно, непреодолимую материю, присоединяясь к животным, одним из которых является человеческое тело.
основные вопросы требуют основных метафор; когда, как в басне, роль метафоры состоит в том, чтобы быть посредником между человеческим сознанием и человеческим выживанием, разум узнает каменное дно, непреодолимую материю, присоединяясь к животным, одним из которых является человеческое тело.
Древняя жизнь Эзопа сама по себе была сложной басней, «мораль» которой заключала в себе все эти идеи о себе и жанре, к которому она традиционно служила введением. На первый взгляд может показаться, что это всего лишь сборник старых анекдотов, многие из которых скатологичны, соединенные в рудиментарное повествование, которое постепенно приобретает неожиданную серьезность и плохо кончается. Он имеет три непропорциональные стадии. В первом, рожденном не только физически уродливым, но и с дефектом речи, Эзопу чудесным образом дарована красноречивая мудрость в обмен на гостеприимство; на самой длинной второй фазе его продают в рабство известному философу Ксанфу Самосскому, которого он развлекает своими остроумными уловками, решениями проблем и общим превосходством. Ближе к концу этой фазы Эзоп устает от своей роли раболепного шутника и начинает лоббировать свою свободу, которую он достигает, ставя Ксанфа в неловкое положение, касающееся их соответствующих способностей интерпретировать предзнаменования. На третьем этапе, совершив освобождение, Эзоп быстро приобретает международную репутацию советника королей и городов-государств, что в конечном итоге становится его гибелью; ибо жители Дельф, стремясь обеспечить себе репутацию хранителей оракула и справедливо опасаясь конкуренции со стороны этого нового политического прорицателя, составляют против него заговор, обвиняют его в святотатственном воровстве и бросают его со скалы в Дельфах в океан. .
Ближе к концу этой фазы Эзоп устает от своей роли раболепного шутника и начинает лоббировать свою свободу, которую он достигает, ставя Ксанфа в неловкое положение, касающееся их соответствующих способностей интерпретировать предзнаменования. На третьем этапе, совершив освобождение, Эзоп быстро приобретает международную репутацию советника королей и городов-государств, что в конечном итоге становится его гибелью; ибо жители Дельф, стремясь обеспечить себе репутацию хранителей оракула и справедливо опасаясь конкуренции со стороны этого нового политического прорицателя, составляют против него заговор, обвиняют его в святотатственном воровстве и бросают его со скалы в Дельфах в океан. .
Судя по стандартам вероятности, не говоря уже об исторической достоверности, эта история несостоятельна. Можно понять, но не одобрить, рационалистическое раздражение сэра Роджера Л’Эстрейнджа, лицензиата прессы и полемиста-роялиста, готовившего свой собственный сборник басен в конце семнадцатого века. Стипендия Л’Эстранжа сообщила ему, что «умножение бесполезных догадок на традицию столь великой неопределенности было бы потерянным трудом … Ибо эта история дошла до нас такой темной и сомнительной». И после перечисления ряда хронологических противоречий и невозможностей от Life, он заключил:
Стипендия Л’Эстранжа сообщила ему, что «умножение бесполезных догадок на традицию столь великой неопределенности было бы потерянным трудом … Ибо эта история дошла до нас такой темной и сомнительной». И после перечисления ряда хронологических противоречий и невозможностей от Life, он заключил:
По совести этого достаточно, чтобы извинить любого человека за то, что он не придает чрезмерного значения историческому кредиту отношения, которое приходит так слепо и так по-разному передается нам … это не одна йота к нашему бизнесу … был ли человек прямым или кривым; и его имя Эзоп, или (как некоторые назовут) Лохман: Во всех случаях читателю предоставляется свобода верить в свое удовольствие.
И есть также здравый смысл и объяснительная сила в демифологизирующих выводах Джозефа Джейкобса, редактора девятнадцатого века журнала Кэкстона.0250 Эзоп, и один из величайших деконструкторов «Aesopus auctor». Якобс спрашивал себя, почему, несмотря на характерную для всех народных сказок анонимность, греческая басня о звере с самого начала была связана с конкретной личностью и именем, и отвечал на свой вопрос так:
[Эзопа] была эпоха Тираны, и я предполагаю, что его связь с Басней о Звере первоначально состояла в ее применении к политическим спорам при деспотическом правлении, и что его судьба [как записано Геродотом] была связана с влиянием одного из Тиранов на дельфийских властей. …. Басня наиболее эффективна как литературное или ораторское оружие при деспотических правительствах, не допускающих свободы слова. Тиран не может обратить внимание на басню, не надев подходящую кепку.
…. Басня наиболее эффективна как литературное или ораторское оружие при деспотических правительствах, не допускающих свободы слова. Тиран не может обратить внимание на басню, не надев подходящую кепку.
«Большая часть наших древних свидетельств, — продолжал Джейкобс, — указывает на это», и он процитировал басню Иоафама против Авимелеха, « израильских тиранов, » и аналогичные басни Феогниса и Солона. А поскольку Эзоп не мог ввести в Грецию басню о звере, поскольку она существовала до него, то единственный способ, которым «мы можем объяснить последующее отождествление с ней его имени, — это предположить какое-то особенное и поразительное использование fabellae aniles , знакомого евреям. все греческие дети. Учитывая возраст, в котором он жил, и смерть, которую он умер … Имя Эзопа было связано с басней, потому что он использовал ее как политическое оружие «.
Итак, заключает Джейкобс языком, который сам по себе взывает к силе идеи, которую он отрицает, «Эзоп не был отцом басни, а был лишь изобретателем (или наиболее заметным применителем) ее нового применения». Он воображал, что это новое использование (еще одна версия гегелевского изречения о рабской культуре) исчезло с развитием «откровенных демократий», но сам Эзоп выжил как «удобное и общепринятое подставное лицо, вокруг которого можно было собрать особую форму греческой шутки».
Он воображал, что это новое использование (еще одна версия гегелевского изречения о рабской культуре) исчезло с развитием «откровенных демократий», но сам Эзоп выжил как «удобное и общепринятое подставное лицо, вокруг которого можно было собрать особую форму греческой шутки».
Но такая рациональность имеет свои ограничения. То, что Л’Эстранж назвал «ни одной йотой в нашем деле», а Джейкобс считал более или менее случайной условностью — использование имени Эзопа в качестве магнита, к которому будут притягиваться все последующие басни, — имеет более чем антикварный интерес. . Даже с точки зрения Джейкобса мысль о том, что греческому рабу может быть предоставлено право, вымышленно, посмертно, на корпус сочинения, сравнимого по масштабу с произведениями других классических авторов, неординарен. Этот корпус полностью или частично был отредактирован Альдусом Манутиусом, прокомментирован, среди прочего, Валлой, Политианом и Эразмом, переведен на французский язык Мари де Франс, на немецкий язык Генрихом Штайнхёвелем и на английский язык Кэкстоном.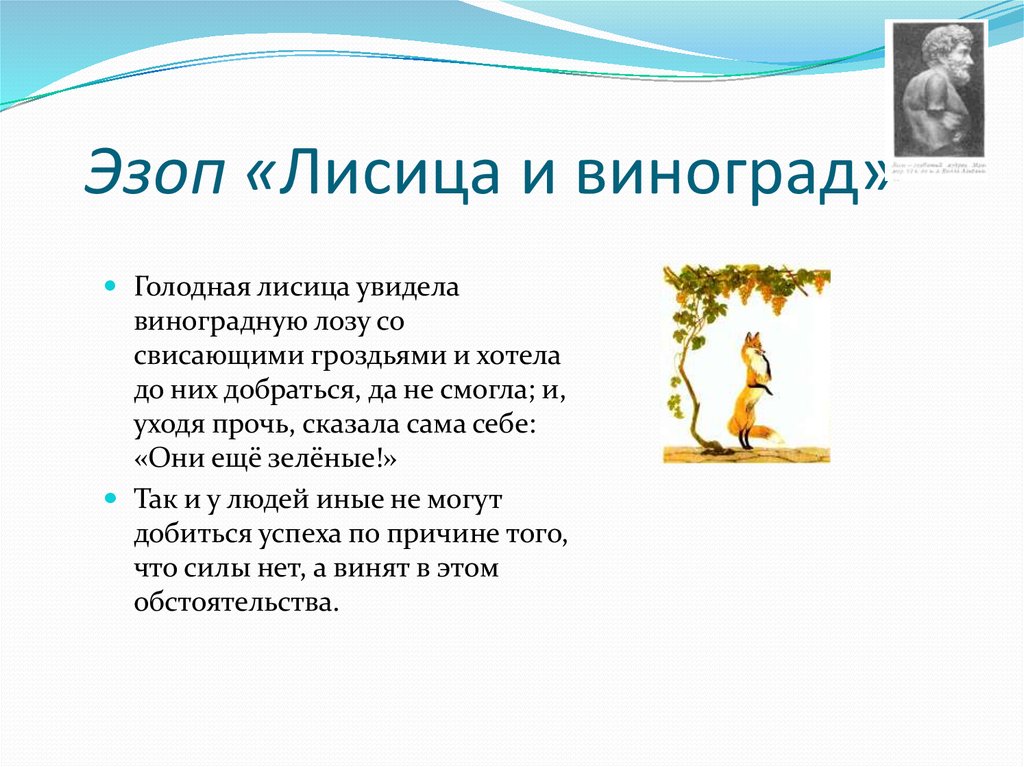 Штайнхёвель выпустил самое большое и роскошное издание, основанное на коллекции Ромула, дополненной Авианусом и Ринуччо, и предложил двуязычный текст, подкрепленный очень влиятельными гравюрами на дереве. Впервые опубликованная в Ульме в 1476–1477 гг., а затем сразу же в Аугсбурге, она была быстро переведена на французский язык, и именно эта версия, опубликованная в Лионе в 1480 г., использовалась Кэкстоном в качестве основы для его собственного перевода, наряду с копиями, сделанными от руки. иллюстрации, которые, таким образом, стали частью эзоповской традиции в Англии.
Штайнхёвель выпустил самое большое и роскошное издание, основанное на коллекции Ромула, дополненной Авианусом и Ринуччо, и предложил двуязычный текст, подкрепленный очень влиятельными гравюрами на дереве. Впервые опубликованная в Ульме в 1476–1477 гг., а затем сразу же в Аугсбурге, она была быстро переведена на французский язык, и именно эта версия, опубликованная в Лионе в 1480 г., использовалась Кэкстоном в качестве основы для его собственного перевода, наряду с копиями, сделанными от руки. иллюстрации, которые, таким образом, стали частью эзоповской традиции в Англии.
К концу семнадцатого века «Эзоп» как Отец басни стал институтом. Во Франции появление в 1668 году басен Лафонтена с его собственной версией жизни , очевидно, придало легенде новое культурное значение. Это перемещение Эзопа при дворе (ибо Лафонтен посвятил свои 90 250 басен 90 251 шестилетнему сыну Людовика XIV) привело к созданию эзоповского лабиринта в садах Версаля со статуей Эзопа (в паре с Аполлоном XIV).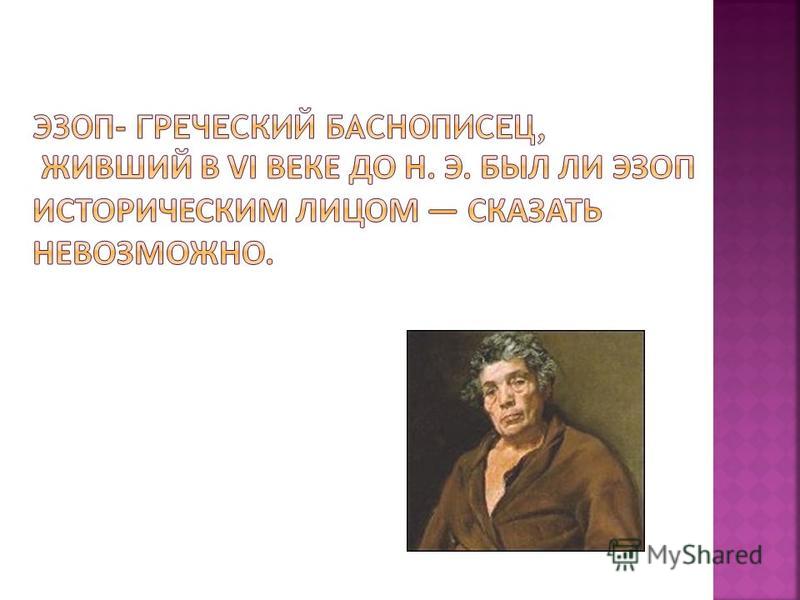 ) на входе ( рис. 1 ), убедительный пример овеществления или буквального создания культурной иконы.
) на входе ( рис. 1 ), убедительный пример овеществления или буквального создания культурной иконы.
В Restoration England были конкурирующие иллюстрированные издания, причем Life переведены на основные европейские языки; а в 1687 году Фрэнсис Барлоу, выдающийся художник-анималист, сотрудничал с Афрой Бен в необычайно богатом многоязычном издании, предваряемом новой серией гравюр, иллюстрирующих жизнь 90 250, 90 251 и изображающих «морали» из каждого эпизода, которые, таким образом, стали формально эквивалентны иллюстрированные басни, которые следуют. Тридцать один дизайн Барлоу для 9Более того, 0250 Life были точно скопированы Огюстеном Леграном для издания конца восемнадцатого века « Recueil des bables d’Esop et autres Mythologistes » Лафонтена (Париж, 1799 г.). Моя точка зрения, таким образом, заключается в том, что сила воображения вымышленной жизни Эзопа долго пережила утрату доверия в качестве законной истории или биографии; и если она вышла из обращения в течение последних двух столетий, уже один этот факт мог бы побудить нас взглянуть на нее еще раз, зная, как мы теперь знаем, как часто эстетика девятнадцатого и начала двадцатого веков скрывала социальную повестку дня.
Действительно, кажется, что даже в древности существовали конкурирующие интерпретации социального характера и функций Эзопа. На Симпозиуме семи мудрецов (12) Плутарха Эзоп — один из гостей; и, не считая того факта, что Плутарх описывает его как советника Креза, царя Лидии, правившего лишь после предполагаемой смерти Эзопа в 564 г. до н. заметно с другими древними ссылками, что вполне можно заподозрить некое ревизионное намерение. В отличие от мудреца, подразумеваемого Федон, , чьи истины Сократ, сам заключенный, мог бы правомерно перефразировать для собственного духовного совершенствования, Эзоп Плутарха — ворчливый элитарист, изолированный от группы по своей злой воле, тогда как политическая мудрость и эгалитаризм являются атрибутами вместо Солона . В одном случае, например, Эзоп жалуется, что их беседа должна быть более конфиденциальной, «чтобы нас не сочли антимонархическими». И Солон укоризненно отвечает: «Разве ты не видишь, что цель наших друзей состоит в том, чтобы склонить царя к умеренности и стать приятным тираном или не править, а править плохо?» В то время как этот Эзоп — циник, Солон — также идеалист в диалектике души и тела, которая, подобно Сократу в Федон, , он определяет в терминах экономики господ-рабов: «Как рабы, которые добились свободы, но редко выполняют тяжелую работу для себя, они до сих пор были вынуждены делать это для выгоды своего господина, так и разум человека, который в настоящее время порабощен телом, когда оно однажды станет свободным, позаботится о себе и проведет свое время в созерцании истины, не отвлекаясь на физические потребности» (стр. 249). Тем не менее вся дискуссия, и особенно это платоновское банальное место, иронизируется своим контекстом — сценой обильной еды и питья. Таким образом, можно предположить, что диалоги Плутарха в той же мере, что и история Геродота, оказали влияние на более аутентичных биографов конца семнадцатого и восемнадцатого веков в их попытке заменить Планудов 9.0250 Life, и, следовательно, нейтрализовать его мощную социальную валентность.
249). Тем не менее вся дискуссия, и особенно это платоновское банальное место, иронизируется своим контекстом — сценой обильной еды и питья. Таким образом, можно предположить, что диалоги Плутарха в той же мере, что и история Геродота, оказали влияние на более аутентичных биографов конца семнадцатого и восемнадцатого веков в их попытке заменить Планудов 9.0250 Life, и, следовательно, нейтрализовать его мощную социальную валентность.
На самом деле, древняя Жизнь Эзопа блестяще разработана и необычайно восприимчива к современным стратегиям чтения. Я процитирую его из издания Барлоу 1687 года как своего рода кульминационное утверждение, которое в своих расширениях на древнюю и средневековую версии истории не только звучит отчетливо, сильным голосом ранней современной чувствительности, но также включает в себя сотни лет опыта. впитывание и размышление о значении Эзопа как культурного означающего. Первым выдвинутым на передний план вопросом (и именно он позже станет предметом интенсивных научных споров) было уродство Эзопа — смесь фактического уродства и расовой стереотипизации.





 Кестхейи, «Анатомия детектива», перевод с венгерского Елены Тумаркиной. http://www.easyschool.ru/books/literatura/kestheii-anatomiya-detektiva/hudojestvennaya-literatura
Кестхейи, «Анатомия детектива», перевод с венгерского Елены Тумаркиной. http://www.easyschool.ru/books/literatura/kestheii-anatomiya-detektiva/hudojestvennaya-literatura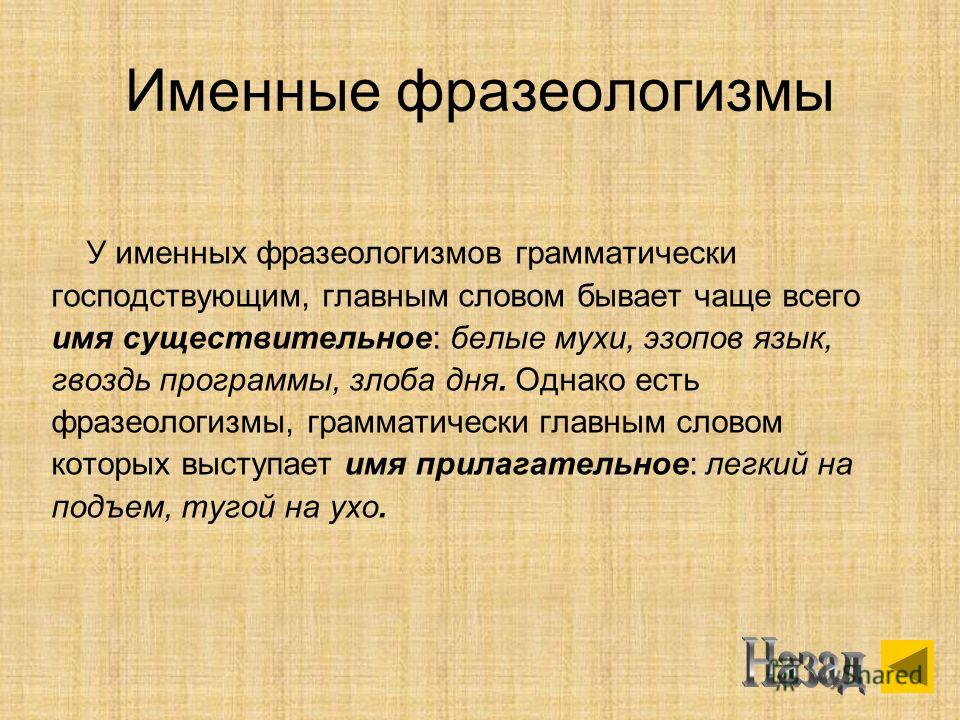 Прилагательное «нэповский» фиксируется как минимум словарями Ушакова и Ефремовой.
Прилагательное «нэповский» фиксируется как минимум словарями Ушакова и Ефремовой. Все остальное — разговорные формы.
Все остальное — разговорные формы.
 ..»
..» ..У нас нэп еще не успел приобрести такого уважения, чтобы обижаться при мысли о том, что тут могут кого-то ловить…
..У нас нэп еще не успел приобрести такого уважения, чтобы обижаться при мысли о том, что тут могут кого-то ловить…
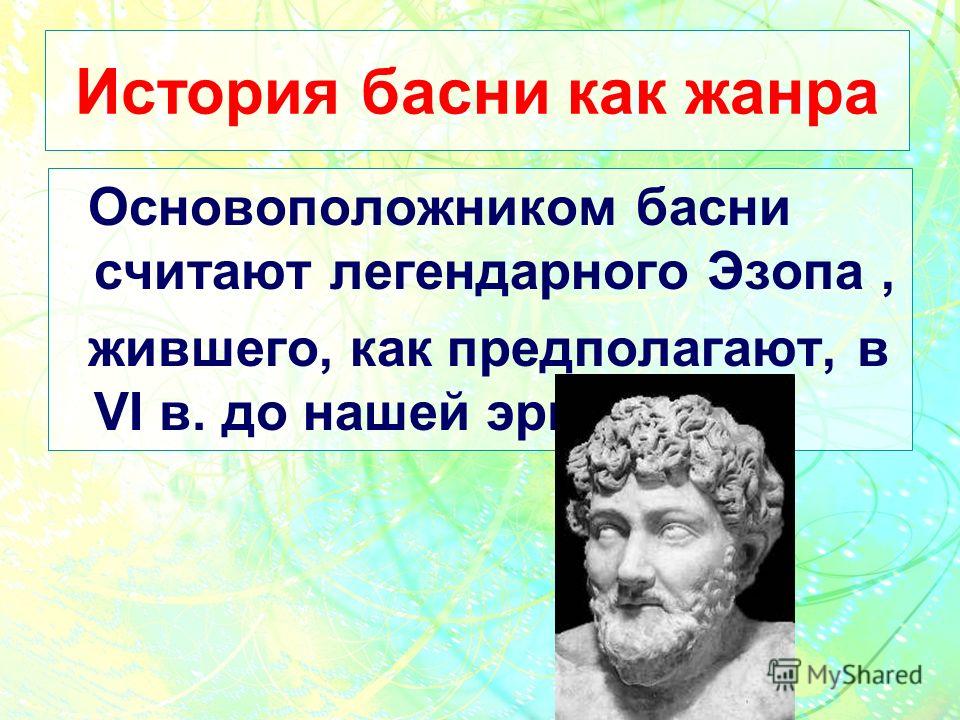
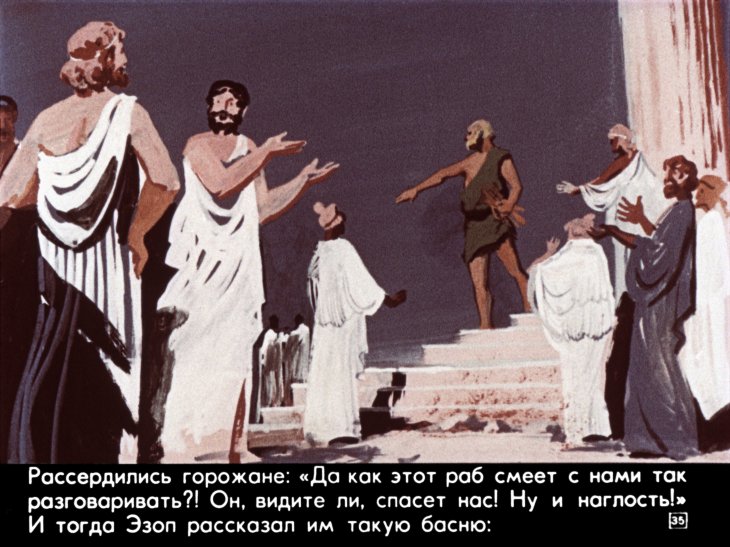 А «нэп» — это одно слово, также, как вуз или роно. Оно грамматически вовсе не обязано быть тождественно этому словосочетанию.
А «нэп» — это одно слово, также, как вуз или роно. Оно грамматически вовсе не обязано быть тождественно этому словосочетанию.