«Морализировать — дело невежд». Андрей Звягинцев о кинопробах, финале «Нелюбви» и своем отце
О себе
Я актер, режиссерского образования у меня нет. Мои университеты — это Музей кино на Краснопресненской. Начиная с 1989 года я ходил туда как на службу. Вот только служба эта была в радость. Смотрел практически всю программу, которую предлагал Наум Клейман. Однажды, в самом начале работы музея, зимой, я подошел к кассам, где одно время выставляли советский ламповый телевизор в витрине. И вот вижу: идет какой-то черно-белый фильм за стеклом этой витрины. Ясное дело, без звука. Было холодно, но я не мог оторваться. Где-то на пятнадцатой минуте я предположил, что на экране Бельмондо. Никогда прежде не видел его молодым. А уже значительно позже узнал, что это фильм Годара «На последнем дыхании». Я простоял до конца.
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
О работе
Когда не снимаю, я очень поздно ложусь и долго сплю. Просыпаюсь тоже поздно, стыдно даже сказать во сколько. А когда идут съемки, не сплю до поздней ночи — готовлюсь к следующему дню или отсматриваю материал, часа в четыре просыпаюсь, чтобы в шесть быть на площадке, потому что в шесть пятнадцать, например, взойдет солнце, и ты должен успеть поймать все лучи, которые оно тебе щедро предложит. Съемочный период — это очень интенсивная работа, это практически непрестанный бег.
Просыпаюсь тоже поздно, стыдно даже сказать во сколько. А когда идут съемки, не сплю до поздней ночи — готовлюсь к следующему дню или отсматриваю материал, часа в четыре просыпаюсь, чтобы в шесть быть на площадке, потому что в шесть пятнадцать, например, взойдет солнце, и ты должен успеть поймать все лучи, которые оно тебе щедро предложит. Съемочный период — это очень интенсивная работа, это практически непрестанный бег.
Чем кончается «Нелюбовь»
Когда мы снимали «Левиафана», у нас водителем в Териберке работал один хороший человек. Его зовут Андрей Агеев. Недавно он мне прислал СМС: «Андрей Петрович! Был вчера на премьере “Нелюбви”. Спасибо вам. Вышел из кинотеатра, первым делом набрал сыну. Было уже за полночь, и он, конечно, не ответил мне. Перезвонил утром. Разговаривали недолго, но я вслушивался в каждое его слово, пытаясь по ноткам в голосе понять — правильно ли я все делаю? Достаточно ли ему моей любви и веры в него?»
Вот это и есть настоящий финал «Нелюбви».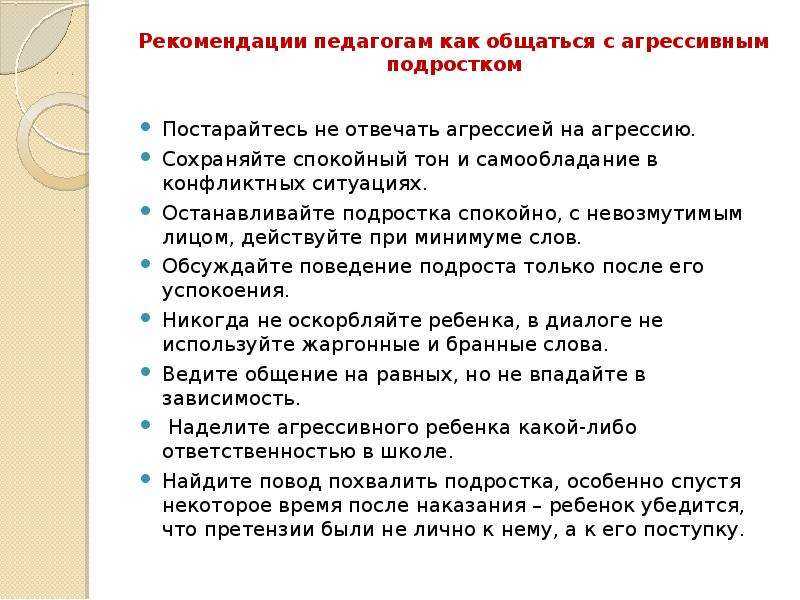 У фильма, уверен, есть и другие грани и токи, но вот эта его аффективная, что ли, эмоциональная сторона работает безошибочно, если только открыть свое сердце увиденному. Такой финал не перед титрами, а после — в нашей с вами жизни.
У фильма, уверен, есть и другие грани и токи, но вот эта его аффективная, что ли, эмоциональная сторона работает безошибочно, если только открыть свое сердце увиденному. Такой финал не перед титрами, а после — в нашей с вами жизни.
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Политика в «Нелюбви»
Начало фильма — 9 октября 2012 года. Наш герой Алеша выходит из школы. То время — излет протестного движения, когда неравнодушные люди были полны надежд на изменения в стране. Еще через два месяца был принят «закон Димы Яковлева», в народе прозванный «законом подлецов». В это же самое время набирают обороты судебные преследования по «болотному делу». В первых эпизодах картины мы слышим радиоведущего Стаса Кучера, который рассказывает об обращении питерского Заксобрания к губернатору Полтавченко с требованием прекратить истерию, раздуваемую прессой вокруг наступающего конца света.
Финал картины — 1 февраля 2015 года. Прошло немногим более двух лет. Уже позади Олимпиада в Сочи, уже вовсю идет война в Украине. Дебальцевский котел, цензура в полный рост и как ее прямое следствие — самоцензура. Еще 26 дней — и убьют Немцова. Конец света как будто не наступил, хоть и был обещан. Зато наступили другие времена. Изменения духовного и политического климата за эти два года колоссальные, страх висит в воздухе. Наступила политическая зима. Надежды на изменения самые призрачные. Апатия поселяется в умах.
Уже позади Олимпиада в Сочи, уже вовсю идет война в Украине. Дебальцевский котел, цензура в полный рост и как ее прямое следствие — самоцензура. Еще 26 дней — и убьют Немцова. Конец света как будто не наступил, хоть и был обещан. Зато наступили другие времена. Изменения духовного и политического климата за эти два года колоссальные, страх висит в воздухе. Наступила политическая зима. Надежды на изменения самые призрачные. Апатия поселяется в умах.
Эти два с половиной года и атмосфера общественной жизни в это время — то, что бросает тень на состояние наших героев. И они сами — часть той истерической и одновременно апатичной атмосферы. Но это, разумеется, не главное содержание фильма. Все вышесказанное — только грунт частной истории наших героев. Фильм все же про людей, а не про политику.
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Об актерах
Когда приходит актер и начинает работать с текстом, тот образ, который жил у тебя в голове, замещается самим существом актера. И это самое верное. Актер должен быть абсолютно правдив — это единственное, что от него требуется. Если не считать таланта, разумеется. Понять это очень просто — нужно, чтобы ты поверил в происходящее.
И это самое верное. Актер должен быть абсолютно правдив — это единственное, что от него требуется. Если не считать таланта, разумеется. Понять это очень просто — нужно, чтобы ты поверил в происходящее.
Есть актеры, которые не ходят на пробы, они говорят: «Вы что, не видели моих фильмов?» С такими артистами мы не движемся дальше. Именно потому, что я сказал выше: прошлый опыт киноработ не имеет существенного значения. Нужен непосредственный опыт работы с персонажем, которого предлагает наш сценарий. И, разумеется, пластичность, убедительность и работоспособность актера. Когда мы проводили кастинг для «Левиафана», Володя Вдовиченков пришел на пробы, выучив пять страниц текста. И не как ученик-отличник, чтобы удивить режиссера, а войдя в обстоятельства персонажа. Во всяком случае, он пришел подготовленным и ориентировался во всех своих сценах для проб. Он меня просто сразил своим отношением к делу.
За всю историю моей режиссерской деятельности единственный случай, когда образ был ясен еще на стадии написания сценария — это когда мы точно знали, что Роман Мадянов будет мэром. И все равно делали пробы — и с Романом, и с другими претендентами.
И все равно делали пробы — и с Романом, и с другими претендентами.
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Об отце
Отец ушел из семьи, когда мне было четыре или чуть больше. Так что я его очень плохо знал, почти никак. Он как тень появлялся иногда, крайне редко, я его краем глаза видел только. Боли по этому поводу у меня не было. Конечно, я только ретроспективно сейчас могу говорить об этом, оглядываясь назад. Потому что мама сумела заполнить образовавшуюся пустоту целиком и полностью.
Могу вспомнить два характерных момента.
Мне восемнадцать. День. Я сплю после ночной репетиции, а они сидят за столом с мамой. Он спрашивает: чем Андрей занимается? И мама говорит — учится в театральном. Отец бьет по столу — какое театральное, какие артисты? На кой черт это нужно? Когда она мне потом это пересказала, помню, я подумал — как хорошо, что мне не нужно отстаивать право на собственную жизнь и собственные решения.
Прошло много лет. За год до смерти отца — он умер из-за врачебной ошибки — мы встретились на Курском вокзале, в Москве.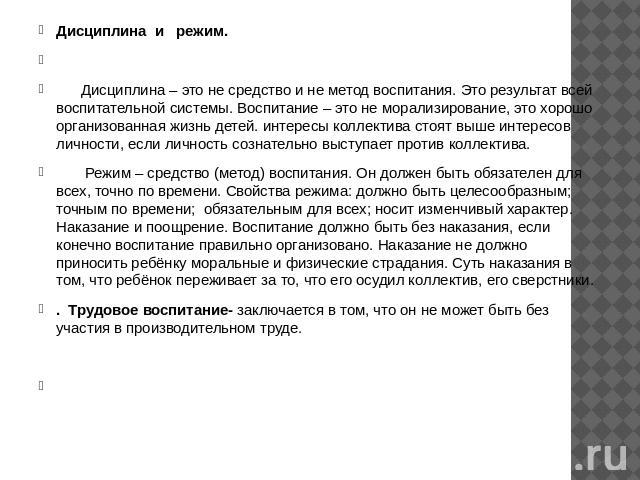 Я увидел его впервые за огромный промежуток времени. И он стал задавать мне какие-то неумные, совершенно неуместные, немудрые вопросы. Я вспомнил, в который раз — «не кровь и плоть делают нас отцами». Передо мной стоял незнакомец с сигаретой, совершенно чужой мне человек.
Я увидел его впервые за огромный промежуток времени. И он стал задавать мне какие-то неумные, совершенно неуместные, немудрые вопросы. Я вспомнил, в который раз — «не кровь и плоть делают нас отцами». Передо мной стоял незнакомец с сигаретой, совершенно чужой мне человек.
Так что мои отцы — великие столпы русской и зарубежной литературы и драматургии. И конечно, моя мама, которая своей беззаветной любовью заполнила все в моем сердце, не оставив там места для какой бы то ни было боли или смутных переживаний по этому поводу.
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
Фото: Кирилл Пономарев/Сноб
О любви к зрителю
Быть в искусстве морализатором, то есть подсказывать ответы, указывать на цели конечного пути и держать в этой связи менторский тон — нельзя. Во-первых, это выглядит отвратительно. А во-вторых, пусть этим занимаются невежды или пропагандисты. Это не моя работа и не мое призвание. Моя любовь к зрителю — это требовательная любовь. Я отношусь к своей аудитории как к равному, как к соавтору. И требую от нее ровно того же, чего и от себя. Это разговор со взрослым человеком, а не с инфантильным взрослым зрителем, которому ответы нужны явленными на экране здесь и сейчас.
И требую от нее ровно того же, чего и от себя. Это разговор со взрослым человеком, а не с инфантильным взрослым зрителем, которому ответы нужны явленными на экране здесь и сейчас.
Бог в Териберке.
(Не прошло и трех месяцев, как я собрался-таки с силами и написал то, что хотел написать сразу, но, вероятно, надо было…
Андрей Звягинцев:
Сильнейшая реакция ненависти к «Левиафану» — просто нежелание смотреть в зеркало
Ксения Соколова поговорила с режиссером о том, в чем он видит главную коллизию «Левиафана», почему фильм вызывает негативную реакцию в России и в чем заключается его обнадеживающий месседж
“Семья эволюирует…” — Журнальный зал
NB#
Анатолий Вишневский
“Семья эволюирует…”
“…Семья эволюирует, и потому
прежняя форма распадается. Отношения полов ищут новой формы, и старая форма
разлагается. Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя многое намечается.
Может быть большое количество людей, держащихся целомудрия; могут быть браки
временными и после рождения детей прекращаться, так что оба супруга после родов
детей расходятся и остаются целомудренными; могут дети быть воспитываемы
обществом. Нельзя предвидеть новые формы. Но несомненно
то, что старая разлагается…”[1].
Отношения полов ищут новой формы, и старая форма
разлагается. Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя многое намечается.
Может быть большое количество людей, держащихся целомудрия; могут быть браки
временными и после рождения детей прекращаться, так что оба супруга после родов
детей расходятся и остаются целомудренными; могут дети быть воспитываемы
обществом. Нельзя предвидеть новые формы. Но несомненно
то, что старая разлагается…”[1].
Несколько старомодная стилистика наведет опытного читателя на мысль, что эти слова сказаны не каким-нибудь современным разрушителем семьи и сказаны не сегодня. Но все же, думаю, многие удивятся, узнав, что они принадлежат Льву Николаевичу Толстому, столь определенно признавшему необратимость изменения древнейшего и почтеннейшего социального института еще в позапрошлом веке.
Отдавая должное проницательности великого писателя, едва ли
можно предположить, что причины краха старой формы семьи были понятны ему до
конца.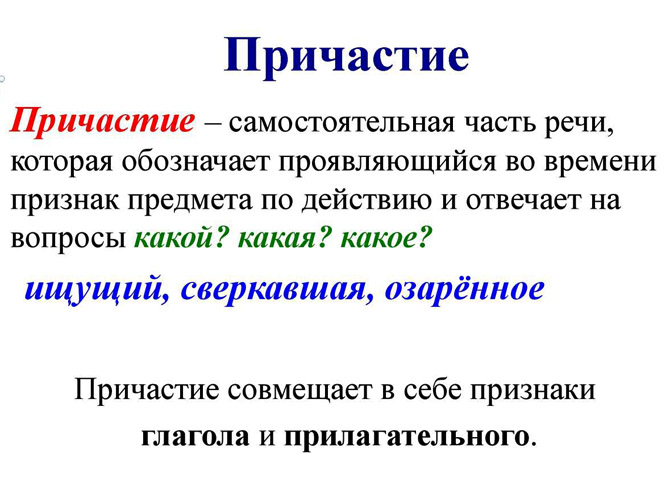
Увы, морализирование, страсти, пронизывавшие споры о семье,
лишь указывали на больное место, но отнюдь не способствовали действительному
пониманию проблемы. Видя связь новейшей эволюции семьи с общими историческими
сдвигами, даже проницательные наблюдатели не придавали большого значения
небывалым демографическим переменам — очень глубоким, но поздно замеченным.
Промышленная революция в Англии конца XVIII столетия была ясно осознана уже в середине XIX. О демографической же революции — условно ее начало можно отнести ко времени открытия Дженнером вакцинации оспы, то есть к тому же концу XVIII столетия, — стали смутно догадываться лишь в первой половине ХХ века (“Демографическая революция” — название книги Адольфа Ландри, вышедшей в 1934 году). Далеко не сразу сложился круг идей, объединенных позднее в концепции “демографического перехода”. И только в 1980-х годах бельгиец РонЛестег и голландец Диркван де Каа сформулировали концепцию “второго демографического перехода”, указав тем самым на связь современной эволюции семьи и семейных отношений непосредственно с демографическими изменениями.
Поразительное символическое совпадение: работа Дженнера увидела свет в том же 1798 году, что и первое
издание знаменитой книги Мальтуса “Опыт закона о народонаселении”. Тьмы и тьмы
критиков Мальтуса издевались над его утверждением, что “население удваивается
каждые 25 лет”, хотя ничего подобного Мальтус не говорил. Он писал: “Если
возрастание населения не задерживается какими-либо препятствиями, то это
население удваивается каждые 25 лет”. Но препятствия-то всегда были. Мальтус
указывал на два рода препятствий — разрушительные и предохранительные. В додженнеровскую эпоху правили бал разрушительные
препятствия, действие которых суммировалось в чрезвычайно высокой смертности, в
предохранительных же препятствиях (ограничении потомства) особой нужды не было.
Напротив, все культурные установления были направлены на поддержание высокой
рождаемости, которая одна только могла противостоять высокой смертности и
обеспечивать непрерывность существования человеческих популяций.
Тьмы и тьмы
критиков Мальтуса издевались над его утверждением, что “население удваивается
каждые 25 лет”, хотя ничего подобного Мальтус не говорил. Он писал: “Если
возрастание населения не задерживается какими-либо препятствиями, то это
население удваивается каждые 25 лет”. Но препятствия-то всегда были. Мальтус
указывал на два рода препятствий — разрушительные и предохранительные. В додженнеровскую эпоху правили бал разрушительные
препятствия, действие которых суммировалось в чрезвычайно высокой смертности, в
предохранительных же препятствиях (ограничении потомства) особой нужды не было.
Напротив, все культурные установления были направлены на поддержание высокой
рождаемости, которая одна только могла противостоять высокой смертности и
обеспечивать непрерывность существования человеческих популяций.
В этом и был главный смысл традиционной семьи. Она была синкретическим
институтом, выполняла одновременно много разных функций, но все они
объединялись вокруг центрального функционального ядра — производства потомства. Существуя всегда в условиях высокой смертности, семья не могла не быть нацелена
на поддержание высокой рождаемости. Выполнение этой миссии семьи обеспечивалось
многими социальными механизмами, основным же, и самым надежным среди них, была
предписывавшаяся культурой, религией, светскими законами слитность,
неразделимая сцепленность трех видов поведения:
матримониального, сексуального и прокреативного. Брак почти обязателен и пожизнен, секс без брака — греховен и
преступен, секс в браке — “супружеская обязанность”, внебрачный ребенок — позор
для женщины, рождение ребенка в браке — божья благодать, бесплодие — божье
наказание, намеренное отделение секса от зачатия или рождения (предупреждение
зачатия, плодоизгнание) — недопустимы.
Существуя всегда в условиях высокой смертности, семья не могла не быть нацелена
на поддержание высокой рождаемости. Выполнение этой миссии семьи обеспечивалось
многими социальными механизмами, основным же, и самым надежным среди них, была
предписывавшаяся культурой, религией, светскими законами слитность,
неразделимая сцепленность трех видов поведения:
матримониального, сексуального и прокреативного. Брак почти обязателен и пожизнен, секс без брака — греховен и
преступен, секс в браке — “супружеская обязанность”, внебрачный ребенок — позор
для женщины, рождение ребенка в браке — божья благодать, бесплодие — божье
наказание, намеренное отделение секса от зачатия или рождения (предупреждение
зачатия, плодоизгнание) — недопустимы.
Нарушения всех этих установлений стары как мир, но они
всегда — прискорбное исключение из правил, всегда грех, преступление, нечто
аморальное и асоциальное, неизбежно ведущее в ад, в лучшем случае — под колеса
паровоза.
Смолкли они не случайно. Именно в конце XVIII века появились
верные признаки того, что извечные “разрушительные препятствия”, ограничивавшие
рост населения, стали ослабевать, тысячелетний баланс рождений и смертей
оказался под угрозой. Нарушение этого баланса и беспокоило Мальтуса. Он мог
наблюдать только первые слабые признаки снижения смертности (в XVIII веке в
Европе они уже были) и не способен был даже и вообразить того обрушения этих
препятствий, какое произойдет в постдженнеровском
мире.
Ответ Мальтуса был прост: нужно изменить поведение семей, противопоставить ослаблению “разрушительных препятствий” усиление препятствий “предохранительных”, к которым Мальтус относил “воздержание от супружества, сопровождаемое целомудрием”. Он рекомендовал своим соотечественникам поздние браки — для их же блага: “При уверенности, что они выйдут замуж в 28 или 30 лет женщины, без сомнения, по собственному выбору, скорее пожелали бы дождаться этого возраста, чем к двадцати пяти годам уже быть обремененными многочисленной семьей”.
Громко прозвучавшие, вызвавшие шквал не утихающей до сих пор
критики предложения Мальтуса, сделавшие его знаковой фигурой своей эпохи, не
содержали между тем ничего нового. Он лишь, если уместно так сказать, подвел
теоретическую базу под сложившуюся практику. Как было показано много позднее, в
Европе к этому времени сформировался новый, “европейский” тип брачности — поздней и невсеобщей,
то есть именно такой, к какой призывал Мальтус. По
оценке исследователя этого феномена Джона Хайнала, в
XVIII веке “европейская” брачность была широко
распространена к западу от прямой линии, соединяющей Петербург и Триест.
Он лишь, если уместно так сказать, подвел
теоретическую базу под сложившуюся практику. Как было показано много позднее, в
Европе к этому времени сформировался новый, “европейский” тип брачности — поздней и невсеобщей,
то есть именно такой, к какой призывал Мальтус. По
оценке исследователя этого феномена Джона Хайнала, в
XVIII веке “европейская” брачность была широко
распространена к западу от прямой линии, соединяющей Петербург и Триест.
Но в Средние века и в Европе было не так. Хайнал цитирует Пролог Батской ткачихи из “Кентерберийских рассказов” Чосера:
Пять ведь раз
На паперти я верной быть клялась,
В двенадцать лет уж обвенчалась я,
Поумирали все мои мужья.
Хайнал исследовал доступные
статистические и нестатистические свидетельства по истории брака в Европе и
пришел к выводу, что “в Средние века обручение детей и брак в раннем
подростковом возрасте были, очевидно, распространены во всех слоях населения…
Эти обычаи практически исчезли к XVIII веку”[3].
Выходит, что европейская семья “эволюирует” очень давно, видимо, гибко адаптируясь к меняющимся условиям. Среди этих условий далеко не последним, с точки зрения существования семьи, было пусть и наметившееся только в XVIII веке снижение смертности — своеобразная “преадаптация” к ее постдженнеровской революции.
Здесь самое время остановиться и оглядеться. Мальтус,
которого, в традиции марксистской критики мальтузианства, не называли иначе,
как “поп Мальтус”, и в самом деле был священник англиканской церкви, что
ставило предел его радикализму. Агитируя за поздние браки, он призывал к
добрачному целомудрию, к moralrestraint
— нравственному обузданию, что, при желании, можно истолковать как ханжеское
морализирование. Но это позволяло ему с чистым сердцем пропагандировать существовавшую и до него “европейскую” брачность,
потому что, с одной стороны, она создавала необходимые “предохранительные”
препятствия чрезмерно быстрому размножению, а с другой, — не посягала на святая
святых: традиционное триединство матримониального, сексуального и прокреативного поведения людей.
Однако, как это часто бывает, практические рекомендации Мальтуса оказались намного менее долговечными, чем его теоретическое провидение. Европейская брачность могла быть эффективным “предохранительным препятствием” лишь до тех пор, пока “разрушительные препятствия”, несколько ослабев, все же еще сохраняли свою грозную силу, и смертность оставалась достаточно высокой. XIX век смешал карты, а ХХ вообще сделал всю игру бессмысленной.
Даже вступая в первый брак в 25-30 лет, европейская женщина
успевала родить, в среднем, четверых-пятерых детей (приблизительно поровну
мальчиков и девочек). В XVIII веке лишь примерно половина родившихся девочек
доживала до среднего возраста матери, а это означало, что на смену тысяче
женщин материнского поколения приходило столько же или чуть больше женщин из
поколения дочерей, поэтому население если и росло, то очень медленно. Но в XIX
веке доля выживающих детей стала быстро увеличиваться, в результате чего
европейская брачность перестала справляться со своей
ролью “предохранительного препятствия”. Европейские общества быстро ощутили
перемены, и начался стихийный поиск новых способов поддержания ускользавшего
демографического равновесия.
Европейские общества быстро ощутили
перемены, и начался стихийный поиск новых способов поддержания ускользавшего
демографического равновесия.
По мере того как увеличивалось число выживающих детей, становилось
все более ясно, что сохранение демографического равновесия невозможно без еще
большего сокращения рождаемости, которого уже не могла дать поздняя
“европейская” брачность. Его можно было обеспечить,
только снизив рождаемость в браке, для чего нужно было разрубить казавшуюся
неразделимой связь между сексуальным и прокреативным
поведением. Технически это можно сделать с помощью предотвращения либо
прерывания беременности как естественного следствия полового акта. Как
известно, оба эти пути получили широкое распространение, причем на первое место
определенно выходит становящееся все более доступным и эффективным
предотвращение беременности, вытесняющее нежелательный по многим соображениям
искусственный аборт.
Для нас, однако, важна сейчас не техническая сторона
разделения секса и производства потомства, а сам факт этого разделения и его
культурная легитимация. Небывалое снижение смертности не просто создало
возможность автономного, то есть отделенного от прокреации,
сексуального поведения — оно сделало его необходимым, перевело его из разряда
возможного в разряд должного. О том, что происходит, если при снижении
смертности прежняясцепленность
сексуального и прокреативного поведения сохраняется,
говорит демографический взрыв в развивающихся странах. В Англии XIX века
пропаганда отделения секса от зачатия или рождения детей воспринималась как
экстравагантная и мало приличная затея небольшой кучки гонимых
“неомальтузианцев”. Сегодня в Китае, Индии или Иране, во
многих десятках других развивающихся стран как можно более скорое внедрение
этой “затеи” оказывается настолько важным, что становится одной из главных
забот правительств, каковые и добиваются его с разной степенью решительности и
успешности, иногда сильно рискуя своей популярностью, а иногда получая общественную
поддержку, включая и поддержку религиозных авторитетов.
Но если снижение смертности безоговорочно требует разрушения неразделимой триады матримониального, полового и прокреативного поведения, то тем самым оно неизбежно убивает традиционную семью и традиционный брак.
В самом деле, если секс не привязан жестко к рождению детей, то почему он должен быть привязан к браку? Почему брак должен быть привязан к производству потомства, а не может рассматриваться как самостоятельная ценность? Стоит потянуть за эту веревочку, и сразу всплывает вопрос: что плохого в однополых браках? Почему браки не могут быть временными — и не обязательно с сохранением целомудрия после их распадения, что специально оговаривал Толстой?
Список этих вопросов может быть продолжен. Их задает не
автор статьи — упаси Бог! — их задают сотни миллионов, а может быть, и
миллиарды людей, пусть и смутно, но осознающих новизну ситуации.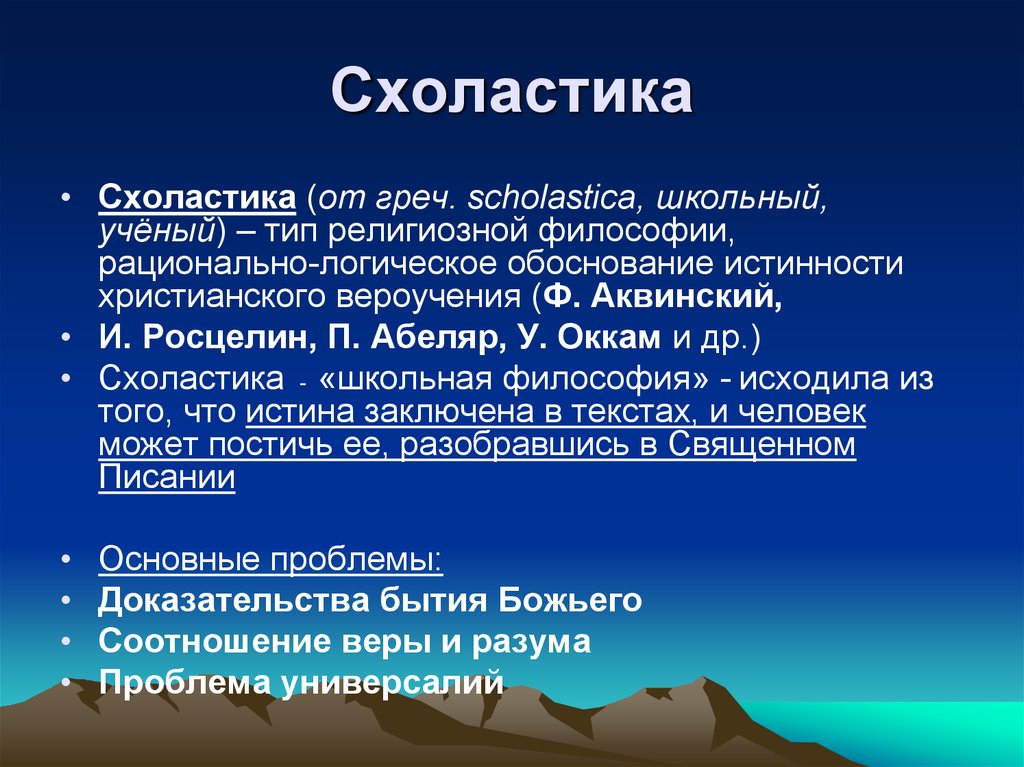 Миллионы и
миллиарды людей в разных странах вступают в полосу поиска, который длится уже
на протяжении жизни нескольких поколений и приводит к постепенному преодолению
инерции прошлого, отказу от сложившихся установлений. Мало-помалу
вырабатываются новые институциональные формы и новая культурная регламентация
индивидуальной, частной, личной жизни людей, трассирования их индивидуального
жизненного пути.
Миллионы и
миллиарды людей в разных странах вступают в полосу поиска, который длится уже
на протяжении жизни нескольких поколений и приводит к постепенному преодолению
инерции прошлого, отказу от сложившихся установлений. Мало-помалу
вырабатываются новые институциональные формы и новая культурная регламентация
индивидуальной, частной, личной жизни людей, трассирования их индивидуального
жизненного пути.
Понятно, что они двигаются ощупью, поиск ведется единственным возможным в таких случаях путем — методом проб и ошибок, идет отбор наиболее конкурентоспособных, эффективных форм и норм, причем, в силу их исторической новизны, как правило, сразу нельзя сказать, имеют ли они окончательный или промежуточный, преходящий характер. Очень непросто взвесить плюсы и минусы происходящих перемен.
Обособление сексуального поведения от прокреативного
повышает самоценность сексуального поведения и его
гедонистической составляющей. Союз мужчины и женщины становится более интимным,
в одних случаях более глубоким, в других — более поверхностным, но всегда не
слишком требующим внешнего, официального оформления брачных уз.
Союз мужчины и женщины становится более интимным,
в одних случаях более глубоким, в других — более поверхностным, но всегда не
слишком требующим внешнего, официального оформления брачных уз.
Новое значение приобретает избирательность в поиске долговременного партнера в супружестве, но понижаются требования к кратковременным сексуальным партнерам, связь с которыми вовсе не обязательно превращается в прочный брак. Такие связи воспринимаются и самими партнерами, и социальным окружением как подготовка к браку, как эпизоды на пути проб и ошибок, что было совершенно несвойственно для традиционного брака. Он не признавал права на ошибку, заключался в молодом возрасте раз и навсегда, а часто — не по воле и даже против воли будущих супругов.
В то время как традиционная семья предоставляла человеку
единственный, более или менее однотипный даже в разных культурах вариант
организации его частной жизни, в современных условиях перед ним открывается
огромное разнообразие равноправных и признаваемых или, во всяком случае,
обсуждаемых обществом вариантов. Некоторая часть людей проживает жизнь в
одиночестве, большинство все же имеет партнеров, обзаводится детьми. Всякое ли
партнерство или родительство дает основание говорить
о семье? Это вопрос, скорее, терминологический, возможно, вопрос
самоопределения, субъективного ощущения себя членом семьи либо временным
постояльцем.
Некоторая часть людей проживает жизнь в
одиночестве, большинство все же имеет партнеров, обзаводится детьми. Всякое ли
партнерство или родительство дает основание говорить
о семье? Это вопрос, скорее, терминологический, возможно, вопрос
самоопределения, субъективного ощущения себя членом семьи либо временным
постояльцем.
Попытаемся бегло перечислить разные жизненные варианты, которые позитивно или негативно ассоциируются в нашем сознании с понятием “семья” в его традиционном значении.
Вследствие исчезновения слитности матримониального,
сексуального и прокреативного поведения возраст
полового дебюта все чаще перестает совпадать с возрастом вступления в брак,
момент начала фактического брака, даже если брак впоследствии и регистрируется,
отделяется от момента регистрации, время зачатия или рождения детей становится
мало связанным со временем начала фактических брачных отношений.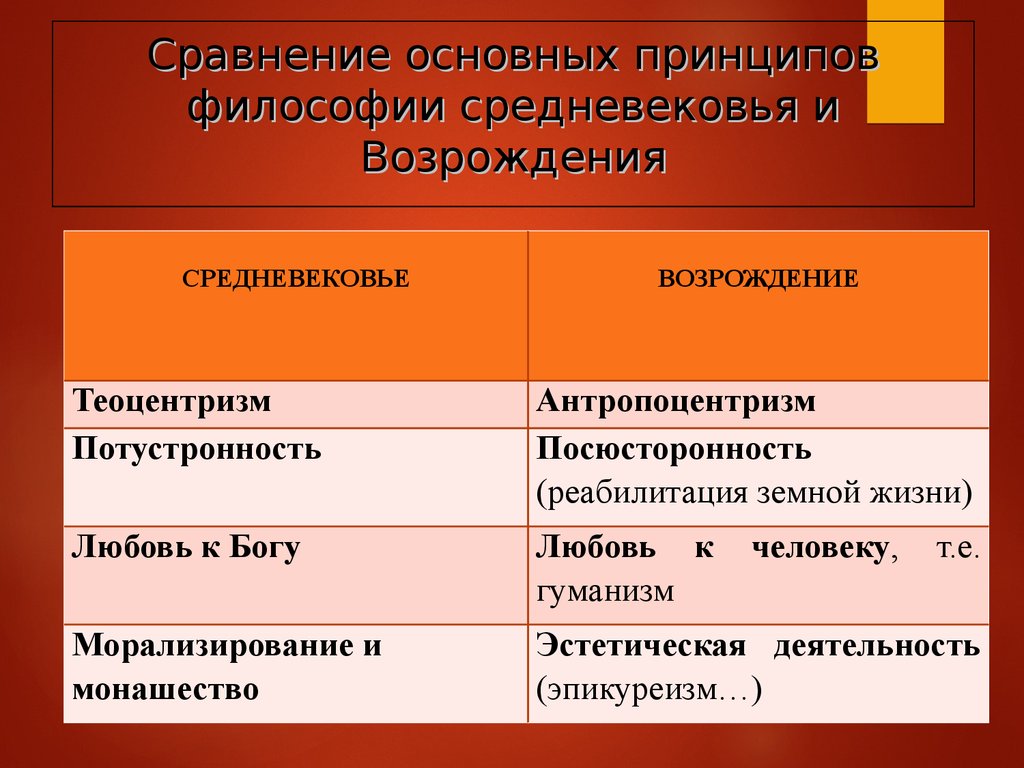
Соответственно, наряду с привычным единственным типом брака, начинающегося с регистрации и продолжающегося до конца жизни одного из супругов, существуют нерегистрируемые браки, браки, начавшиеся без регистрации, а затем зарегистрированные, повторные браки как после формального развода, если брак был зарегистрирован, или овдовения, так и после прекращения предыдущего официально неоформленного сожительства, причем повторные браки еще чаще, чем первые, могут оставаться незарегистрированными, не переставая от этого быть браками. Естественной частью этого безграничного континуума становятся и однополые браки или сожительства.
Есть браки сознательно бездетные, малодетные
и многодетные. Если добавить к этому, что дети рождаются как в браке, так и вне
брака, брачные партнеры, зарегистрированные или нет, нередко имеют детей от
разных браков, а так как развод не стигматизируется, то дети поддерживают
отношения с обоими родителями и нередко ощущают себя членами двух новых семей,
образовавшихся после развода родителей, — получается очень сложная мозаичная
картина.
Прокреативное поведение не только отделилось от сексуального и матримониального, но и само усложнилось и дифференцировалось, придав новые измерения понятию родительства. Оно не было однозначным и прежде. Социальное родительство — усыновление, удочерение — существовало, наряду с биологическим, всегда, было социально одобряемым, но оно никак не затрагивало прокреативного поведения. Напротив, биологическое родительство, отделенное от социального (“незаконнорожденность”) — что тоже, конечно, не новость, — как правило, социально осуждалось, было чем-то маргинальным. Но теперь появление и развитие новых репродуктивных технологий — экстракорпорального оплодотворения, в том числе с использованием донорского генетического материала, суррогатного материнства, — породило массу новых вариантов прокреации и связанных с ними вариантов родительства.
Семья, как видим, “эволюирует”
очень основательно. Куда приведет этот дрейф? Боюсь, нам это еще менее ясно,
чем Толстому более ста лет назад. Поиск продолжается. Хотя он ведется коллективно,
он ставит вопросы и перед каждым отдельным человеком, которому постоянно
приходится делать моральный выбор, балансировать между старыми и новыми
ценностями, нередко принимать болезненные решения.
Куда приведет этот дрейф? Боюсь, нам это еще менее ясно,
чем Толстому более ста лет назад. Поиск продолжается. Хотя он ведется коллективно,
он ставит вопросы и перед каждым отдельным человеком, которому постоянно
приходится делать моральный выбор, балансировать между старыми и новыми
ценностями, нередко принимать болезненные решения.
И все же, мне кажется, пик драматизма и даже трагизма личных
ситуаций, несколько столетий питавших искусство всех жанров, уже пройден.
Страсти, сопровождающие личную, интимную жизнь человека, еще бушуют, но для
сегодняшнего общества это какой-то бытовой, рядовой уровень, какой едва ли
способен вдохновить на новую “Госпожу Бовари” или
“Анну Каренину”, даже на новую “Монахиню”. Тем не менее литература, театр,
кинематограф, живопись, в той мере, в какой они остаются искусством и не
смешиваются с общелягушечьимгламуром,
сохраняют роль разведчика, “вперед смотрящего”, обнаруживающего и обнажающего
все новые и новые драматические коллизии нашего индивидуального бытия. Оставим
им право на разведку, на заблуждения и на боль, они помогают осмыслить новую
реальность каждому из нас. И, пожалуй, единственное, чего, мне кажется, не
следует делать, так это метать громы и молнии по поводу каждого нового поворота
массового поиска рода человеческого, оказавшегося в исторически небывалых
обстоятельствах. Здесь, как и везде, особенно опасен тот, кто “знает, как
надо”.
Оставим
им право на разведку, на заблуждения и на боль, они помогают осмыслить новую
реальность каждому из нас. И, пожалуй, единственное, чего, мне кажется, не
следует делать, так это метать громы и молнии по поводу каждого нового поворота
массового поиска рода человеческого, оказавшегося в исторически небывалых
обстоятельствах. Здесь, как и везде, особенно опасен тот, кто “знает, как
надо”.
Определение
в кембриджском словаре английского языка
Сознавая, что произведения бесформенны и нравоучительны, он не искупает их, а может быть, и не может.
Из Вашингтон Пост
Зависимость была морализована, медикизирована, политизирована и криминализирована.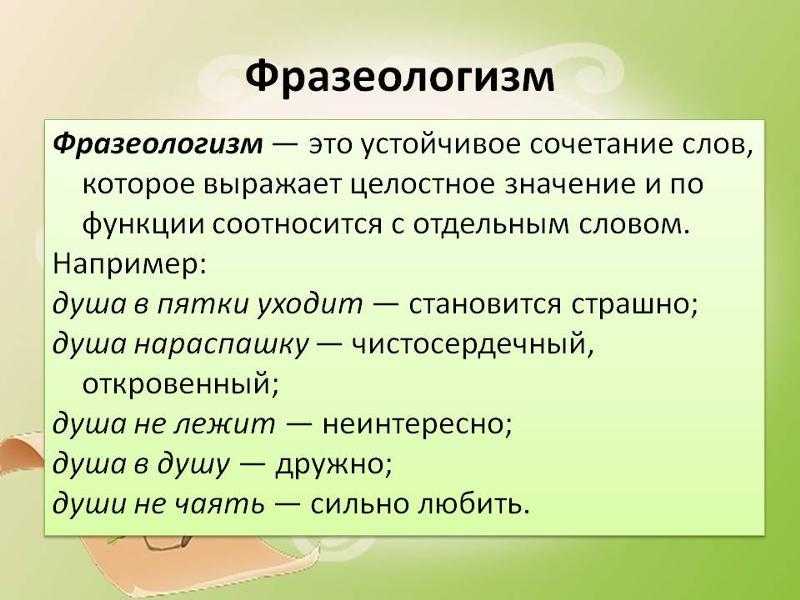
Из NPR
Мы тоже охвачены той же тенденцией морализировать .
От Хаффингтон Пост
Если некоторые люди добровольно решают потратить большие суммы денег, чтобы купить $ex у других взрослых, мы не должны морализировать по этому поводу.
От CNN
Не для того, чтобы морализировать или разжечь дискуссию об игровом насилии — просто чтобы показать, что любовь всегда побеждает.
Из NBCNews.com
Морализаторство в политике может быть неизбежным, но оно редко бывает полезным.
От Хаффингтон Пост
Женщины, писала она, боролись с таким же морализаторством, пытаясь получить страховое покрытие для противозачаточных таблеток.
С Грани
Не обращайте внимания на морализирующий барабанный бой шоу, особенно в более поздние годы.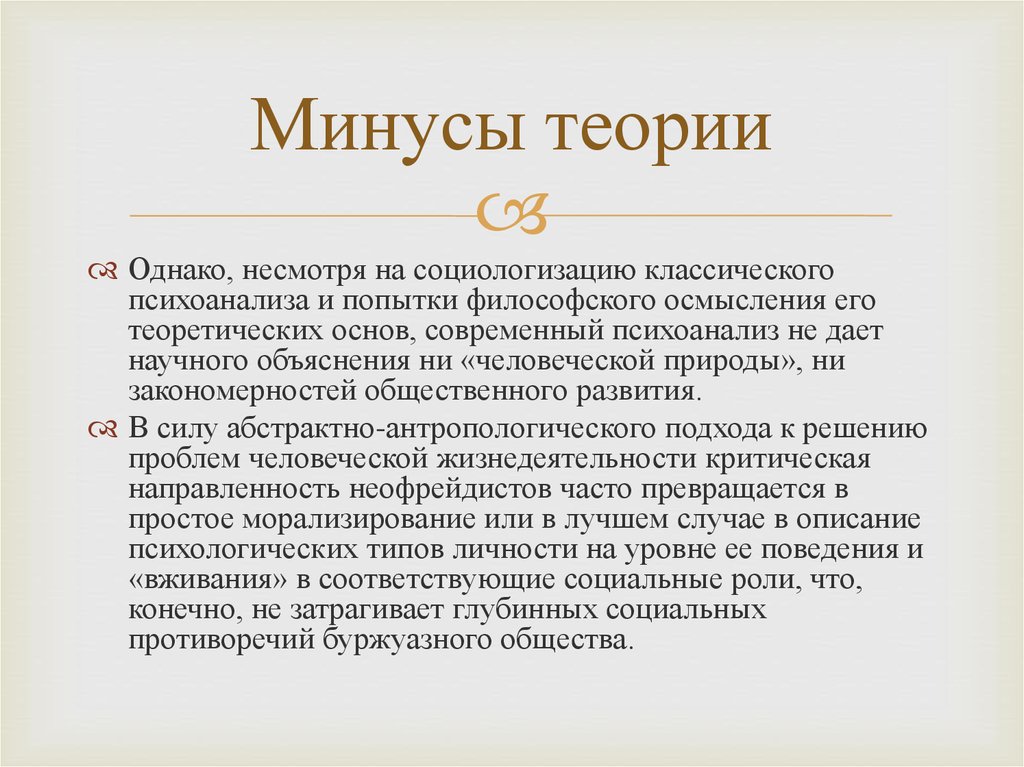
Из Атлантики
Успешная левая политика должна избегать морализаторства.
От Huffington Post
В частности, когда речь идет о предполагаемых повышениях производительности, вы уже знаете, что ожидаете много медленных морализирующих новостей и некоторого убийства репутации, когда результаты станут известны.
Из ESPN
Лидерами этих групп являются женщины, чей преклонный возраст и богатое семейное положение дают им время и средства для морализаторской деятельности.
Из Кембриджского корпуса английского языка
Граждане, которые часто морализировать политики, скорее всего, будут рассматривать членов вне партии как аморальных соперников, которые поддерживают то, что неправильно, и выступают против того, что правильно.
Из Кембриджского корпуса английского языка
Наконец, морализированные установки вызывают особенно сильные отрицательные эмоции и суждения, такие как гнев, отвращение и вина.
Из Кембриджского корпуса английского языка
В то время как сила приверженности значительно влияет на партийную предвзятость, дистанцию и враждебность, склонность морализировать также значительно влияет на эти результаты.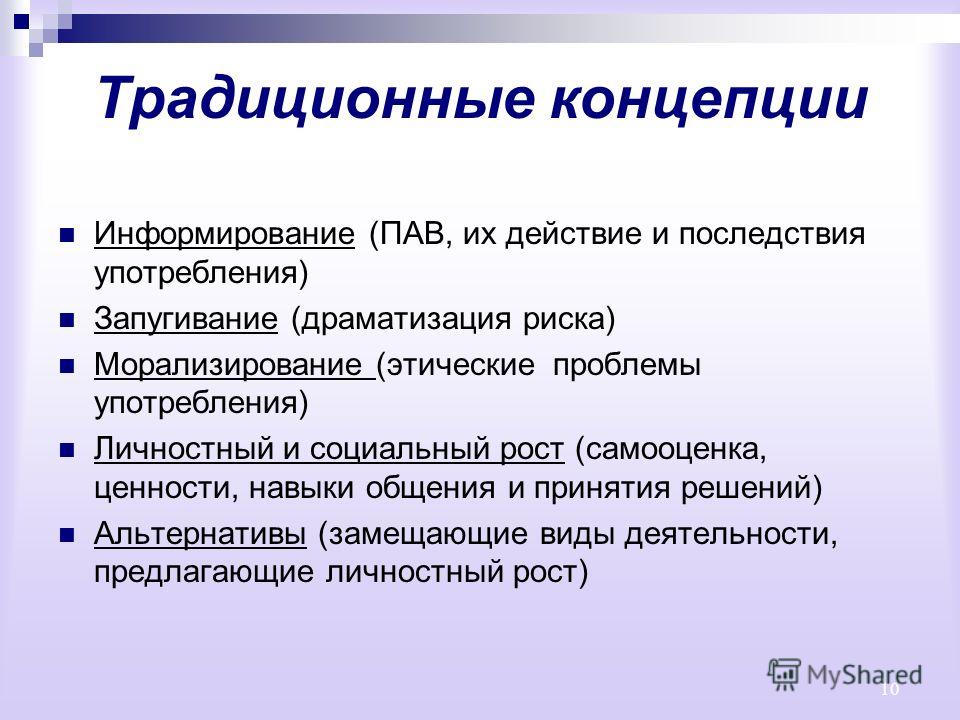
Из Кембриджского корпуса английского языка
Исследования показывают существенные различия в склонности людей морализировать различных политических вопросов, причин и кандидатов.
Из Кембриджского корпуса английского языка
Эти примеры взяты из корпусов и источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.
определение морализаторства в The Free Dictionary
Также найдено в: Тезаурус, Медицина, Идиомы, Энциклопедия, Википедия.
аморализация
(мôр’ə-лиз’, мŏр’-)v. аморализация , аморализация es
v. вн.
Думать или выражать моральные суждения или размышления.
т. тр.
1. Интерпретировать или объяснить моральный смысл.
2. Для улучшения нравов; реформа.
мораль·и·зация (-ə-lĭ-zā′shən) сущ.
морал·изьер н.
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016, издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
нравоучения
илинравоучения
adj
serving as a moral lesson
n
the act or an instance of moralizing
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
TheSaUrusantonymssReleted WordsSynonyms Легенда:
Переключение на новый тезаурус
| ПИРЛА | 1.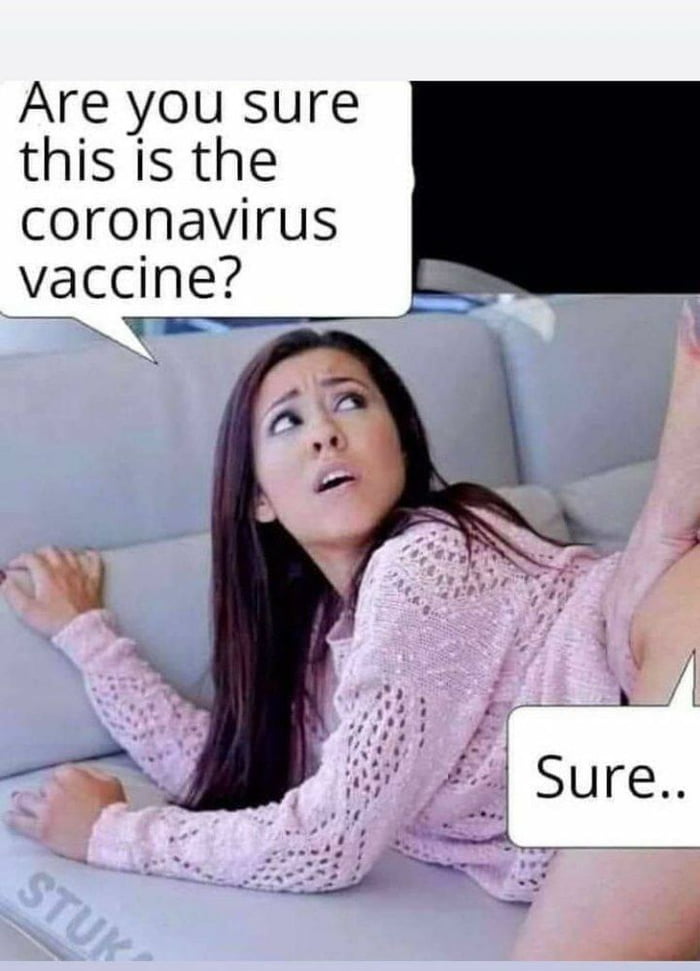 | 1,9 | 1,9 | 0101 | морализаторство — потворство моральным высказываниям; изложение (часто поверхностное) определенного морального кодекса; «его постоянное морализаторство сводило меня с ума» морализаторство, морализаторство философствование — изложение (часто поверхностное) той или иной философии проповедь — морализаторство, изложенное утомительно в проповеднической манере |
. © 2003-2012 Принстонский университет, Farlex Inc.
морализаторство
прилагательноеТезаурус Роже Американское наследие®. Авторские права © 2013, 2014, издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
Переводы
Испанский словарь Коллинза — полное и полное издание, 8-е издание 2005 г. © William Collins Sons & Co.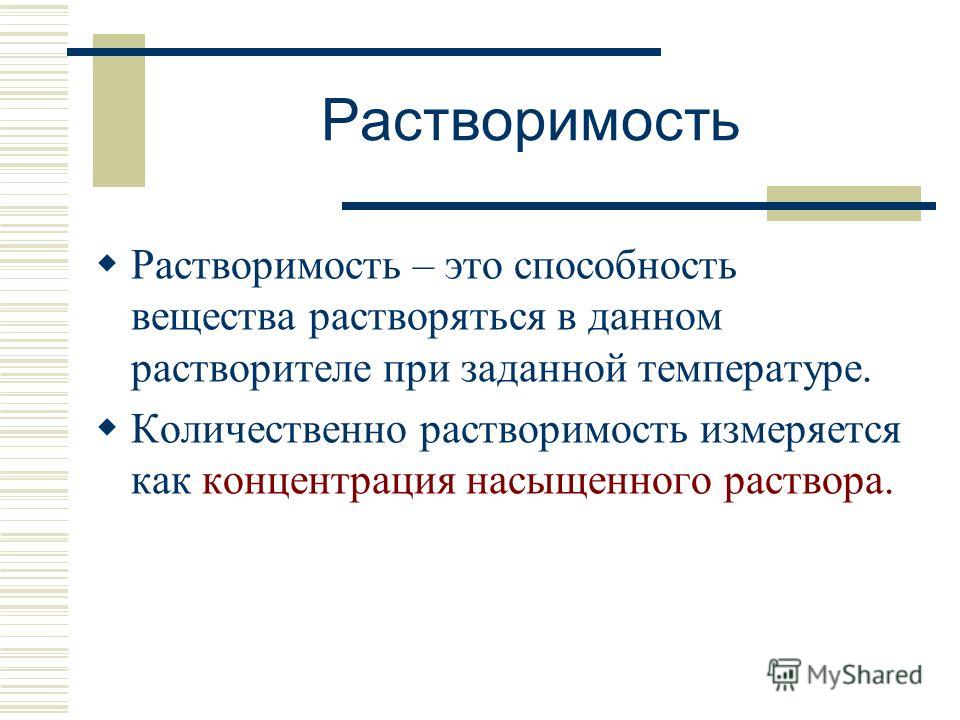 Ltd., 1971, 1988 © HarperCollins Publishers, 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005
Ltd., 1971, 1988 © HarperCollins Publishers, 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005
Упоминается в ?
- advocate
- Animals
- anthem
- Attitudes
- bestiary
- didactic
- didactical
- didactically
- didacticism
- doctrine
- ethicism
- homilist
- homily
- interpret
- ism
- jaw
- обучение
- литература
- мораль
Ссылки в классической литературе ?
Ночью он отправил печально трезвого и морализирующего начальника компании Гудзонова залива в сопровождении надлежащего эскорта воссоединиться со своим народом; его маршрут разветвлялся в другом направлении.
Посмотреть в контексте
На это можно ответить, что он мог бы заработать еще одно состояние, если бы захотел; и мы должны добавить, что он не то чтобы морализировал.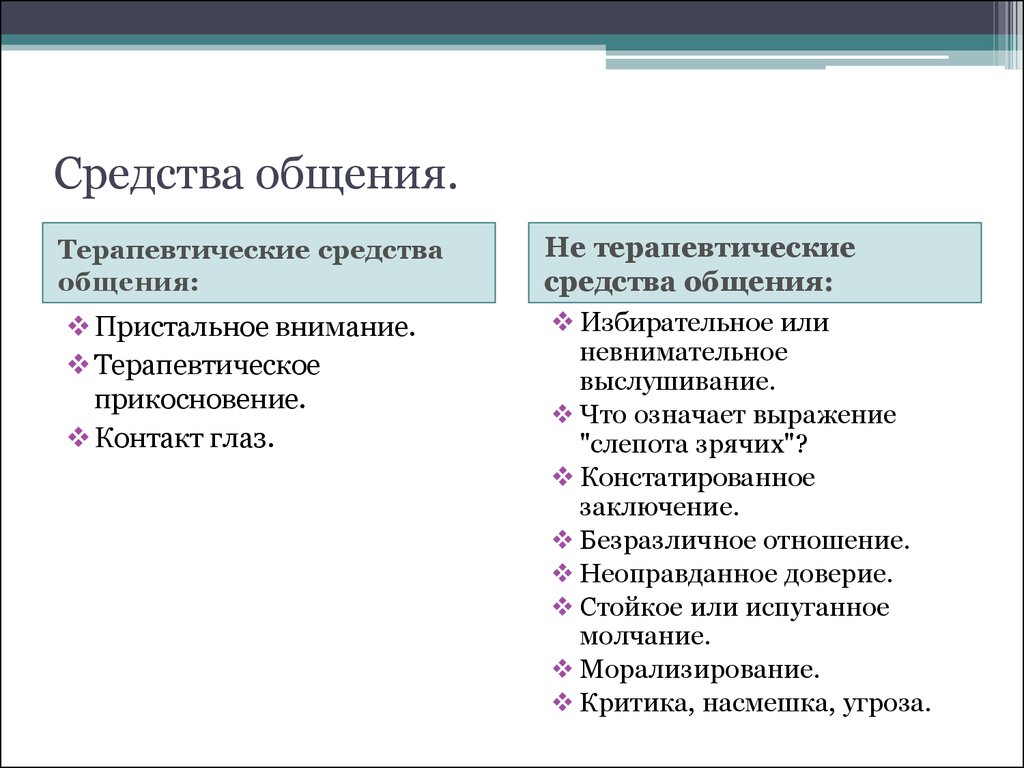 Ему просто вспомнилось, что то, на что он смотрел все лето, было очень богатым и прекрасным миром, и что не весь он был создан хитрыми железнодорожниками и биржевыми маклерами.
Ему просто вспомнилось, что то, на что он смотрел все лето, было очень богатым и прекрасным миром, и что не весь он был создан хитрыми железнодорожниками и биржевыми маклерами.
Взгляд в контексте
Правильное драматическое действие они в значительной степени заменяют разглагольствованиями морализирующей декламации с грубо преувеличенной страстью и обнаруживают большую жилку мелодраматического ужаса, например, в частом использовании мотива неумолимой мести за убийство и призрак, который подстрекает к этому.
Его история, как и некоторые из более поздних пьес Шекспира, в конечном итоге восходит к рассказу об одном из первых правлений в «Истории» Джеффри Монмутского. «Горбодук» превосходит свои сенеканские образцы в утомительном морализаторстве и болезненно деревянен во всех отношениях; но это имеет реальное значение не только потому, что это первая настоящая английская трагедия, но и потому, что это была первая пьеса, в которой использовался белый пятистопный ямб, который Суррей ввел в английскую поэзию и которому суждено было стать стихотворной формой действительно великих произведений.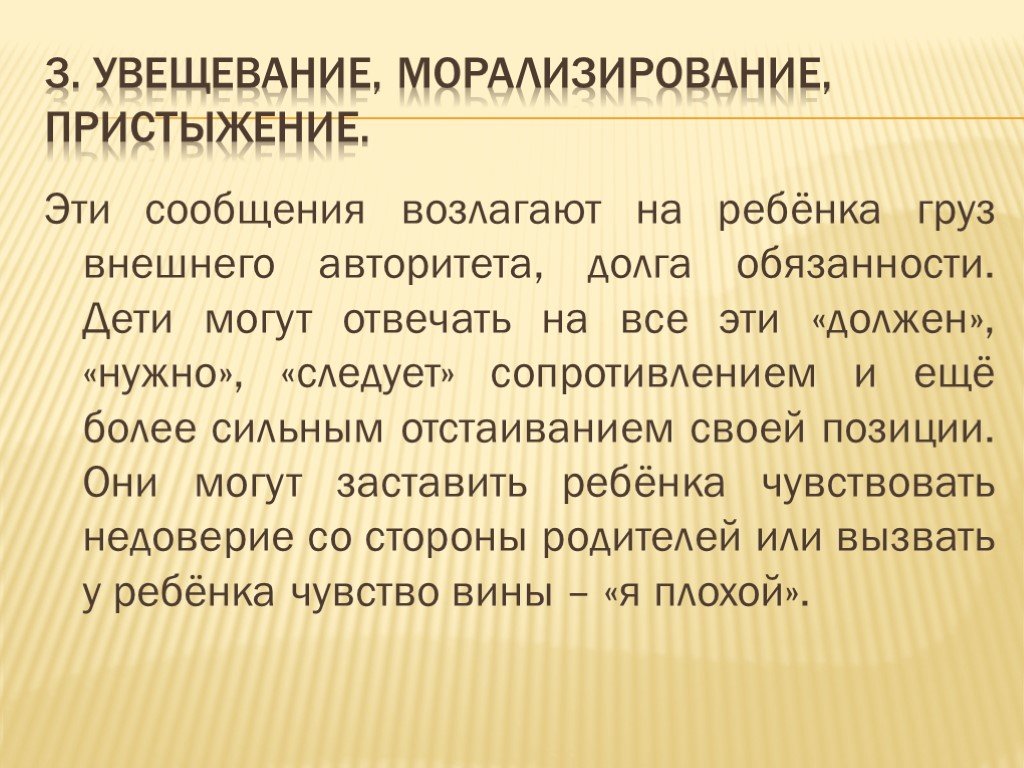 английская трагедия.
английская трагедия.
Посмотреть в контексте
Уопсл никак не мог вернуть череп после нравоучений, не вытирая пальцы о белую салфетку, снятую с его груди; но и это невинное и необходимое действие не обошлось без комментария «Официант!» Прибытие тела для погребения (в пустом черном ящике с откидывающейся крышкой) было сигналом к всеобщей радости, которая была усилена обнаружением среди носильщиков человека, не поддающегося опознанию.
Посмотреть в контексте
Но я забыл, что морализаторствую в самой интересной части моего рассказа, и ваш взгляд напоминает мне, что нужно продолжать.
Посмотреть в контексте
Сам по себе бал был для Кэтрин более желанным, чем эта небольшая экскурсия, настолько сильным было ее желание познакомиться с Вудстоном; и ее сердце все еще билось от радости, когда примерно через час Генри в сапогах и шинели вошел в комнату, где она сидела с Элеонорой, и сказал: за наши удовольствия в этом мире всегда нужно платить, и что мы часто покупаем их с большим недостатком, отдавая наличное настоящее счастье за чек на будущее, которое может быть не оценено.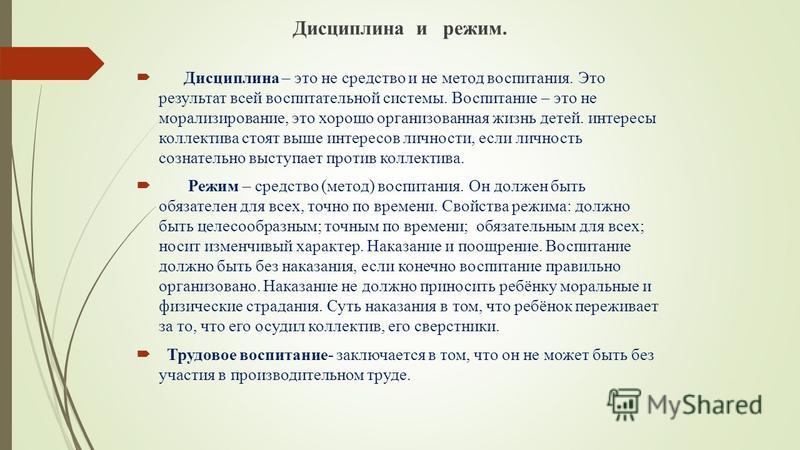 0003
0003
Посмотреть в контексте
В недавнем интервью The Post Трамп сделал заявление, которое иллюстрирует использование им выборочного возмущения и морализаторской риторики, когда это соответствует его цели:
Фанатическая риторика президента Трампа по Ирану
В этом исследовании стиля и морализаторства в викторианской литературе и критике она превозносит достоинства использования вычислительного анализа и цифрового анализа для изучения викторианской литературы.
Редуктивное чтение: синтаксис викторианского морализаторства
В первом случае события рассматриваются как фон для того, чтобы рассказать нравоучительную историю, в конечном итоге обесценивая не только трагедию, но и силу историй, уходящих корнями в эту историю.
Что смотреть в Йом ха-Шоа
Поэтому, прежде чем заниматься глубоким морализаторством, с приливом переживаний за события в Европе и за ее пределами, лучше спросим себя о мотивах, побудивших «демохристиан» из ДПМНЕ и «Благочестивые верующие» из BDI легко забывают о наших внутренних черных точках: пропавших без вести в 2001 году, заключает Зеколи.
