ВЗГЛЯД / Почему на Западе зло превратилось в добро :: Автор Дмитрий Винник
Современное западное сверхобщество открыто перешло на сторону зла. Никогда еще вековечное зло не объявлялось добром. Более того, буквально на наших глазах зло приобрело принципиально новые, ранее неслыханные в человеческой истории формы. В первую очередь речь идет о массовом вмешательстве в природу человеческой сексуальности. Никогда еще в истории человечества не стиралась разница между полами, извращения не объявлялись нормой, а детей не склоняли к смене пола. Никогда в истории человечества не проводилась массовая наркотизация детей средствами психофармакологии с целью контроля поведения под предлогом борьбы с гиперактивностью, агрессивностью и т. п. Никогда еще государство не достигало такой тоталитарной мощи, что стало позволять себе с помощью институтов так называемой ювенальной юстиции массово отбирать детей и даже отдавать их на «воспитание» извращенцам.
Как западное сверхобщество дошло до такого чудовищного состояния? Как столь неслыханные по своему ужасу вещи в принципе стали возможными? Почему «гуманный и просвещенный» Запад отрекся от разумного, доброго и вечного и перешел на сторону извращенно-инстинктивного, порочного и омерзительно-сиюминутного?
Обычно феномен морального разложения Запада осмысливается с привлечением высоких философских категорий об «органических» процессах становления, развития и упадка культур и цивилизаций. Здесь вспоминается и изумительный арабский философ Ибн Хальдун, описавший неизбежное разложение и упадок элиты городов и захват города окружающими кочевниками. Приходят на память работы мрачного немца Фридриха Ницше, презиравшего современный ему эгалитаризм и мещанское мировоззрение. Евразиец Константин Леонтьев тоже видел фатальные пороки западного общества в эгалитаризме, либерализме и мещанской культуре потребления, которые есть признаки ее органического упадка. Евразиец Николай Данилевский создал развитую теорию культурно-исторических типов и описал черты европейского типа в знаменитой книге «Россия и Европа». Впоследствии немецкий преподаватель математики Освальд Шпенглер создал нечто подобное, но менее академичное (он был публицистом), пафосно назвав западную культуру «фаустовской». Еще Шпенглер, видимо, захотел лавров пророка – и назвал свою книгу «Закат Европы». Ее до сих пор вспоминают. Шпенглер в целом все правильно описал, но не мог знать будущих совершенно фантастических на тот момент политико-экономических деталей.
Здесь вспоминается и изумительный арабский философ Ибн Хальдун, описавший неизбежное разложение и упадок элиты городов и захват города окружающими кочевниками. Приходят на память работы мрачного немца Фридриха Ницше, презиравшего современный ему эгалитаризм и мещанское мировоззрение. Евразиец Константин Леонтьев тоже видел фатальные пороки западного общества в эгалитаризме, либерализме и мещанской культуре потребления, которые есть признаки ее органического упадка. Евразиец Николай Данилевский создал развитую теорию культурно-исторических типов и описал черты европейского типа в знаменитой книге «Россия и Европа». Впоследствии немецкий преподаватель математики Освальд Шпенглер создал нечто подобное, но менее академичное (он был публицистом), пафосно назвав западную культуру «фаустовской». Еще Шпенглер, видимо, захотел лавров пророка – и назвал свою книгу «Закат Европы». Ее до сих пор вспоминают. Шпенглер в целом все правильно описал, но не мог знать будущих совершенно фантастических на тот момент политико-экономических деталей.
Как продемонстрировал лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман в своей книге «Кредо либерала» (которая фактически является описанием политико-экономической истории США XX века), расцвет разнообразных меньшинств в США стал результатом тонкой калибровки двухпартийной системы – баланс между демократами и республиканцами оказался столь стабильным, что в последние десятилетия борьба порой шла за десятки голосов в отдельных штатах.
Как победить на выборах в подобных условиях? Ответ очевиден – переманить на свою сторону колеблющихся или политизировать внеполитичных граждан, или даже не граждан, но тех, кто способен влиять на результаты выборов косвенным образом. Иными словами, ставка была сделана на работу с меньшинствами.
Республиканцы поставили на религиозные меньшинства, начав заигрывать с разнообразными сектами вплоть до откровенных религиозных фундаменталистов. Тут вам и секта Муна, и мормоны, и сотни других протестантских и околохристианских конфессий. Сначала политики манипулировали сектами, но в последние годы, отмечает Кругман, скорее, имело место обратное – к концу эпохи Буша религиозные фундаменталисты приобрели необычно большое влияние.
Сначала политики манипулировали сектами, но в последние годы, отмечает Кругман, скорее, имело место обратное – к концу эпохи Буша религиозные фундаменталисты приобрели необычно большое влияние.
Демократы сделали ставку на национальные и расовые меньшинства. Религиозные меньшинства они тоже не забыли, но акцент был сделан не на христианских религиях, а на исламе. Любопытно, что республиканцы и демократы обменялись повесткой относительно расового вопроса. Демократы в основном были за апартеид. Век назад защита прав чернокожих была отличительной чертой именно Республиканской партии, на сегодняшний день – Демократической. Особых успехов, как мы знаем, на этом поприще добились именно демократы, а точнее – их леволиберальное крыло. Демократов своими голосами, деньгами и влиянием поддерживают эмигрантские общины, заинтересованные в скорейшей натурализации своих родственников без американского гражданства. Мало того, что они поддержали нацменьшинства и секс-меньшинства, они еще и принялись конструировать их! Так мы получили дюжину разнообразных «гендеров», монструозные классификации типа LGBTQIA+. Вот к каким удивительным результатам приводит двухпартийная демократия!
Вот к каким удивительным результатам приводит двухпартийная демократия!
Еще есть обоснованный марксистский взгляд, что виноват во всем капитализм. Природа капитализма хищническая, экспансивная. Когда в мире не осталось для освоения новых рынков новых географических территорий после взлома СССР и его геополитической зоны, капитализм закономерным образом обратился от пространств физических к пространствам виртуальным и человеческим.
Сначала были созданы виртуальные пространства компьютерных игр и Интернета, а потом и компьютерных игр в глобальной сети. Капитал внимания, который ранее принадлежал телевидению, выпивке, наркотикам и другим формам зависимости, у молодого поколения сместился в виртуальное пространство. У молодого человека, который с детства живет в мирах любимых компьютерных игр, обычно нет времени и желания устраивать пирушки с друзьями. В том числе и потому, что у него просто нет настоящих друзей. Создание и освоение иллюзорных, фиктивных миров оказалось настолько прибыльным, что даже появилось целое направление в менеджменте – «геймификация». В игру начали превращать то, что ей изначально не являлось. Хотя, «что наша жизнь? Игра!» – известно давно. Стали пытаться геймифицировать все, начиная с образования. Это приводит к инфантилизации психики и несерьезному отношению к нравственным вопросам. И к вопросам смены пола, возможно, тоже. Если можно легко сменить пол героя в аватаре компьютерной игры, то почему нельзя изменить свой собственный пол?
В игру начали превращать то, что ей изначально не являлось. Хотя, «что наша жизнь? Игра!» – известно давно. Стали пытаться геймифицировать все, начиная с образования. Это приводит к инфантилизации психики и несерьезному отношению к нравственным вопросам. И к вопросам смены пола, возможно, тоже. Если можно легко сменить пол героя в аватаре компьютерной игры, то почему нельзя изменить свой собственный пол?
После создания виртуальных пространств началась яростная атака на половую идентификацию. Почва готовилась заранее всякими транс- и постгуманистами, феминистками и феминистами, сексологами и гендерщиками, борцами против притеснений секс-меньшинств. Но сдетонировали заложенные десятилетиями ранее идеологические мины. Началась вакханалия. Все это имело своим следствием передел границ между рынками. Что-то произошло с рынком одежды – большая часть доступной одежды стала какой-то бесполой. Вкус тоже «поплыл» – например, женщины стали массово ходить в театр в кроссовках и берцах. Ранее незыблемая граница между мужским и женским была разрушена настолько, что рынки собственно мужских и женских товаров значительно сократились, а в некоторых категориях перестали существовать вовсе. Сегмент классического стиля стремительно скукожился.
Сегмент классического стиля стремительно скукожился.
Еще можно долго описывать крайне причудливые философские концепции, социологические теории и направления искусства, которые внесли огромный вклад в переход Запада на сторону зла, поскольку подготовили почву и оправдали его. Гораздо важнее задать вопрос, почему эти концепции появились? Одна из причин – инфляция гуманитарных наук, увеличение количества студентов-гуманитариев, профессоров и научных сотрудников в десятки и даже в сотни раз. Требования научной новизны заставляют из кожи вон лезть, чтобы измышлять новые теории и даже новые научные дисциплины. Как мы знаем по истории искусства, паталогическое стремление к оригинальности очень скоро приводит к пошлости и деградации. Нечто похожее происходит и в науке. Однако кому было нужно непомерно раздувать гуманитарное знание и поп-культуру? С одной стороны, это было нужно капитализму, с другой – этого требовала логика холодной войны.
В книге Фрэнсис Стонор Сондерс «ЦРУ и мир искусств. Культурный фронт холодной войны» описывается, как церэушники Майкл Джоссельсон и Николай Набоков (кузен писателя) через специально созданный фонд четверть века тратили огромные средства на поддержку самых безумных художников и направлений; поддерживали европейских философов, включая альтернативных марксистов; спонсировали разработку самых странных концепций и подходов в гуманитарных науках. Пусть расцветет тысяча цветов! Трата чудовищных средств на распространение эстетического и морального хаоса, на непрерывную вакханалию, на взращивание самых бессмысленных и пошлых художников, все это было, на самом деле, подчинено одной простой цели – размыть границы хорошего и плохого и, как следствие, лишить творческую интеллигенцию Европы собственного мышления и свободы воли. Эта задача с успехом была выполнена. Как были достигнуты первые успехи, наработанные приемы начали транслироваться на СССР по каналам творческих связей с европейскими коллегами.
Культурный фронт холодной войны» описывается, как церэушники Майкл Джоссельсон и Николай Набоков (кузен писателя) через специально созданный фонд четверть века тратили огромные средства на поддержку самых безумных художников и направлений; поддерживали европейских философов, включая альтернативных марксистов; спонсировали разработку самых странных концепций и подходов в гуманитарных науках. Пусть расцветет тысяча цветов! Трата чудовищных средств на распространение эстетического и морального хаоса, на непрерывную вакханалию, на взращивание самых бессмысленных и пошлых художников, все это было, на самом деле, подчинено одной простой цели – размыть границы хорошего и плохого и, как следствие, лишить творческую интеллигенцию Европы собственного мышления и свободы воли. Эта задача с успехом была выполнена. Как были достигнуты первые успехи, наработанные приемы начали транслироваться на СССР по каналам творческих связей с европейскими коллегами.
Все это, наверное, примерно так и есть.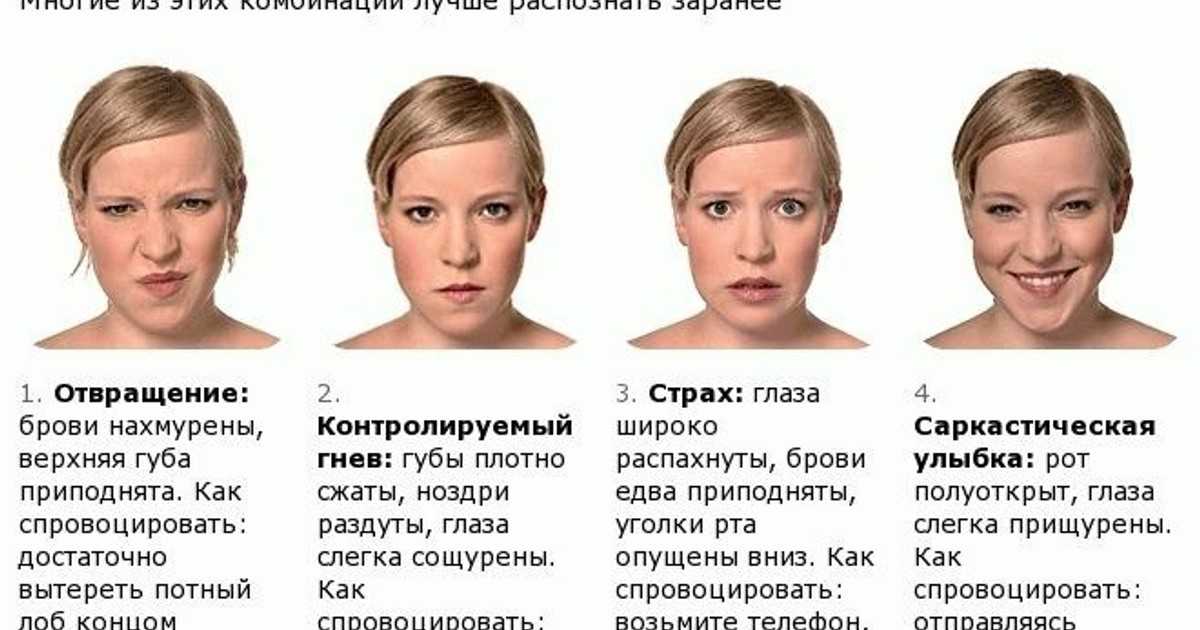 Но все равно при осмыслении современного состояния западной цивилизации остается осознание непостижимости происходящего, настолько фантасмагоричны грани зла, с которыми нам пришлось столкнуться. Однако это ощущение следует преодолеть. В действительности мы имеем дело с торжеством тщательно культивируемых человеческих пороков и самой порочности в условиях невиданного ранее изобилия. Человечество, как и предупреждали, оказалось не готово к изобилию. Сегодня Россия уже сделала многое, чтобы прежнее изобилие в Европе закончилось. Но заинтересованы ли мы в оздоровлении Запада на настоящий момент времени? Пока мы не расправились с фашистским режимом на Украине, не отбили охоту у НАТО зариться на Россию, наверное – нет. Более того, негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают.
Но все равно при осмыслении современного состояния западной цивилизации остается осознание непостижимости происходящего, настолько фантасмагоричны грани зла, с которыми нам пришлось столкнуться. Однако это ощущение следует преодолеть. В действительности мы имеем дело с торжеством тщательно культивируемых человеческих пороков и самой порочности в условиях невиданного ранее изобилия. Человечество, как и предупреждали, оказалось не готово к изобилию. Сегодня Россия уже сделала многое, чтобы прежнее изобилие в Европе закончилось. Но заинтересованы ли мы в оздоровлении Запада на настоящий момент времени? Пока мы не расправились с фашистским режимом на Украине, не отбили охоту у НАТО зариться на Россию, наверное – нет. Более того, негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают.
Мария Грибова. Взгляд в сторону: кино, рассматривающее искусство
С 2 по 10 января в лектории Музея «Гараж» пройдут показы кинопрограммы «Продолжение экскурсии», подготовленной командой Garage Screen. Программа состоит из фильмов, в которых конкретные произведения искусства становятся катализатором кинематографического действия, а искусство в целом важной частью повседневного опыта.
Программа состоит из фильмов, в которых конкретные произведения искусства становятся катализатором кинематографического действия, а искусство в целом важной частью повседневного опыта.
Исследователь кино Мария Грибова написала на основе фильмов программы эссе о том, что происходит с действительностью, когда кино и искусство взаимно оборачиваются и смещают зрительский взгляд.
Текст подготовлен в партнерстве с кинопрограммой Garage Screen Музея современного искусства «Гараж».
кадр из фильма «Все работы Вермеера в Нью-Йорке» Джона Джоста
Стоило давно договориться: кино — не искусство. Договориться, чтобы отбросить эту часто и незаслуженно забываемую аксиому, верность которой, правда, служит локальной цели, имеющей лишь косвенное отношение к анализу фильмического. Ведь она призвана усмирять тех, кто до сих пор верит, будто существует единый конгломерат сакрального, который, каким бы профанным или святотатственным ни был, занимает выделенное место в пространстве и времени.
Впрочем, то же положение способно выполнять еще одну задачу — фиксацию процедуры «экзоскопии», исследования, осуществляемого при съемке. Так портрет, симфония, хеппенинг при становлении фильмическим объектом приобретают тождество «искусства», с которым кино работает не изнутри, а извне. Его наружный технический взгляд интериоризирует запечатлеваемое, сохраняя при этом стабильные отношения дистанции, которые обладают куда меньшей устойчивостью при живописном изображении руин, скульптурном воплощении реквиема или балетном прочтении трагедии.
Тогда выясняется, что есть фильмы, показывающие искусство, а есть фильмы, его рассматривающие. Как ни странно, первые выполняют повествовательную и нередко пропедевтическую функцию, рассказывая историю — произведения, создателя или идей эпохи. Вторые же реализуют функцию одновременного приближения этого произведения и активизации направляемого на него внимания. Программа Garage Screen «Продолжение экскурсии» собирает именно их.
***
кадр из фильма «Музейные часы» Джема Коэна
«Он все воспринимал по-своему. На полотне «Святая мученица Урсула» Карпаччо ему нравилось отсутствие стены, благодаря чему можно видеть, что происходит внутри». Так невидимая мать характеризует персонажа Бертрана Бонелло в фильме Антуана Барро «Красная спина», ненароком намечая одну из линий, связующих кураторскую подборку. Автономность восприятия и опыта — приобретение, унаследованное через (фиктивную) свободу фланера, жажда зрелищ которого, как известно благодаря Вальтеру Беньямину, «может концентрироваться, сжимаясь в наблюдение» или «разливаться в зеваке» [1]. Возникший, как отражение на стеклянных поверхностях пассажей, фланер научился с (ов)мещать внешнее и внутренне, переходя с улицы в интерьер и обратно. В таком осциллирующем движении занять стабильную точку зрения — привилегированную или случайную — невозможно, зато, постоянно перемещаясь, можно менять оптику и изобретать новые взгляды: фланер не займет позицию гида, но и не остановится в точке, положением гида заданной. Прохождение сквозь и мимо производит фрагментарные образы, которые вырастают в образы фрагментарности, выпадающие за пределы специально приуготовленного к восприятию пространства — музея, театра или кинозала.
На полотне «Святая мученица Урсула» Карпаччо ему нравилось отсутствие стены, благодаря чему можно видеть, что происходит внутри». Так невидимая мать характеризует персонажа Бертрана Бонелло в фильме Антуана Барро «Красная спина», ненароком намечая одну из линий, связующих кураторскую подборку. Автономность восприятия и опыта — приобретение, унаследованное через (фиктивную) свободу фланера, жажда зрелищ которого, как известно благодаря Вальтеру Беньямину, «может концентрироваться, сжимаясь в наблюдение» или «разливаться в зеваке» [1]. Возникший, как отражение на стеклянных поверхностях пассажей, фланер научился с (ов)мещать внешнее и внутренне, переходя с улицы в интерьер и обратно. В таком осциллирующем движении занять стабильную точку зрения — привилегированную или случайную — невозможно, зато, постоянно перемещаясь, можно менять оптику и изобретать новые взгляды: фланер не займет позицию гида, но и не остановится в точке, положением гида заданной. Прохождение сквозь и мимо производит фрагментарные образы, которые вырастают в образы фрагментарности, выпадающие за пределы специально приуготовленного к восприятию пространства — музея, театра или кинозала.
Подобным расширением «синяя-синяя река», про которую, рассказывая о крещении Христа на одном из знакомых полотен, вспоминает герой «Музейных часов» Джема Коэна, втекает в замерзшую Вену, скованную серым камнем набережных. Фильм не пытается представить, будто долгие дни, проведенные в стенах галереи, заставляют окружающую действительность становиться картиной, но выявляет, как осколки реальности обмениваются с элементами живописи примечательностью и позволяют последним освободиться от власти целого. Сродни тому, как гомогенное будничное пространство оживает и рассредотачивается после столкновения с пространством художественного, единство холста распадается на множество неброских подробностей, которые вдруг начинает находить взгляд, сумевший увидеть не просто улицу, но смятые углом окурки на обочине тротуара, параллели тянущихся проводов или бирюзу на голубиной шее.
Здесь — как и в других лентах кураторской программы — созданное для привлечения внимания скрещивается, сплетается и делится с тем, что, утратив свою функциональность, кажется совершенно неприметным. Так, пока «Музейные часы» перемежают незаметные детали полотен Брейгеля с отблесками закрывающих их стекол и затылками посетителей, «Красная спина» дотошно всматривается в ренуаровский «Портрет молодого человека и девушки», обнаруживая в задорной сцене место жуткого. Тем временем «То, что на расстоянии напоминает другое» Джессики Сары Ринланд и «Идеальный день Карла» Риркрита Тиравании преодолевают границу искусства как сделанного (пусть перформативного), чтобы обнажить ритмическую красоту неустанного повседневного действия. В этих фильмах кино отчетливо доказывает присущую и ему способность фланировать, в собственном движении делая зримой маргинальность того, что принято считать «значимым», и проблематизируя ви́дение.
Так, пока «Музейные часы» перемежают незаметные детали полотен Брейгеля с отблесками закрывающих их стекол и затылками посетителей, «Красная спина» дотошно всматривается в ренуаровский «Портрет молодого человека и девушки», обнаруживая в задорной сцене место жуткого. Тем временем «То, что на расстоянии напоминает другое» Джессики Сары Ринланд и «Идеальный день Карла» Риркрита Тиравании преодолевают границу искусства как сделанного (пусть перформативного), чтобы обнажить ритмическую красоту неустанного повседневного действия. В этих фильмах кино отчетливо доказывает присущую и ему способность фланировать, в собственном движении делая зримой маргинальность того, что принято считать «значимым», и проблематизируя ви́дение.
Намеренно ограничивая, неволя или раздразнивая ви́дение, кино делает различимой его изначальную скованность и слепоту: восприятие, вынужденное постоянно сосредотачиваться и защищаться таким образом от одолевающего визуального изобилия окружения, оказывается неспособным «расфокусироваться», чтобы расширить свое поле действия. Сколько бы ви́дение ни симулировало приступы «синдромов Стендаля», ему достаточно привычно наличествующего, которым оно полностью удовлетворяется. Короткометражная «Экспрессия незрячего» уже упомянутой Ринланд и «Дети Айседоры» Дамьена Манивеля обращаются напрямую к этому пороку: первая — с помощью гиперболизации отчетливости видимого на фоне физической слепоты; вторые — через невидимый танец, точку кульминации, которая присутствует отсутствуя.
Сколько бы ви́дение ни симулировало приступы «синдромов Стендаля», ему достаточно привычно наличествующего, которым оно полностью удовлетворяется. Короткометражная «Экспрессия незрячего» уже упомянутой Ринланд и «Дети Айседоры» Дамьена Манивеля обращаются напрямую к этому пороку: первая — с помощью гиперболизации отчетливости видимого на фоне физической слепоты; вторые — через невидимый танец, точку кульминации, которая присутствует отсутствуя.
***
кадр из фильма «Красная спина» Антуана Барро
Когда кино рассматривает искусство, параллельно с тем подрывая уверенность зрителя в собственной способности чувствования, становится непосильно препятствовать возникающему вопросу об ауре произведения. Но вспоминается здесь не то определение, которое Беньямин — столь много раз возвращавшийся к теме ауры — давал в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости», а как он представлял опыт встречи с ней в тексте «Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма»: «…во взгляде живет ожидание ответного взгляда от того, на кого он направлен. Там, где это ожидание оказывается сбывшимся (причем ответный взгляд может быть помысленным, интенциональным, а может быть и самым обычным), во всей полноте оказывается обретенным опыт встречи с аурой». Притом следует удерживать, что «опыт восприятия ауры — перенос привычной в человеческом обществе формы реакции на отношения неодушевленного, или природы, к человеку. Познать ауру какого-либо явления — значит наделить его способностью раскрыть глаза» [2].
Там, где это ожидание оказывается сбывшимся (причем ответный взгляд может быть помысленным, интенциональным, а может быть и самым обычным), во всей полноте оказывается обретенным опыт встречи с аурой». Притом следует удерживать, что «опыт восприятия ауры — перенос привычной в человеческом обществе формы реакции на отношения неодушевленного, или природы, к человеку. Познать ауру какого-либо явления — значит наделить его способностью раскрыть глаза» [2].
Пусть «эпоха технической воспроизводимости» привела к кризису ауры, но этот кризис позволил ауре освободиться от довеска человеческого, раскрыв навстречу друг другу взгляды нечеловеческие. Пока зритель, параллельно смотрящий фильм и смотрящий на то, что фильм показывает, сходится с собственным неумением видеть; кино и искусство (по инициативе первого) взаимно оборачиваются. Человек для них становится третьим, которому, правда, дозволяется наблюдать за обменом открыто. Одновременно маргинальное и обособленное место, отводимое в данной ситуации наблюдателю, спасает от описанного Беньямином переноса. Так направленные друг на друга взгляды искусства и кино не объединяются, но сохраняют дистанцию, благодаря которой последнее может затем отвести взгляд.
Так направленные друг на друга взгляды искусства и кино не объединяются, но сохраняют дистанцию, благодаря которой последнее может затем отвести взгляд.
Когда же оно его отводит, в «Музейных часах» возникают бугристые формы сплющенных банок на припорошенных снегом улицах, во «Всех работах Вермеера в Нью-Йорке» Джона Джоста появляются гибкие линии женской шеи, наконец, зарождается движение в полете красного надувного шара из одноименного фильма Хоу Сяосяня, где смешиваются все пласты действительности — «реальности жизни», реальности утраченного фильма и нового фильма, снимаемого персонажами. Когда кино отводит свой взгляд, оно позволяет сместиться и взору зрителя.
кадр из фильма «Музейные часы» Джема Коэна
Примечания
[1] Беньямин В. Бодлер. 2015. С. 76.
[2] Там же. С. 165.
20 Синонимов БОКОВОГО ВЗГЛЯДА | Merriam-Webster Thesaurus
взгляд сбоку
как в взгляд
взглянуть мельком
посмотреть
случайно заметить
подглядывать
глазеть
яркий свет
подглядывать
взгляд
смотреть
хитрый взгляд
вид
гусак
бросать
пялиться
глаз
зевать
косоглазие
внимание
косоглазый
удачный ход
Тезаурус Записи рядом с
боковым взглядомпобочные эффекты
взгляд сбоку
косые взгляды
Посмотреть другие записи поблизости
Процитировать эту запись «Боковой взгляд».
 Merriam-Webster.com Тезаурус , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/thesaurus/side-glance. По состоянию на 9 февраля 2023 г.
Merriam-Webster.com Тезаурус , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/thesaurus/side-glance. По состоянию на 9 февраля 2023 г.Copy Citation
Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!
Merriam-Webster без сокращений
пресный
См. Определения и примеры »
Получайте ежедневно по электронной почте Слово дня!
Слова, названные в честь людей
- Тезка купальник , какой профессией был Жюль Леотар?
- Врач хирург Судить
- Акробат Пожарный
Вы знаете, как это выглядит. .. но как это называется?
.. но как это называется?
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ
Сможете ли вы составить 12 слов из 7 букв?
ИГРАТЬ
Слова в игре
14 слов, вдохновленных собаками
Лучший друг лексикографа
Больше слов, больше красивых, больше бесполезных
«Серый» и «серый»: в чем разница?
Орфография не всегда однозначна.
Когда впервые были использованы слова?
Найдите любой год, чтобы узнать
Спросите у редакторов
Странные множественные числа
Один гусь, два гуся.
 Один лось, два… лось. Чт…
Один лось, два… лось. Чт…- независимо
На самом деле это реальное слово (но это не значит…
Принести или взять
Оба слова означают движение, но разница может быть…
Дефенестрация
Увлекательная история любимых многими людей…
Игра слов
Старая добрая викторина
Можете ли вы назвать эти устаревшие предметы?
пройти тест
Что было первым?
«Леггинсы» или «мамины джинсы»? «Chillax» или «мусорный контейнер».
 ..
..Пройди тест
Назовите эту вещь
Вы знаете, как это выглядит… но как оно называется…
Пройди тест
Орфографическая викторина
Сможете ли вы превзойти прошлых победителей национального конкурса Spelli…
Примите участие в викторине
Взгляд сбоку | Дикие умы
Керим
Лекция Рэдклиффа-Брауна Тима Ингольда 2008 года «Антропология — это , а не этнография» несколько раз упоминалась в этом блоге с тех пор, как Джон Постилл опубликовал ссылки как на полный текст [PDF], так и на отредактированные версии доклада. Наконец-то у меня появилась возможность сесть и прочитать его, и я обнаружил, что он достаточно наводит на размышления, чтобы заслужить отдельный пост.
Во-первых, название несколько вводит в заблуждение. Цель Ингольда не в том, чтобы отличить антропологию от этнографии, а в том, чтобы подвергнуть критике «идею одностороннего движения от этнографии к антропологии», в которой теоретическому обобщению предшествует методологическая строгость. Название действительно должно звучать так: «Антропологическое рассуждение не индуктивно, а диалектично». Он хочет бросить вызов дихотомии, которая ставит этнографическое описание с одной стороны, а антропологическое теоретизирование — с другой.
Мы все еще можем узнать сегодня фигуру «социального теоретика», сидящего в кресле или, что более вероятно, смотрящего из-за экрана своего компьютера, который полагает, что в силу своего статуса интеллектуала он имеет право высказываться по поводу пути мира, в который он вовлекается как можно меньше, предпочитая допрашивать работы других себе подобных.
Другой крайностью является непритязательный «этнограф-исследователь», которому поручено проводить структурированные и полуструктурированные интервью с выбранной выборкой информантов и анализировать их содержание с помощью соответствующего пакета программ, который убежден, что собираемые им данные являются этнографическими просто потому, что они являются качественными. Эти цифры — окаменелости устаревшего различия между сбором эмпирических данных и абстрактными теоретическими рассуждениями, и я надеюсь, мы все согласимся, что в антропологии нет места ни для того, ни для другого.
Этому он противопоставляет взгляд на антропологию как на ремесло (взгляд, который Рекс разработал в серии постов в этом блоге).
Для ремесла характерно, что как знание вещей практикующим, так и то, что он с ними делает, основаны на интенсивных, уважительных и близких отношениях с инструментами и материалами его ремесла. Действительно, антропологам давно нравится видеть себя ремесленниками среди социологов, гордящихся качеством своей ручной работы в отличие от товаров массового производства промышленной обработки данных, выпускаемых социологами и другими.
Насколько я понимаю, акцент на мастерстве — это попытка сместить акцент с инструментов торговли — методов сбора качественных данных — на самого этнографа. Этнограф — это исследователь, выработавший в себе «антропологическую установку»:
Усилие по существу сравнительное, но сравнивает не ограниченные объекты или сущности, а способы бытия. Именно постоянное осознание альтернативных способов бытия и вездесущей возможности «перескакивания» с одного на другой определяет антропологическую установку. Он заключается в том, что я бы назвал «косым взглядом».
Он определяет этот «косой взгляд» как «практику наблюдения, основанную на активном диалоге». В ходе этого диалога антропологи качаются туда-сюда, как маятник, между антропологическим теоретизированием и этнографическим описанием.
Но я начал эту дискуссию с конца, и собственный процесс достижения Ингольдом столь же важен, как и то, где он окажется. Большая часть эссе на самом деле является диалогом с Рэдклиффом-Брауном и той антропологией, которую он предложил. Он одновременно пытается защитить Р.-Б. от его критиков, а также исправить некоторые из его противоречий и эксцессов. Меня не особенно беспокоит защита или нападки на место Р-Б в антропологической пушке, но я нахожу меняющиеся рамки рассуждений Ингольда весьма увлекательными. Он начинает с Креберовской критики подхода РБ как формы неисторической классификации, которой Крёбер противопоставляет форму «дескриптивной интеграции». Точно так же, как художник не видит пейзаж как «множество деталей», так и антрополог Крёбера стремится представить детали в связное целое, а не рассматривать их как бессвязную головоломку из не связанных между собой частей.
Он одновременно пытается защитить Р.-Б. от его критиков, а также исправить некоторые из его противоречий и эксцессов. Меня не особенно беспокоит защита или нападки на место Р-Б в антропологической пушке, но я нахожу меняющиеся рамки рассуждений Ингольда весьма увлекательными. Он начинает с Креберовской критики подхода РБ как формы неисторической классификации, которой Крёбер противопоставляет форму «дескриптивной интеграции». Точно так же, как художник не видит пейзаж как «множество деталей», так и антрополог Крёбера стремится представить детали в связное целое, а не рассматривать их как бессвязную головоломку из не связанных между собой частей.
Этот интегративный подход приводит к интересному вопросу: «антрополог описывает социальный мир так же, как художник рисует пейзаж, а что тогда становится со временем?»
Кребер пришел к выводу, что время в хронологическом смысле несущественно для истории. Представленный как своего рода «описательный срез» или как характеристика момента, исторический рассказ может быть как синхроническим, так и диахроническим.
Э. Э. Эванс-Притчард перенял точку зрения Крёбера на время, противопоставив ее точке зрения Р. Б., «для которого история была не чем иным, как «записью последовательности уникальных событий», а социальная антропология не чем иным, как «набором общие положения».
Эдмунду Личу пришлось защищать R-B, хотя его защита была в лучшем случае двусторонней. Лич жаловался, что его коллеги «отказались от попыток сделать сравнительные обобщения» ради «коллекционирования бабочек» (под чем он имел в виду «безупречно подробные исторические этнографии отдельных народов»). Однако он чувствовал, что подход Р.Б. к сравнительному обобщению чрезмерно подчеркивал часть «обобщения», а не часть «сравнения», которую Лич считал более важной.
Таким образом, обобщение приняло бы форму не типологической спецификации, которая позволила бы нам отличать общества одного типа от обществ другого, а формулировки отношений между переменными, которые могут действовать в обществах любого типа.
Именно здесь Ингольд бросается на защиту Р-Б, утверждая, что Р-Б рассматривал социальную жизнь не как набор статичных, внеисторических таксономических образцов, а скорее как «процесс». Ингольд утверждает, что критика Лича гораздо лучше применима к его любимому Леви-Строссу, чем к Р-Б. Но Ингольд, тем не менее, критикует взгляд Р.-Б. на «социальную жизнь» как на дихотомию внутренней (психологической) жизни разума. Такой подход «подразумевает закрытие и завершение системы отношений, которая полностью соединилась» в противоположность процессуальному взгляду на социальную жизнь как на «открытую и никогда не завершенную». Именно здесь Ингольдс обсуждает РБ и его взгляд на антропологию как на ласточкин хвост ремесла, ибо:
Из этого следует, что любая попытка так называемой дескриптивной интеграции, если она должна отдать должное импликативному порядку социальной жизни, не может быть ни дескриптивной, ни теоретической в специфических смыслах, конституируемых их противоположностью.
Скорее, она должна покончить с самой оппозицией.
Если социальная жизнь представляет собой процесс, то наш метод ее исследования должен сам по себе избегать противопоставления жизненного опыта и теоретического обобщения и вместо этого должен подчеркивать общий опыт антрополога и ее испытуемых, с которыми знание совместно генерируется посредством диалога.
Завершив изложение аргументов Ингольда, у меня есть несколько вопросов:
- Обязательно ли наша эпистемология должна отражать нашу онтологию? Я не уверен, что это так… В любом случае, кажется, что для этого нужно обосновывать, а не просто предполагать.
- Насколько это касается обслуживания границ? Настоящие антропологи — это те, кто обладает не поддающимся определению savoir faire , в отличие от надоедливых прикладников или этнографов в других дисциплинах, которые только изучили наши методологические инструменты.
- Что осталось после этого обсуждения обобщающей теории? Я не совсем понимаю.


 Один лось, два… лось. Чт…
Один лось, два… лось. Чт…
 Другой крайностью является непритязательный «этнограф-исследователь», которому поручено проводить структурированные и полуструктурированные интервью с выбранной выборкой информантов и анализировать их содержание с помощью соответствующего пакета программ, который убежден, что собираемые им данные являются этнографическими просто потому, что они являются качественными. Эти цифры — окаменелости устаревшего различия между сбором эмпирических данных и абстрактными теоретическими рассуждениями, и я надеюсь, мы все согласимся, что в антропологии нет места ни для того, ни для другого.
Другой крайностью является непритязательный «этнограф-исследователь», которому поручено проводить структурированные и полуструктурированные интервью с выбранной выборкой информантов и анализировать их содержание с помощью соответствующего пакета программ, который убежден, что собираемые им данные являются этнографическими просто потому, что они являются качественными. Эти цифры — окаменелости устаревшего различия между сбором эмпирических данных и абстрактными теоретическими рассуждениями, и я надеюсь, мы все согласимся, что в антропологии нет места ни для того, ни для другого.


 Скорее, она должна покончить с самой оппозицией.
Скорее, она должна покончить с самой оппозицией.