|
Репрезентация — это опосредованное, или «вторичное» (через подобие) представление в сознании человека образов (первообразов) материальных или идеальных объектов их свойств, отношений и процессов. Используемая в этом процессе функция обозначения часто придаёт репрезентации знаковый, символический характер. В русском языке термину «репрезентация» в целом соответствует слово «представление», но поскольку оно имеет множество значений (в том числе с размытым смыслом), в тех случаях, когда речь идёт о представлении одного объекта посредством другого, в современном русском языке часто используется термин «репрезентация», подразумевающий более конкретное значение. Как многозначное понятие, термин «репрезентация» широко употребляется в философии, культурологии и социальных науках. Рассматривая историю развития значения слова «репрезентация», Х.-Г. Гадамер в своём произведении «Истина и метод» напоминает о его сакрально-правовом смысле. Понимание репрезентации как представительства обсуждает Ж. Деррида в «Грамматологии» в связи с идеями Ж.-Ж. Руссо, обнаруживая новые аспекты этой формы репрезентации. Безоговорочное представительство репрезентации — это безоговорочное отчуждение, оно отрывает наличие от самого себя и вновь ставит его напоказ перед самим собой. Согласно Руссо, «выбирая Представителей, народ теряет свою свободу, он перестаёт существовать»; поэтому абсолютно необходимо, чтобы «общая воля выражалась прямо, собственным голосом», без передачи этого права репрезентанту. Проблема репрезентации обсуждается также в контексте рассмотрения способа бытия искусства и онтологического аспекта изображения. Гадамер полагает, что через репрезентацию «изображение приобретает свою собственную действительность», «бытийную валентность», и, благодаря изображению, первообраз становится именно первообразом, то есть только изображение делает представленное им собственно изображаемым, живописным. В эпистемологии репрезентация — это представление познаваемого явления с помощью посредников: моделей, символов, вообще знаковых, в том числе языковых, логических и математических систем. Естественные и искусственные языки — главные посредники, репрезентанты. Возможность и необходимость репрезентации выражает модельный характер познавательной деятельности, при этом в качестве репрезентанта-посредника может выступить любая вещь, любой знак, символ, рисунок, схема, и так далее — всё что угодно может быть репрезентацией всего остального. Именно такой подход к восприятию и репрезентации разрабатывал М. Вартофский, специально исследовавший эту познавательную процедуру и стремившийся преодолеть чисто натуралистическую трактовку восприятия. Согласно его концепции, человеческое восприятие, имея универсальные предпосылки — биологически эволюционировавшую сенсорную систему — вместе с тем является исторически обусловленным процессом. Критика теории познания как «теории репрезентации» представлена в известном полемическом труде Р. Рорти «Философия и зеркало природы» (1979), где репрезентация является одним из центральных понятий. Традиционная теория познания Дж. Локка, Р. Декарта и И. Канта исходит из постижения «ментальных процессов», «ума» как отдельной сущности, в которой происходят эти процессы, и «активности репрезентаций», делающих возможным познание. Познание предстаёт как Зеркало Природы, точная репрезентация того, что находится за пределами ума и ментальных процессов, и задача заключается в том, чтобы найти наиболее точные репрезентации. Соответственно философия как «трибунал чистого разума» оценивает, выносит «приговор» и делит культуру на те области, которые репрезентируют реальность лучше, хуже или вовсе не репрезентируют её вопреки своим претензиям. |
Беседа с медиа-теоретиком Александром Гэллоуем
интервью
Философские истоки дигитальности:
беседа с теоретиком медиа Александром Гэллоуэем
В постоянно оцифровывающемся мире современное искусство бросает вызов тем, что остается офлайн. Подобно метафизике, дигитал-арт занимается дроблением и членением мира — аналоговые медиумы, напротив, представляют мир в качестве целостного и идентичного. T&P публикует перевод интервью режиссера Мануэля Корреа с профессором Нью-Йоркского университета Александром Гэллоуэем о философских истоках дигитальной культуры, которое является частью документального фильма об искусстве после интернета — #artoffline.
T&P публикует перевод интервью режиссера Мануэля Корреа с профессором Нью-Йоркского университета Александром Гэллоуэем о философских истоках дигитальной культуры, которое является частью документального фильма об искусстве после интернета — #artoffline.
— Алекс, мне интересно понять, как философия как таковая трактует переход традиционного искусства в область интернета. Подавляющее большинство искусства производится аналоговым образом, но (посредством интернета) становится цифровым.
— Сейчас я исследую идею, что философия и дигитальность суть одно и то же. По крайней мере, они, кажется, имеют аналогичную структуру. В основе всего цифрового лежит создание дискретных единиц. Цифровое требует разделения, необходимости разъединять что-то неделимое и превращать его в делимое. Как полагает Ларюэль, традиционная метафизика занимается тем же. Поэтому и художники, и метафизики говорят о репрезентации. Искусство — это «философское» занятие в фундаментальном смысле. Я имею в виду, что если искусство всегда привязано к миру, если искусство — это система репрезентации, тогда художественная связь между изображением и его оригиналом аналогична философской связи между телом и душой или бытием и сущим. Такова цифровая структура метафизики. И если традиционное искусство перемещается в цифровое пространство, может быть, это для него самый естественный путь развития.
Я имею в виду, что если искусство всегда привязано к миру, если искусство — это система репрезентации, тогда художественная связь между изображением и его оригиналом аналогична философской связи между телом и душой или бытием и сущим. Такова цифровая структура метафизики. И если традиционное искусство перемещается в цифровое пространство, может быть, это для него самый естественный путь развития.
— Ларюэль говорит о том, что фотография пытается увековечить проект философии, чтобы предложить себя в качестве факсимиле мира. Участие в этом «проекте философии» обязательно для такого средства коммуникации, как фотография?
— В классическом смысле да, абсолютно. Я думаю, что фотография является прекрасным примером этой структуры, — или даже не только фотография, но камера-обскура в целом. В течение долгого времени камера-обскура влияла на наше понимание основных структур жизни. И также можно представить, что знание или даже традиция западной метафизики по сути являются чем-то вроде камеры-обскуры. Фотография восстанавливает начальную философскую связь с высоким уровнем точности. Франсуа Ларюэль еще говорит, описывая фотографию и искусство, что даже внутри фотографии, если вы уйдете от философского решения (как он это называет), строго имманентное ядро по-прежнему останется. Именно здесь фотография начинает отклоняться от философии.
Фотография восстанавливает начальную философскую связь с высоким уровнем точности. Франсуа Ларюэль еще говорит, описывая фотографию и искусство, что даже внутри фотографии, если вы уйдете от философского решения (как он это называет), строго имманентное ядро по-прежнему останется. Именно здесь фотография начинает отклоняться от философии.
Александр Гэллоуэй
— Какова связь между дигитальностью и метафизикой?
— Это основной вопрос. Я до сих пор изучаю его, поэтому у меня нет всех ответов. Но для меня традиция западной метафизики основана на фундаментальном принципе, который коренится в расщеплении или разрезании (cleaving or cutting), то есть в делании-раздельным и делании-дискретным (a making-distinct or making-discrete). Например, у разных авторов существует различие между земной жизнью, фактически существующими вещами в мире и некой формой, смыслом, или трансцендентальностью, которые наполняют все эти сущности. Есть множество примеров фундаментальной метафизической логики такого рода. Это логика репрезентации, и, как я уже сказал, я думаю, что ее можно наложить на идею дигитальности. Цифровое требует разделения, создания дискретного, различия, которое вмешивается и ломает гладкое или непрерывное явление на отдельные дискретные единицы. Это происходит как в большом, так и в малом масштабе, а деление в самом фундаментальном смысле — деление единого надвое. И это основной вопрос для Ларюэля: что случится, когда одно станет двумя?
Это логика репрезентации, и, как я уже сказал, я думаю, что ее можно наложить на идею дигитальности. Цифровое требует разделения, создания дискретного, различия, которое вмешивается и ломает гладкое или непрерывное явление на отдельные дискретные единицы. Это происходит как в большом, так и в малом масштабе, а деление в самом фундаментальном смысле — деление единого надвое. И это основной вопрос для Ларюэля: что случится, когда одно станет двумя?
— Что такое новые медиа?
— Новые медиа — сложное понятие. Оно не имеет точного определения сегодня, потому что это очень расплывчатый термин. Прилагательному «новый» трудно дать определение, потому что оно относительно по отношению к тому, какие медиа могут быть новыми на данный момент. В середине XIX века была ли фотография новыми медиа? В конце XX века был ли компьютер новыми медиа? Я заметил, что многие стали избегать эту фразу, вместо нее используя более точные термины, как, например, «цифровые медиа». (Это, кстати, не исключительно модернисткое или постмодернисткое понятие, оно существовало с незапамятных времен). Понятие «новые медиа» стало скорее коммерческой категорией, связанной с инновациями, и относится к области популярной, коммерческой культуры и индустрии.
Понятие «новые медиа» стало скорее коммерческой категорией, связанной с инновациями, и относится к области популярной, коммерческой культуры и индустрии.
«Фотография в принципе цифровое средство, и она всегда была цифровой»
— Есть очень много фотографов, которые крайне озабочены идеей онтологии фотографии, и их волнует то, что цифровые технологии влияют на онтологию фотографии.
— У меня на этот счет несколько необычное мнение. Я думаю, что фотография в принципе цифровое средство, — если понимать фотографию в классическом смысле, — и что она всегда была цифровой. Это мнение справедливо, только если мы принимаем предыдущее определение цифрового, которое касается принятия фундаментальной раздробленности мира. Фотография должна отражать или ориентироваться на объект или на мир. Зритель (или камера как «прокси-сервер зрителя») уже разделен, находится отдельно от или противоположен своему содержанию.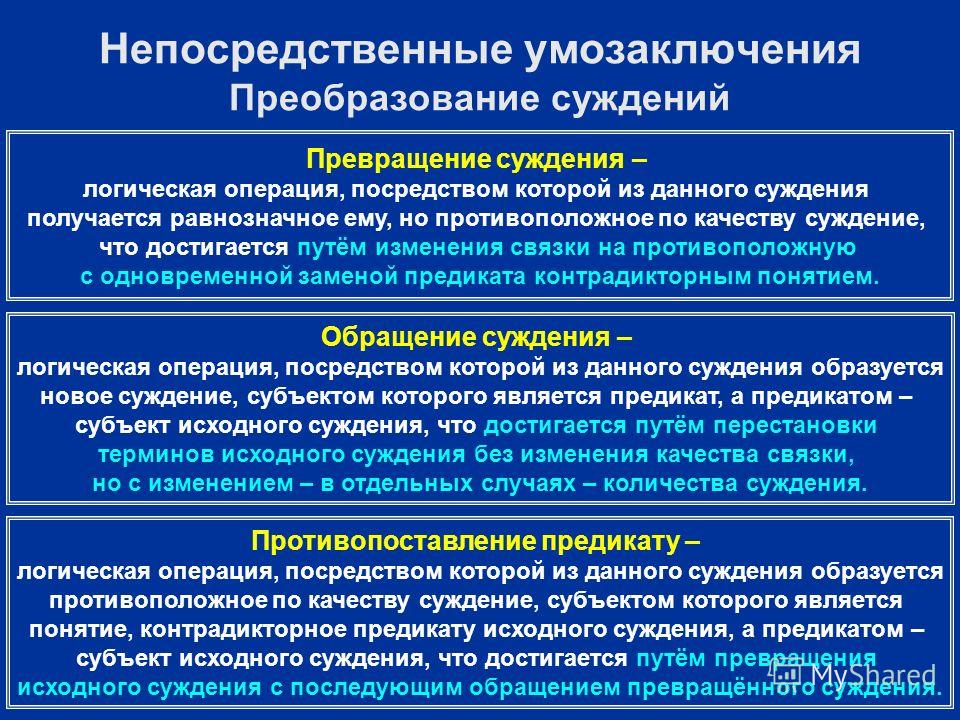 Зритель находится внутри мира, конечно, но структура имманентности не действует. Скорее преобладают структура расстояния, разница, относительность. А если доминантной структурой является расстояние, разница, относительность и так далее, то, насколько я могу судить, эта структура цифровая. Но это не очень удовлетворительный ответ!
Зритель находится внутри мира, конечно, но структура имманентности не действует. Скорее преобладают структура расстояния, разница, относительность. А если доминантной структурой является расстояние, разница, относительность и так далее, то, насколько я могу судить, эта структура цифровая. Но это не очень удовлетворительный ответ!
Многие фотографы более заинтересованы в конкретных технологиях, таких, как использование пиксельного растра (то есть цифровой способ репрезентации), в отличие от более традиционной проявки реактивами. Другими словами, цифровое и аналоговое можно понять следующим образом: если мы живем в метафизической вселенной, раздробленной уже в своем ядре, цифровой инстинкт сохранит раздробленность или даже усилит или распространит ее, чтобы создать бесконечный поток различий, а аналоговый инстинкт попытается заполнить разрыв и создать структуру идентичности. Чтобы быть аналоговой, фотография должна преследовать вторую задачу и создавать общую идентичность между объектом и изображением.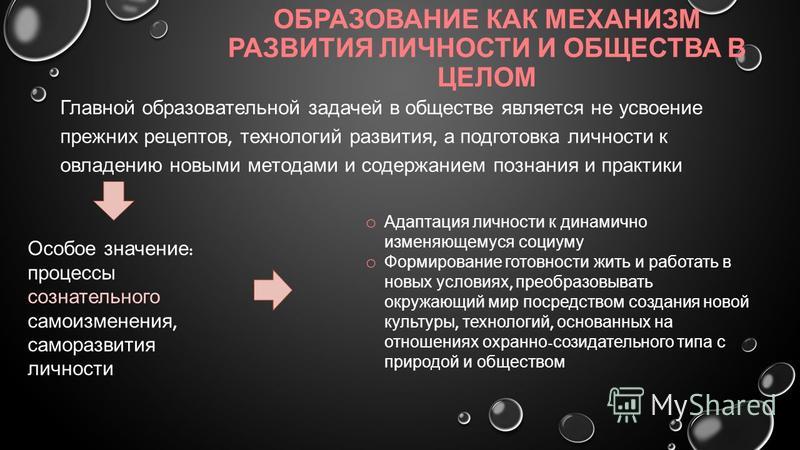
— Вильгельм Воррингер говорит о стремлении натуралиста к репрезентации природы, интересно наблюдать, как фотография подхватила эту идею, и, благодаря идее прозрачной медиации, начиная с позднего концептуального искусства, фотографы решительно пытаются признать фотографические репрезентации за объекты мысли.
— Это очень интересная тенденция. Я вижу ее, например, в работах Жиля Делеза об искусстве, живописи и кино. Но можно включить в нее и фотографию. Когда Делез пишет об искусстве, он отходит от традиции западной метафизики и вместо этого исследует ряд возможностей за пределами цифрового. Он великий мыслитель имманентности, и это видно в его трудах по искусству. Имманентность просто означает, что нечто «остается внутри» самого себя. (По этой причине имманентность часто противопоставляют трансцендентности). Если само изображение получает некую автономную физическую или материальную действительность — изображение как автономное эстетическое пространство — то, возможно, оно начинает оставлять метафизическую или цифровую традицию позади.
— Таким образом, все дело в имманентности?
— Думаю, что так. Проблема с трансцендентным в том, что это всегда обман. Трансцендентное всегда подставляет что-то в качестве точки отсчета, которой подчиняется все остальное. Это может быть Бог или смысл, неважно, — любая мера, которая должна соответствовать или не соответствовать жизни остальных. Ларюэль называет это «самым старым предрассудком». И так, некоторые авторы, в том числе Делез, Ларюэль и другие теоретики радикальной имманентности, пытались преодолеть самый старый предрассудок, отбрасывая трансцендентные категории, и думать о мире, который строго материален или имманентен сам для себя. Другими словами, имманентность — способ прекратить обман.
— Реза Негарестани как-то сказал, что для него искусство должно стать подобно зерну соли внутри устрицы, то есть само себя содержать и само себя приводить к раздражению. В нашем постоянно оцифровывающемся мире какие аспекты, характерные для физических пространств искусства, вам кажутся важными для достижения этой цели?
— Это серьезная проблема. На протяжении большей части XX века художники и критики были более или менее в согласии относительно того, что представляет собой авангардная практика, то есть что значит быть политическим или прогрессивным. Это повлекло за собой антагонизм, разложение, диссеминацию — в общем, все, что помогает штурмовать бастионы власти, чтобы лишить их своей иерархии, централизованной структуры, способности организовываться и контролировать. Таким образом, мы могли бы говорить о великом авангардном жесте «разоблачения аппарата», очевидном у таких фигур, как Годар или Брехт. Тем не менее я думаю, что сегодня все это изменилось.
На протяжении большей части XX века художники и критики были более или менее в согласии относительно того, что представляет собой авангардная практика, то есть что значит быть политическим или прогрессивным. Это повлекло за собой антагонизм, разложение, диссеминацию — в общем, все, что помогает штурмовать бастионы власти, чтобы лишить их своей иерархии, централизованной структуры, способности организовываться и контролировать. Таким образом, мы могли бы говорить о великом авангардном жесте «разоблачения аппарата», очевидном у таких фигур, как Годар или Брехт. Тем не менее я думаю, что сегодня все это изменилось.
«Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий — подлинность, поглощение, внимание, фокус или аура»
Это может показаться циничным, но я подозреваю, что власть поумнела и включила эти авангардные принципы в свои организационные структуры. Сегодня «быть подрывными» стремятся предприниматели из Силиконовой долины.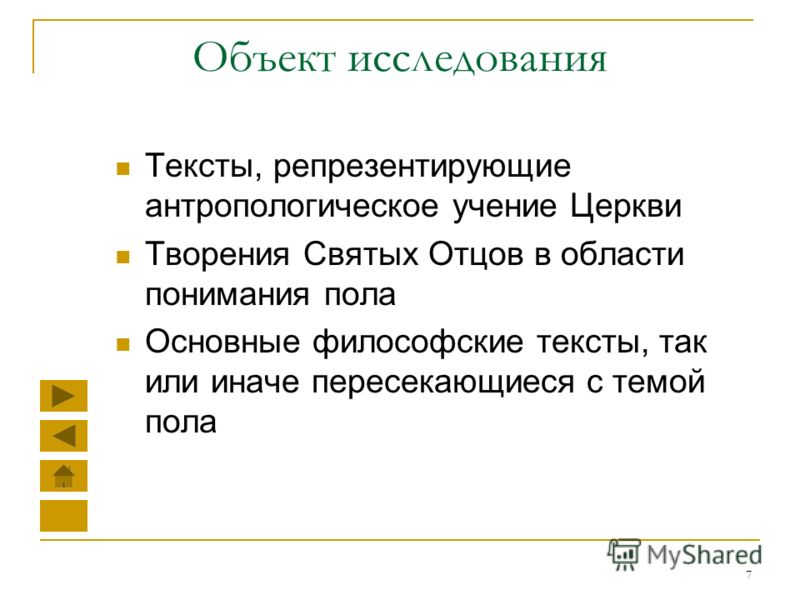 Следовательно, художники стали более осторожны, называя свою деятельность подрывной, разрушительной или повстанческой, так как все это теперь достояние современного капитализма. Так, наконец, отвечая на ваш вопрос, я думаю, сейчас стоит быть немного старомодными. Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий. А именно подлинность, поглощение, внимание, фокус или — воспользуюсь очень немодной концепцией — ауру, как в старом эссе Вальтера Беньямина).
Следовательно, художники стали более осторожны, называя свою деятельность подрывной, разрушительной или повстанческой, так как все это теперь достояние современного капитализма. Так, наконец, отвечая на ваш вопрос, я думаю, сейчас стоит быть немного старомодными. Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий. А именно подлинность, поглощение, внимание, фокус или — воспользуюсь очень немодной концепцией — ауру, как в старом эссе Вальтера Беньямина).
Что касается физических пространств искусства, галерей и музеев, они, возможно, пожелают противостоять выходу в интернет, противостоять мнению о том, что их единственная функция — распространять. Действительно, можно вернуться к старомодной категории «святилища». Возможно, нам нужно больше аутентичных мест, по-настоящему особенных. У Фуко есть провокационная идея «гетеротопии», которая означает пространство, которое в отношении качества принадлежит лишь себе. Эту проблему не трудно решить. В современном мире все беспорядочно; нет ничего, что бы не могло внезапно появится в месте, где оно быть не должно. Все возможно в любом месте в любое время. Конечно, в этом есть преимущества, однако теряются и особенности. Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple.
Все возможно в любом месте в любое время. Конечно, в этом есть преимущества, однако теряются и особенности. Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple.
— Вам не кажется, что приоритет физического пространства искусства, а не его онлайн-версии, может быть расценен как желание продавать там предметы искусства?
— Да, конечно, это еще один ответ на поставленный вопрос. Я вырос в сельском Орегоне, но сегодня я живу в Нью-Йорке, в нескольких минутах езды на метро от центра коммерческого мира искусства с его беспрецедентным уровнем товарности и спекуляции. И в этом проявляется опасность этого возвращения к старомодным категориям. Было бы ошибкой попасть в те же ловушки, что всегда существовали и которые были первоначальным генезисом для исторического авангарда. Но я все еще думаю, что иногда стратегическая территориализация полезна, особенно если мы живем в мире, где логика беспорядочности всеобъемлюща.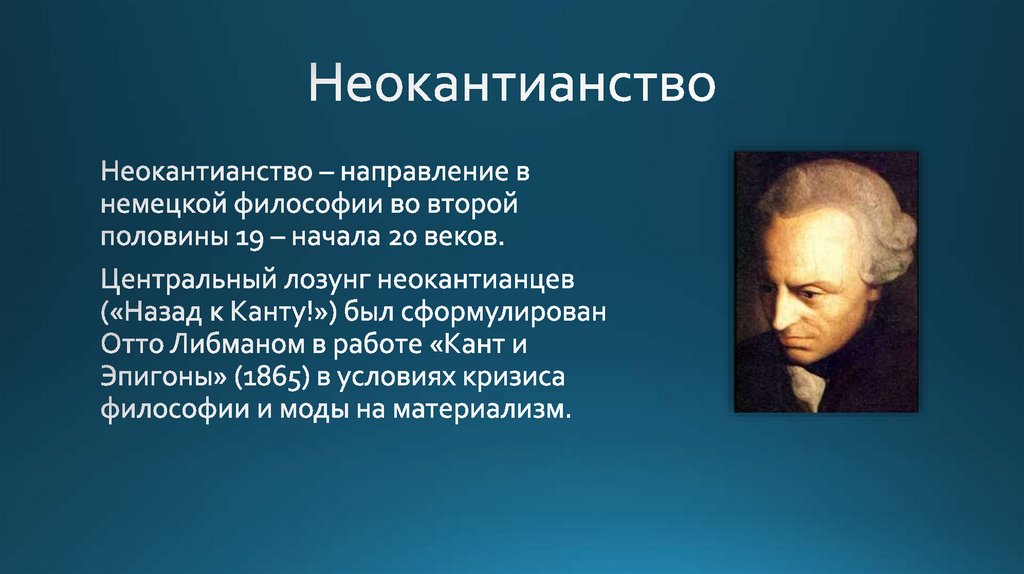
— Как вы думаете, возвращение к старомодным категориям может рассматриваться как реакционное политическое заявление?
— Может быть, хотя это опасно, учитывая, что оно может легко считаться своего рода романтизмом, ностальгией или еще чем-то похуже. Мы все знаем об опасностях территориализации — о националистическом или протофашистском порыве превращать сообщество в сообщество одинаковых. Я полностью осознаю эти опасности и всегда боюсь их. Но я также боюсь капитализма. Силы беспорядочности (promiscuity) связей нужно рассматривать структурно. Сети являются неупорядочными технологиями; они позволяют вещам соединяться с местами и появляться в местах, где они никогда не должны были быть. Беспорядочность может быть чрезвычайно полезной. И, конечно, играет важную роль в любой критике морали или пуританского самодовольства. Чтобы быть более конкретным в плане истории, тактика беспорядочности была очень важна в 1960-х, в частности, в попытке прорваться через социальные репрессии и изобрести новые субъектные позиции.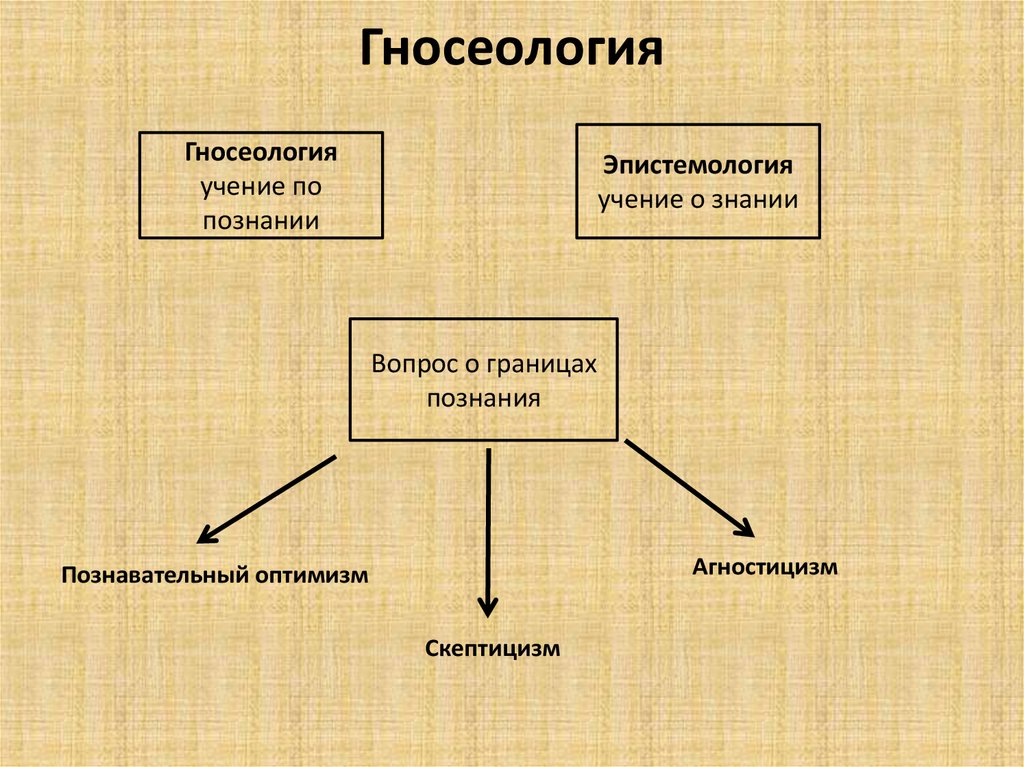 Тем не менее я думаю, что польза беспорядочности как структурной тактики, наконец, завершила свое развитие. Недавно я размышлял о «предохранении» (prophylactic) — не без доли юмора, — как альтернативе беспорядочности. Предохранение означает безопасность, защиту или возведение стены, от древнегреческого слова prophulaktikos (хранитель, стражник).
Тем не менее я думаю, что польза беспорядочности как структурной тактики, наконец, завершила свое развитие. Недавно я размышлял о «предохранении» (prophylactic) — не без доли юмора, — как альтернативе беспорядочности. Предохранение означает безопасность, защиту или возведение стены, от древнегреческого слова prophulaktikos (хранитель, стражник).
Если Делез является идеальным мыслителем беспорядочности, в которой все всегда взаимно детерриториализируется, где все всегда взаимно искажается, то Ларюэль является идеальным мыслителем предохранения, его теоретическая схема не содержит обмена, диссеминации и взаимности. Смешение, чередование или диалектическую оппозицию как элементарные структуры Ларюэль воинственно отрицает. Предохранение невероятно интересно хотя бы как мысленный эксперимент. Но является даже чем-то большим, потому что Ларюэль представляет радикальный отход от нынешнего положения дел. Пока не ясно, куда это приведет, но мне эта идея кажется гораздо более перспективной, чем перекладывать тактику беспорядочности, которая подпитывает гиперкапитализм последние несколько десятилетий.
© Jon Rafman
— Как на искусство влияет онлайн-присутствие?
— Интернет — чрезвычайно сложная и многогранная технология и социальная инфраструктура. В его сердце — сделка Фауста. Конечно, интернет — самая основная технология гетерогенности, различия и радикальной множественности. Вспомните все категории Делеза, которые так полезны и интересны. Но в то же время существует абсолютная стандартизация или однородность на уровне тотальной системы. Это сделка Фауста. Я писал об этом в контексте интернет-протоколов, сетевых стандартов, которые регулируют существование всех форм коммуникации в интернете. Протоколы очень незначительные, простые и краткие. И да, они разработаны с использованием открытого демократического обсуждения, общественной проверки благонадежности, экспериментов, чисток и других одобренных социальных практик. Но они также тотальны, они являются абсолютами. Нельзя нарушать протокол IP. Одновременно это сделать очень легко — но, если вы это сделаете, вы заплатите тем, что вас полностью отключат. Это часть сделки Фауста. Вместе с остальным онлайн-миром искусство должно быть готово поддаться радикальному выравниванию, некой радикальной стандартизации или гомогенизации. Все ставится на один уровень; все подчиняется одним и тем же простым схемам кодирования, как графические форматы, которые делают рендеринг цвета и создают изображения в рамках определенных строгих параметров. Это фундаментальный сдвиг. Вы теряете качественное различие во всей этой неразберихе.
Но они также тотальны, они являются абсолютами. Нельзя нарушать протокол IP. Одновременно это сделать очень легко — но, если вы это сделаете, вы заплатите тем, что вас полностью отключат. Это часть сделки Фауста. Вместе с остальным онлайн-миром искусство должно быть готово поддаться радикальному выравниванию, некой радикальной стандартизации или гомогенизации. Все ставится на один уровень; все подчиняется одним и тем же простым схемам кодирования, как графические форматы, которые делают рендеринг цвета и создают изображения в рамках определенных строгих параметров. Это фундаментальный сдвиг. Вы теряете качественное различие во всей этой неразберихе.
— Вы говорите, что фотография по своей сути — цифровое искусство. Тональные качества фотографии вне сети можно оценить лучше, чем онлайн. Думаете, это может лишить художников их роли авторов изображений и, возможно, делегировать роль аудитории экрану компьютера, создавая еще больше посредничества в восприятии изображений?
— Безусловно, да.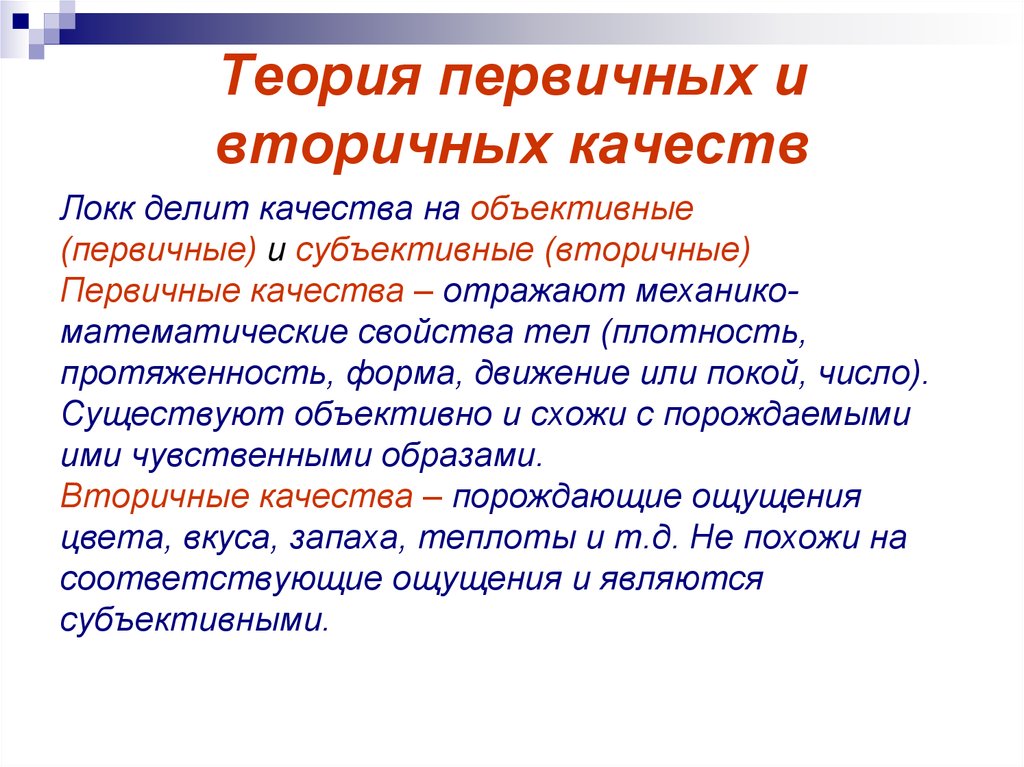 То, что вы описываете, это, по сути, старый святой Грааль авангарда: арт-объект модулируется в зависимости от участия всех, кто имеет к нему отношение. Но сегодня это уже не принцип авангарда, он встроен в способ производства и в современные технологии. Другими словами, старые принципы авангарда начала XX века были кооптированы и интегрированы. Мой наивный ответ: хорошо, если это так, но, может быть, нам надо из этого извлечь то, чем должно быть искусство (или авангард). Печально видеть нынешние произведения искусства или художественные движения, которые пользуются теми же хитрыми приемами, которые переняли Google или Amazon. Например, ничего радикального в интерактивности искусства сегодня нет. Даже наоборот. В рамках основы Web 2.0 интерактивность в лучшем случае обманчива, если не реакционна. Web 2.0 требует постоянного, часто непроизвольного, многостороннего взаимодействия объектов и людей. Если авангард все еще возможен сегодня, то он должен придерживаться первоначального предложения, что надо оставить этот мир, радикально отступить от существующего порядка.
То, что вы описываете, это, по сути, старый святой Грааль авангарда: арт-объект модулируется в зависимости от участия всех, кто имеет к нему отношение. Но сегодня это уже не принцип авангарда, он встроен в способ производства и в современные технологии. Другими словами, старые принципы авангарда начала XX века были кооптированы и интегрированы. Мой наивный ответ: хорошо, если это так, но, может быть, нам надо из этого извлечь то, чем должно быть искусство (или авангард). Печально видеть нынешние произведения искусства или художественные движения, которые пользуются теми же хитрыми приемами, которые переняли Google или Amazon. Например, ничего радикального в интерактивности искусства сегодня нет. Даже наоборот. В рамках основы Web 2.0 интерактивность в лучшем случае обманчива, если не реакционна. Web 2.0 требует постоянного, часто непроизвольного, многостороннего взаимодействия объектов и людей. Если авангард все еще возможен сегодня, то он должен придерживаться первоначального предложения, что надо оставить этот мир, радикально отступить от существующего порядка.
«Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple»
— Утрачивают ли работы, поглощенные интернетом, свою способность вызывать благоговение, преклонение? Почему или почему нет?
— Трудный вопрос. Прямолинейный ответ — да. Но хочется его усложнить. Для этого рассмотрим идею Беньямина о разрушении ауры. Безусловно, можно наблюдать такое разложение или распад ауры. В старомодном смысле, точно может быть полезно воссоздать особенность или подлинность определенных переживаний. Такие подходы все более ценятся в мире, где подлинность и особенность обесцениваются. Но можно и по-другому ответить на этот вопрос. Я имею в виду кого-то вроде Бернара Стиглера или даже Маршалла Маклюэна, и то, что отношение человечества к технологиям не является одинаковым. Оно всегда временное или локальное, и имеет тенденцию эволюционировать. Вопрос не в том, что «есть некоторая абсолютная разница между сущностью человечества и технологическим протезом, чуждым ей?» Это неправильный вопрос.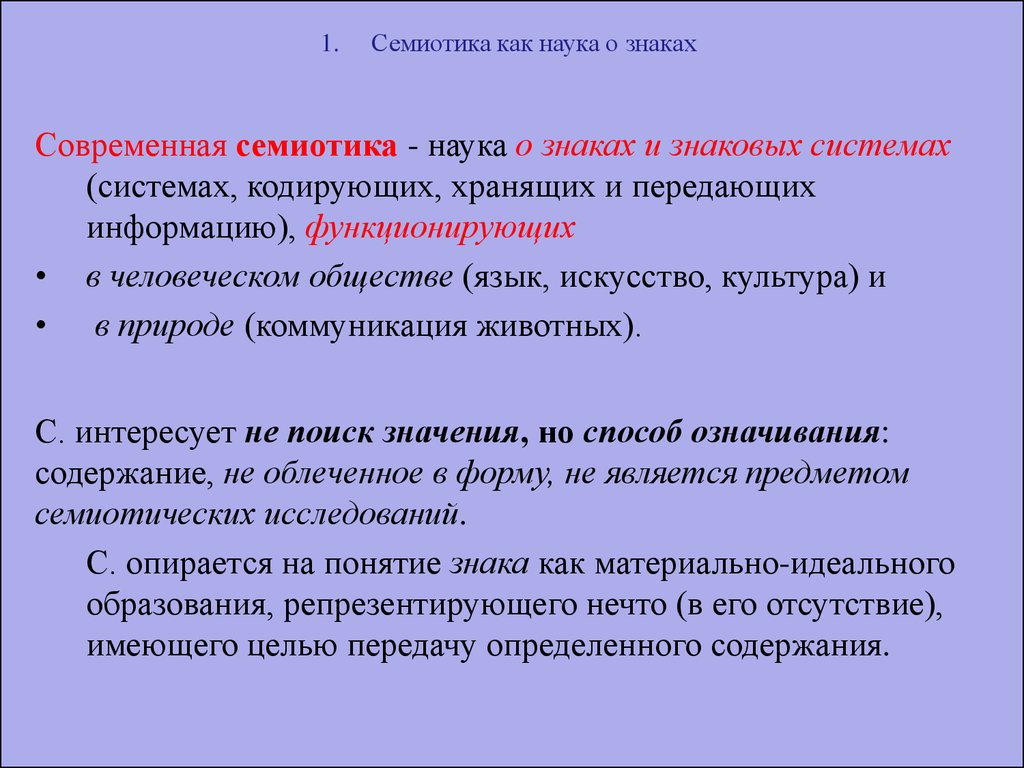 Вместо этого нужно исследовать пропасть, где она находится и куда она движется со временем. Я могу писать карандашом и не чувствовать себя искаженным какой-то чуждой технологией. Это карандаш, он был интегрирован в человеческое сознание. Одежда является еще одним хорошим примером: это абсолютно искусственная внешняя технология, но тем не менее она вполне натурализовалась в человеческой жизни. Размер этого пробела важен, об этом пишет Стиглер. Когда новая технология только появляется, эта пропасть может быть довольно большой. Может потребоваться длительный период взаимного развития (для того, чтобы он уменьшился). Эволюция человека-машины, возможно, сократит этот пробел. Подумайте о всех тех технологиях, которые считались ужасающими или чужеродными в прошлом, а позже нормализовались в человеческом опыте. Возможно, явления, которые волнуют людей сегодня — например, что сети усугубляют расстройство внимания — просто отличаются от традиционных способов выстраивания отношений. Может быть, нам просто надо подождать развития эволюции, и эти беспокойства рассеются сами собой.
Вместо этого нужно исследовать пропасть, где она находится и куда она движется со временем. Я могу писать карандашом и не чувствовать себя искаженным какой-то чуждой технологией. Это карандаш, он был интегрирован в человеческое сознание. Одежда является еще одним хорошим примером: это абсолютно искусственная внешняя технология, но тем не менее она вполне натурализовалась в человеческой жизни. Размер этого пробела важен, об этом пишет Стиглер. Когда новая технология только появляется, эта пропасть может быть довольно большой. Может потребоваться длительный период взаимного развития (для того, чтобы он уменьшился). Эволюция человека-машины, возможно, сократит этот пробел. Подумайте о всех тех технологиях, которые считались ужасающими или чужеродными в прошлом, а позже нормализовались в человеческом опыте. Возможно, явления, которые волнуют людей сегодня — например, что сети усугубляют расстройство внимания — просто отличаются от традиционных способов выстраивания отношений. Может быть, нам просто надо подождать развития эволюции, и эти беспокойства рассеются сами собой.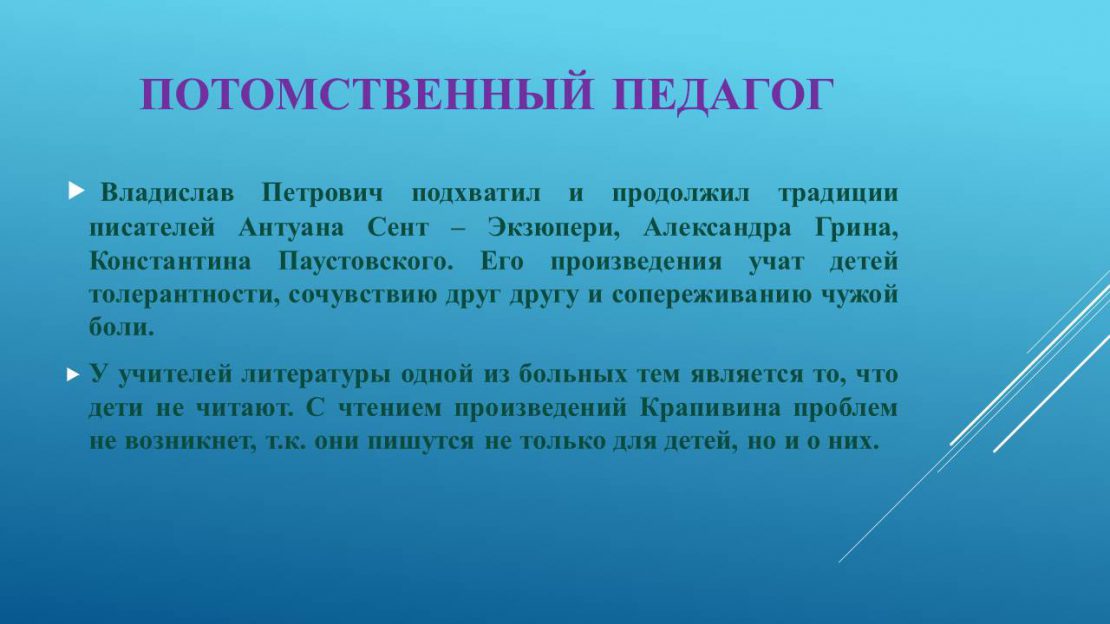
Перевод: Алена Кудрявцева
“История репрезентаций” по-французски и обновление историописания • З. А. ЧЕКАНЦЕВА (ZINAIDA CHEKANTSEVA) • РОИИ
Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда No 15-18-00135 П «Индивид, этнос, религия в процессе межкультурного взаимодействия: российский и мировой опыт формирования общегражданской идентичности».
В 1980–1990-е гг. в условиях небывалого умножения технических посредников между человеком и реальностью концепт репрезентация стал ключевым понятием культурного поворота в историографии. Французские историки ментальностей вписали его в антропологически ориентированную социальную историю. В статье обсуждается «история репрезентаций» по-французски и вклад историописания такого типа в расширение возможностей исторического познания.
Ключевые слова: репрезентация, социальное, культурный поворот, воображение, образ, практики, аффект, идентичность
Чеканцева З. А. “История репрезентаций” по-французски и обновление историописания // Диалог со временем. 2020. Вып. 72. С. 8-22. https://roii.ru/r/1/72.1
А. “История репрезентаций” по-французски и обновление историописания // Диалог со временем. 2020. Вып. 72. С. 8-22. https://roii.ru/r/1/72.1
Репрезентация издавна имеет статус одного из ключевых понятий
познания, поскольку органично связана с проблематикой человеческого
восприятия. Неудивительно, что содержание этого понятия было и остается
предметом дискуссий. Так, Л.А. Микешина обосновывает необходимость его
переосмысления за пределами наивно-реалистической теории отражения, как
и обогащения в контексте неклассической эпистемологии. «Репрезентация
не является буквально отражательной процедурой, – пишет философ, – но
сочетает в себе моменты образности и конструирования, воображения и
поиска посредников, через которые субъект представляет не только объект,
но и свое присутствие. В целом понятия отражения, представления,
репрезентации тесно связаны между собой, входят в одно «гнездо», однако
за их достаточно тонкими различиями часто стоят самостоятельные
познавательные концепции»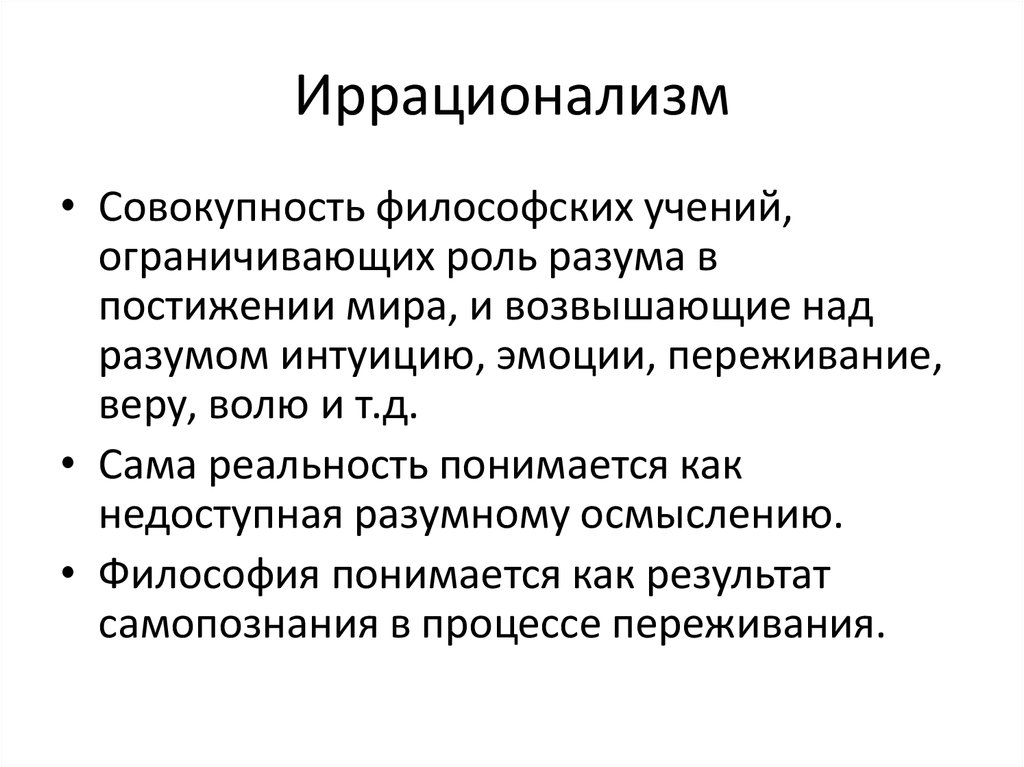 Согласно М.Б. Ямпольскому, «репрезентация
располагается между реальностью и миром платоновских идей. Ее сферой
поэтому оказывается воображение. Но отношения репрезентации с идеями и
реальностью никогда не бывают простыми. Область репрезентации – это
область неопределенного. Как неопределенен онтологический статус
присутствия, одновременно являющийся отсутствием»2. Поскольку
репрезентация «является «фактом культуры»3 и имеет собственную
историю, – уточняет Л.А. Микешина, – очевидна ее относительность: все
репрезентации несут на себе печать школы, парадигмы, научного
сообщества, к которому принадлежит исследователь, а также всей его
системы ценностей. Через репрезентации реальный мир предстает в познании
в различных «обликах», что обеспечивает «объемность» знаний и
разнообразие способов их получения»4. Историки работают с этим
понятием не одно столетие, но широта связанной с ним проблематики и
полисемия концепта репрезентация5 не вполне соответствовали задачам
автономной исторической дисциплины, не склонной вникать в философскую
проблему соотношения реальности и ее познания.
Согласно М.Б. Ямпольскому, «репрезентация
располагается между реальностью и миром платоновских идей. Ее сферой
поэтому оказывается воображение. Но отношения репрезентации с идеями и
реальностью никогда не бывают простыми. Область репрезентации – это
область неопределенного. Как неопределенен онтологический статус
присутствия, одновременно являющийся отсутствием»2. Поскольку
репрезентация «является «фактом культуры»3 и имеет собственную
историю, – уточняет Л.А. Микешина, – очевидна ее относительность: все
репрезентации несут на себе печать школы, парадигмы, научного
сообщества, к которому принадлежит исследователь, а также всей его
системы ценностей. Через репрезентации реальный мир предстает в познании
в различных «обликах», что обеспечивает «объемность» знаний и
разнообразие способов их получения»4. Историки работают с этим
понятием не одно столетие, но широта связанной с ним проблематики и
полисемия концепта репрезентация5 не вполне соответствовали задачам
автономной исторической дисциплины, не склонной вникать в философскую
проблему соотношения реальности и ее познания. Однако в последние
десятилетия XX века в условиях беспрецедентного умножения посредников
между человеком и реальностью концепт репрезентация наполнился новым
содержанием и стал главным понятием культурного поворота в
историографии6.
Однако в последние
десятилетия XX века в условиях беспрецедентного умножения посредников
между человеком и реальностью концепт репрезентация наполнился новым
содержанием и стал главным понятием культурного поворота в
историографии6.
В 2015 г. во французском журнале «Общества и репрезентации» в связи с его двадцатилетием была опубликована подборка текстов французских историков разных поколений о понятии репрезентация и его месте в историописании7. Эти материалы, наряду с конкретно-историческими исследованиями французских ученых и историографическими текстами, созданными в русле интеллектуальной истории, составляют документальную основу данного исследования. Не претендуя на полноту, я намерена показать особенности «истории репрезентаций» по-французски и ее влияние на историческое познание.
При осмыслении понятия репрезентация учитывают его критику8 и то,
что сделано в разных национальных традициях в ходе культурного поворота.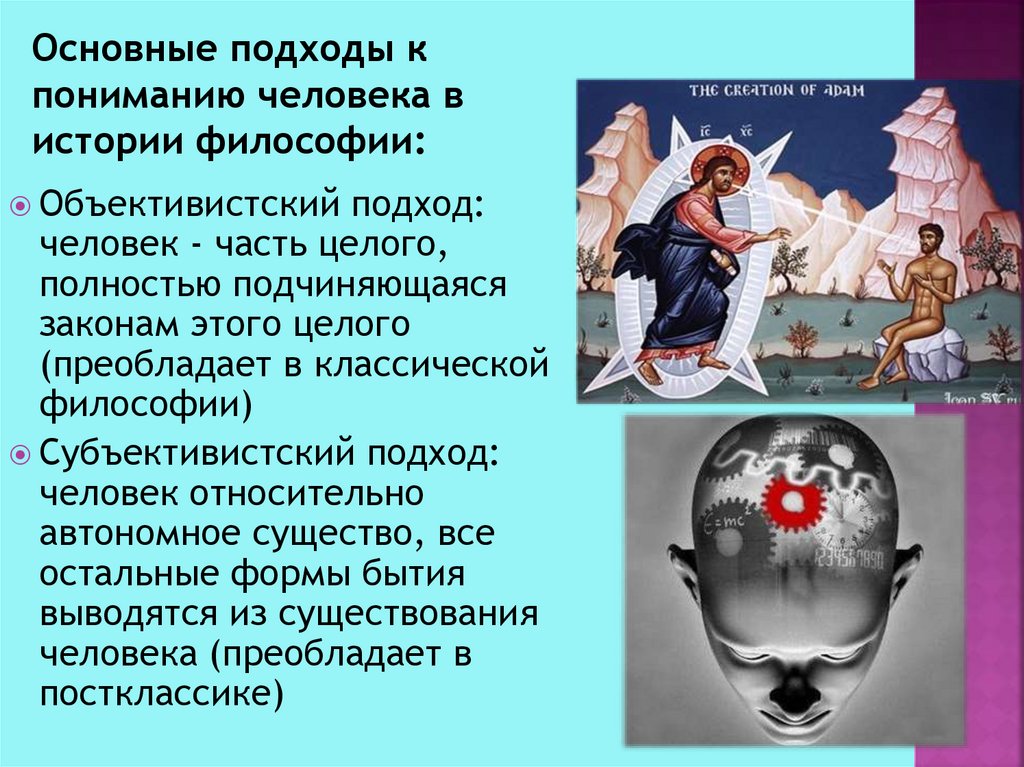 Роже Шартье отметил влияние на французские исследования в поле,
получившем название «истории репрезентаций» (Мишель Вовель),
американского журнала Representations, созданного в 1983 г. Однако в
английском варианте доминировало эстетическое восприятие понятия и его
применение к изучению литературных текстов и изображений, т.е.
ментальных и визуальных репрезентаций. Французские историки, в
соответствии с большим значением социальной истории в национальной
историографической традиции, стремились использовать понятие
репрезентации прежде всего для изучения многоликого мира социокультурных
практик. В этом видят одно из отличий культурного поворота по-французски
от Cultural Studies в англо-саксонском мире9.
Роже Шартье отметил влияние на французские исследования в поле,
получившем название «истории репрезентаций» (Мишель Вовель),
американского журнала Representations, созданного в 1983 г. Однако в
английском варианте доминировало эстетическое восприятие понятия и его
применение к изучению литературных текстов и изображений, т.е.
ментальных и визуальных репрезентаций. Французские историки, в
соответствии с большим значением социальной истории в национальной
историографической традиции, стремились использовать понятие
репрезентации прежде всего для изучения многоликого мира социокультурных
практик. В этом видят одно из отличий культурного поворота по-французски
от Cultural Studies в англо-саксонском мире9.
Границы культурной истории весьма расплывчаты, методы и подходы
разнообразны. Это «дисциплина-перекресток»10, в которой самое
интересное проявляется на стыке дисциплин. Стремясь интегрировать
историю идей, историю литературы, историю искусств, предметные поля, в
которых длительное время доминировали интерналистские подходы,
культурная история репрезентаций сотрудничает с социологией,
антропологией, этнографией, психологией, психоанализом, а также
философией.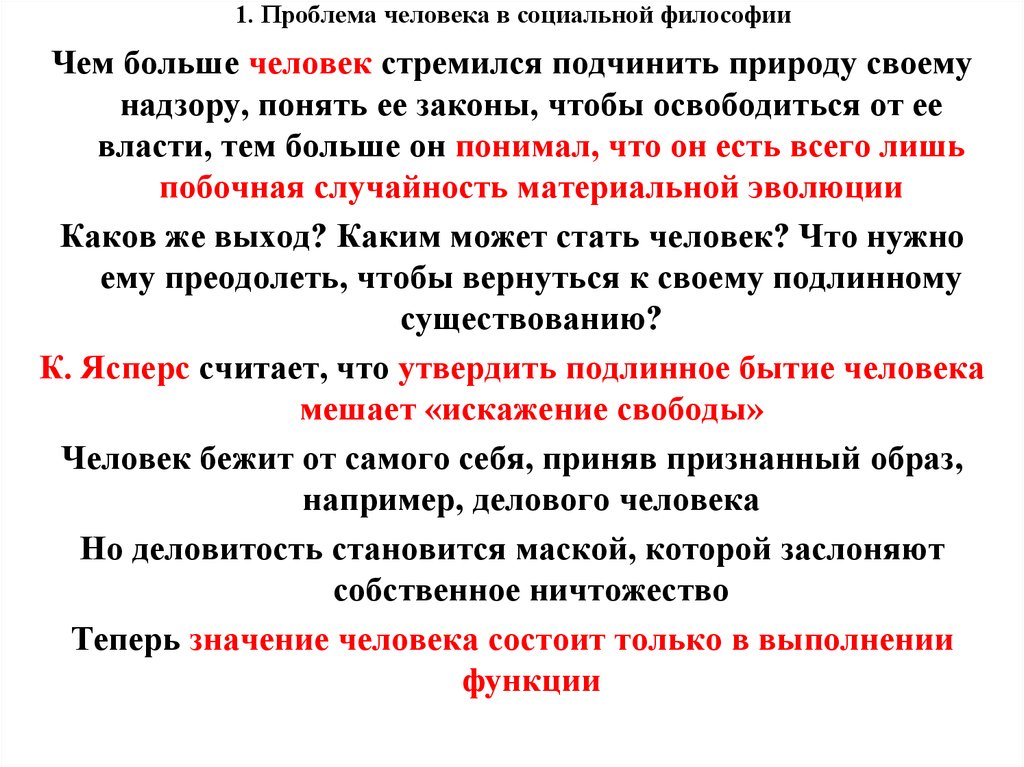 Она принципиально междисциплинарна, точнее для дней
сегодняшних трансдисциплинарна, и это во многом определяет ее
популярность и успех. Особенно интересно, что работа с репрезентациями в
таком режиме позволяет экспериментировать с письменным текстом на грани
между историописанием и искусством.
Она принципиально междисциплинарна, точнее для дней
сегодняшних трансдисциплинарна, и это во многом определяет ее
популярность и успех. Особенно интересно, что работа с репрезентациями в
таком режиме позволяет экспериментировать с письменным текстом на грани
между историописанием и искусством.
Вот как определяется репрезентация в «Словаре социальных наук» под
редакцией Андре Бюргьера: «Всякая репрезентация, как показал всем
своим творчеством Луи Марен имеет двойное измерение: транзитивное и
рефлексивное, прозрачное и непрозрачное. Это определение, если оно
понимается в терминах истории репрезентаций, означает, что <…> любая
репрезентация (визуальная, литературная или ментальная) не является
только зеркальным отражением реальности, она также продукт действия,
посредством которого репрезентация конституируется, и в котором
проявляет себя носитель этого действия»11. В процессе создания
репрезентации участвует не только исторический персонаж, но и сам
исследователь в ходе историографической операции. Иными словами,
репрезентация – это не то, что возникает в голове субъекта действия и
так или иначе отражается в источниках. Напротив, понятие репрезентация отсылает не «внутрь» познающего субъекта, а в социокультурные контексты
его жизнедеятельности, включающие повседневные практики и
коммуникативную активность. Кроме того, репрезентация – это не только
слепок с конкретного объекта, но и сложная познавательная процедура,
обусловленная идентичностью субъекта, историей и культурой.
Иными словами,
репрезентация – это не то, что возникает в голове субъекта действия и
так или иначе отражается в источниках. Напротив, понятие репрезентация отсылает не «внутрь» познающего субъекта, а в социокультурные контексты
его жизнедеятельности, включающие повседневные практики и
коммуникативную активность. Кроме того, репрезентация – это не только
слепок с конкретного объекта, но и сложная познавательная процедура,
обусловленная идентичностью субъекта, историей и культурой.
В начале нового тысячелетия в центре изучения репрезентаций оказалась тема образов. Ее обсуждение заслуживает специального внимания12. Ограничусь здесь лишь констатацией, что знаменитый исторический фестиваль в Блуа, на который ежегодно, начиная с 1998 г. собираются десятки тысяч людей не только из Франции, но и из других стран, в 2018 г. был посвящен именно этой теме13.
Во Франции история репрезентаций формировалась медленно. Понятие
культурная история прижилось только в 1990-е гг.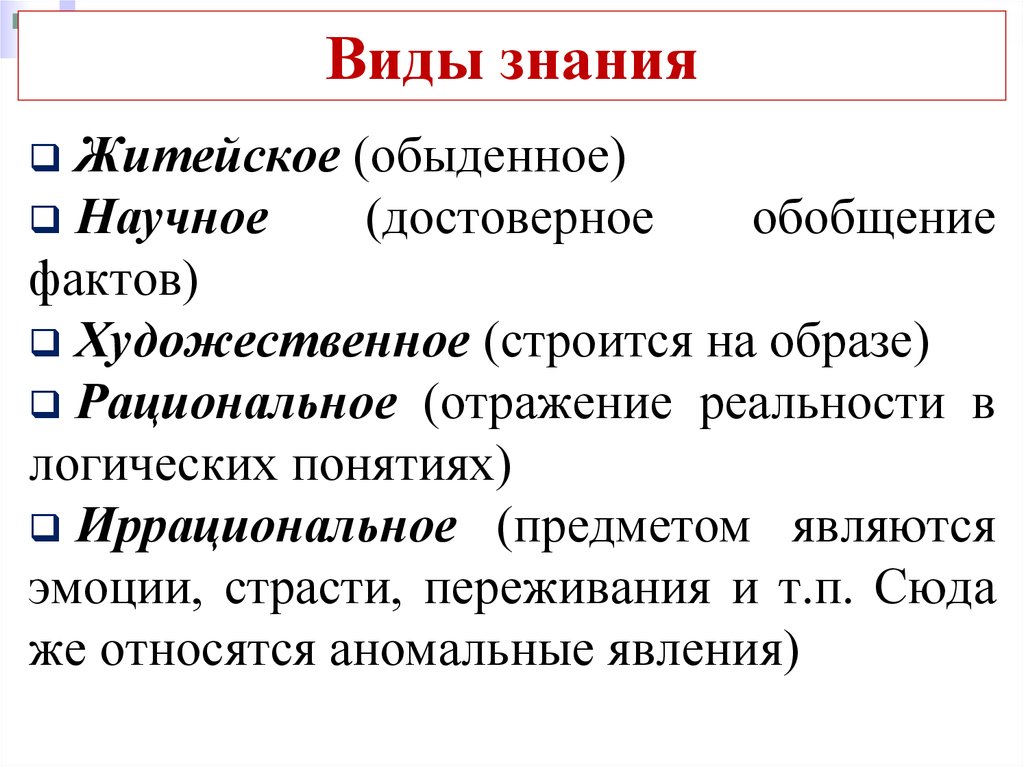 Ассоциация историков
за развитие культурной истории была создана в 1999 г. Для становления
истории репрезентаций много сделали историки-новисты (модернисты).
Впрочем, по мнению Ж.-Ф. Сиринелли, этот тип историописания проявил себя
как полноценная субдисциплина лишь когда в работу включились
специалисты по истории настоящего времени14. Трудно переоценить и
вклад французских медиевистов15. Ж. Ле Гофф писал, что коллективный
труд «Культурная история Франции» (от античности до современности),
можно считать «манифестом культурной истории»16. Кульминация
культурной истории во Франции приходится на конец 1980-х – середину
2010-х гг.17 В первое десятилетие XXI в. выходят главные обобщающие
труды о культурной истории во Франции и в других странах18. По мнению
Доминика Калифа, в этот «момент» французской историографии оформляются
две основные концепции культурных феноменов: первая, по-прежнему
актуальная, опирается на социальный, экономический и политический
подходы к изучению культурной продукции и территории культуры; вторая
связана с антропологическим подходом, с позиций которого культура
представляет собой прежде всего путь к постижению социального19.
Ассоциация историков
за развитие культурной истории была создана в 1999 г. Для становления
истории репрезентаций много сделали историки-новисты (модернисты).
Впрочем, по мнению Ж.-Ф. Сиринелли, этот тип историописания проявил себя
как полноценная субдисциплина лишь когда в работу включились
специалисты по истории настоящего времени14. Трудно переоценить и
вклад французских медиевистов15. Ж. Ле Гофф писал, что коллективный
труд «Культурная история Франции» (от античности до современности),
можно считать «манифестом культурной истории»16. Кульминация
культурной истории во Франции приходится на конец 1980-х – середину
2010-х гг.17 В первое десятилетие XXI в. выходят главные обобщающие
труды о культурной истории во Франции и в других странах18. По мнению
Доминика Калифа, в этот «момент» французской историографии оформляются
две основные концепции культурных феноменов: первая, по-прежнему
актуальная, опирается на социальный, экономический и политический
подходы к изучению культурной продукции и территории культуры; вторая
связана с антропологическим подходом, с позиций которого культура
представляет собой прежде всего путь к постижению социального19.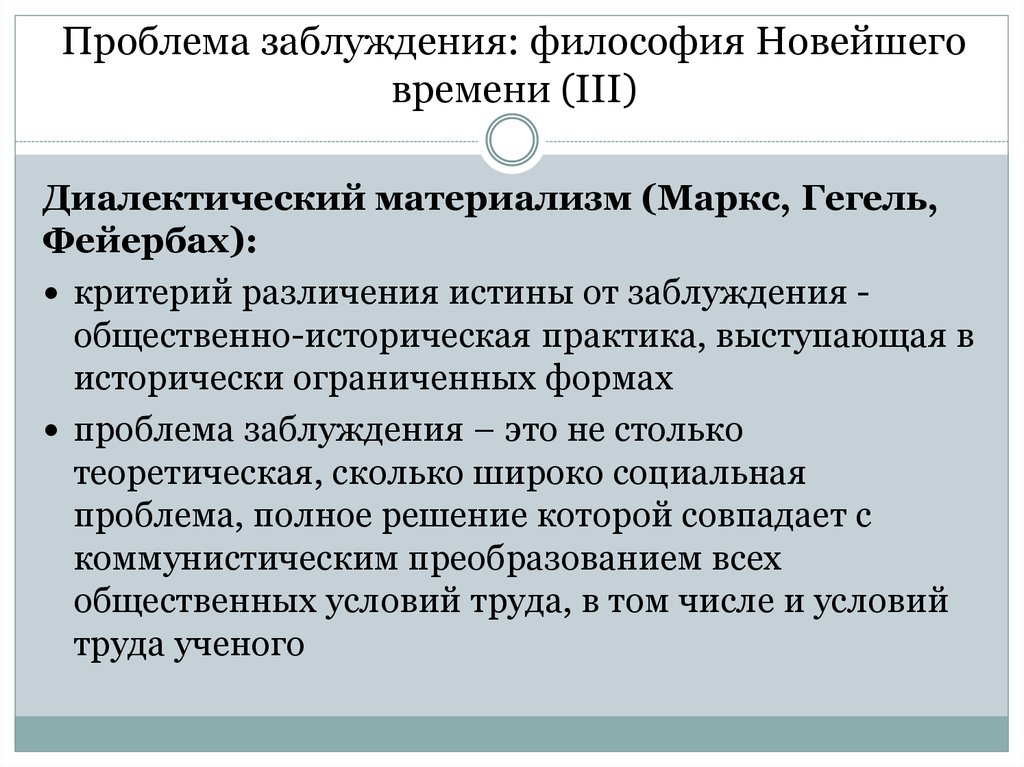 Во
втором случае ключевым понятием культурной истории является понятие репрезентация и такой способ изучения истории называют «социальной
историей репрезентаций» (Паскаль Ори). Содержательно и эпистемологически
она отличается от истории культуры в традиционном смысле20.
Во
втором случае ключевым понятием культурной истории является понятие репрезентация и такой способ изучения истории называют «социальной
историей репрезентаций» (Паскаль Ори). Содержательно и эпистемологически
она отличается от истории культуры в традиционном смысле20.
История репрезентаций по-французски представляет собой изучение
совокупности способов, посредством которых индивиды и группы
воспринимают и придают смысл миру, который их окружает. Культура
присутствует в такой истории как полноценное измерение Клио,
объединяющее анализ оценок, чувств, ценностей, норм, убеждений,
фантазий, субъективных переживаний… Шартье полагает, что
«репрезентация в историописании – это условие производства знания, а
вовсе не исключительная его форма»21. «Используя понятие
репрезентации, – пишет Филипп Артьер, – я прежде всего имею в виду
включение в ведущую историографическую тенденцию. Для моего поколения
трудно думать об этом понятии, не усвоив то, что было сказано и сделано
Луи Мареном, Роже Шартье и Пьером Антуаном Фабром.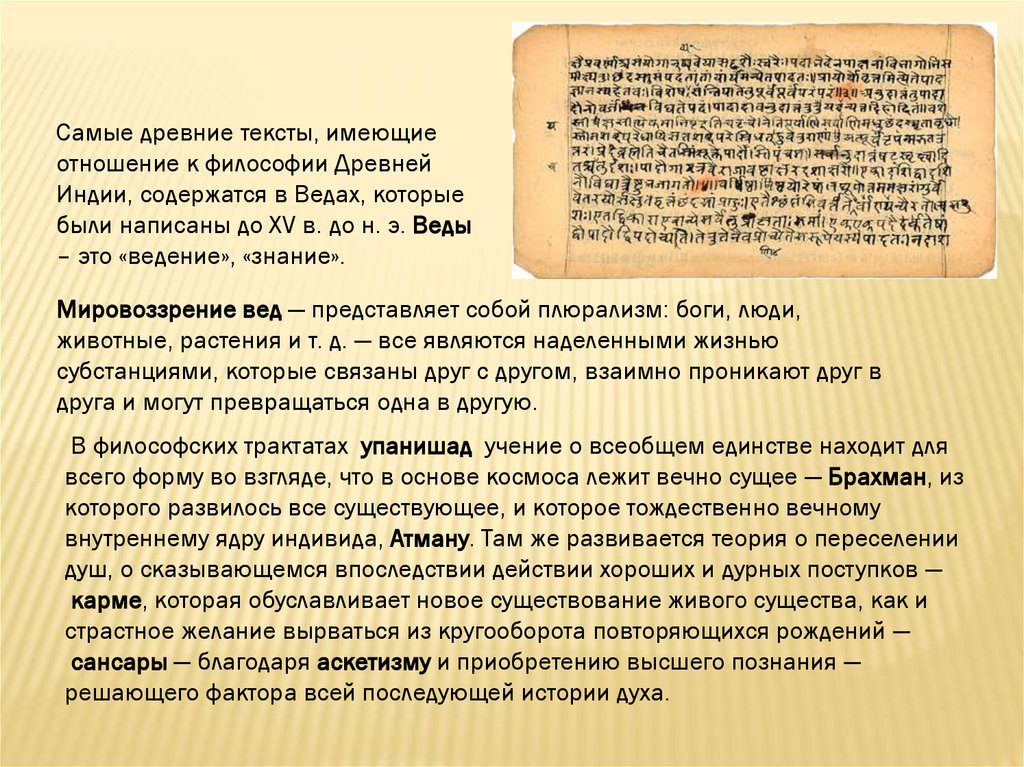 В частности, они
показали, что репрезентация, с одной стороны, никогда не будет просто
целиком получена из прошлого, но для историка будет также вопрошанием,
присутствующим при ее передаче в настоящем; с другой стороны, это не
только отражение определенной реальности, но продукт действия.
Последний аспект, воплощенный в жестах производства репрезентации, мне
представляется самым важным сегодня. В том числе потому, что анализ
такого жеста позволяет нейтрализовать понятие автора и принять термин
«производитель»»22. Вероятно, именно в связи с культурным поворотом
на пороге третьего тысячелетия во Франции получила широкое
распространение синтагма «фабрика истории» применительно к историческому
познанию в широком смысле.
В частности, они
показали, что репрезентация, с одной стороны, никогда не будет просто
целиком получена из прошлого, но для историка будет также вопрошанием,
присутствующим при ее передаче в настоящем; с другой стороны, это не
только отражение определенной реальности, но продукт действия.
Последний аспект, воплощенный в жестах производства репрезентации, мне
представляется самым важным сегодня. В том числе потому, что анализ
такого жеста позволяет нейтрализовать понятие автора и принять термин
«производитель»»22. Вероятно, именно в связи с культурным поворотом
на пороге третьего тысячелетия во Франции получила широкое
распространение синтагма «фабрика истории» применительно к историческому
познанию в широком смысле.
Историю репрезентаций во Франции называют «эмансипированной дочерью
истории ментальностей» (Р. Шартье), потому что многое в таком
историописании было введено в научный оборот историками ментальностей. В
конце прошлого века М. Вовель, размышляя о том, что понятие
репрезентации вносит в историю культуры, писал даже, что история
коллективных репрезентаций вписывается в «приключения истории
ментальностей»23. Уже Жорж Лефевр, Марк Блок, Люсьен Февр, Жорж Дюби,
Филипп Ариес, изучая установки сознания и поведения, воображаемое,
символическое и аффективное, по сути изучали коллективные репрезентации,
хотя в среде историков такого понятия еще не было. В начале XX в. оно
было введено в социологию Марселем Моссом и Эмилем Дюркгеймом, но
историки долго его воспринимали как компонент социальной психологии и
массового сознания24. Для них это были коллективные представления, понимаемые в русле теории отражения. Однако в конкретно-исторических
работа в жанре истории ментальностей речь также шла о поведенческих
установках и привычках, включающих в себя сенсорные реакции людей, их
способы восприятия и эмоции. Поэтому, по мнению Вовеля, понятие репрезентация в историографию культуры вошло скорее, как новый подход,
а не открытие25.
Уже Жорж Лефевр, Марк Блок, Люсьен Февр, Жорж Дюби,
Филипп Ариес, изучая установки сознания и поведения, воображаемое,
символическое и аффективное, по сути изучали коллективные репрезентации,
хотя в среде историков такого понятия еще не было. В начале XX в. оно
было введено в социологию Марселем Моссом и Эмилем Дюркгеймом, но
историки долго его воспринимали как компонент социальной психологии и
массового сознания24. Для них это были коллективные представления, понимаемые в русле теории отражения. Однако в конкретно-исторических
работа в жанре истории ментальностей речь также шла о поведенческих
установках и привычках, включающих в себя сенсорные реакции людей, их
способы восприятия и эмоции. Поэтому, по мнению Вовеля, понятие репрезентация в историографию культуры вошло скорее, как новый подход,
а не открытие25.
В отличие от историков ментальностей, изучавших культурные миры,
используя подходы традиционной социальной истории и, в т.ч., истории
серийной, историки репрезентаций интересуются в первую очередь историей
культурных практик, а также дискурсов о них, и через практики и дискурсы
стремятся показать социокультурные связи конкретного социума и
характерные для него идентификационные процессы. Изучаются не столько
культурные явления как таковые, но то, каким образом они производятся,
распространяются, присваиваются, используются думающими, чувствующими и
действующими людьми.
Изучаются не столько
культурные явления как таковые, но то, каким образом они производятся,
распространяются, присваиваются, используются думающими, чувствующими и
действующими людьми.
История репрезентаций позволяет преодолеть характерное для традиционной
историографии разделение мира идей и мира человеческого действия26,
органично соединяя на почве сложного знания то, как человек думает, с
тем, что он делает. «Репрезентации вносят сложность в мою практику», – пишет Ф. Артьер. «На самом деле понимать, что из прошлого у нас есть
только набор репрезентаций, которые конфликтуют, противоречат или
противостоят друг другу, что эти репрезентации получены в зеркальных
играх, отражающих эффектах, что они следуют моделям или участвуют в
контрмоделях; учитывать, что мы располагаем только частью репрезентаций,
поскольку некоторые из них были стерты или забыты, все это размывает
умопостигаемость изучаемого периода». Неудивительно, что репрезентации
способствовали тому, что «историю стали воспринимать как хрупкое
(fragile) знание». В то же время анализ репрезентаций «не только
выявляет нюансы и пробелы, но и является одним из способов учета
мемориального измерения той работы, которая происходит между вчерашним и
сегодняшним», заменяя монолог речи на полифонию. Кроме того, такое
историописание «исключает риск написания непрерывной истории»27.
В то же время анализ репрезентаций «не только
выявляет нюансы и пробелы, но и является одним из способов учета
мемориального измерения той работы, которая происходит между вчерашним и
сегодняшним», заменяя монолог речи на полифонию. Кроме того, такое
историописание «исключает риск написания непрерывной истории»27.
Связь репрезентаций с практиками пытались понять не только историки. Наряду с социологами немало сделали для осмысления такой связи культурные антропологи (Эрвин Гофман, Клиффорд Гирц и др.). Луи Марен на материале XVII века показал, что репрезентации имеют политический характер и проявляются в истории в качестве властных отношений как инструмент символического доминирования. Мишель Фуко дополнил эту перспективу изучением материальности репрезентаций, связав их с событиями и практиками дискурсов. В процессе такого междисциплинарного поиска концепт репрезентация уточнялся, укрепляя гибкость исследовательских процедур.
Калифа выделил три смысловых уровня в изучении репрезентаций. Во-первых,
образные репрезентации, предметы, изображения, печатные материалы,
памятники, составившие основу многих работ по истории культуры.
Во-вторых, когнитивные схемы восприятия: категории схватывания и
постижения мира, посредством сенсорных систем открывающие чувственный
мир ощущений, желаний, эмоций, аффектов. Наконец, сложные индивидуальные
и коллективные идентификационные процессы28. Вероятно, таких уровней
больше, но во всех случаях концепт репрезентация предполагает
включение участников исторического процесса в практики, выражающие и
конституирующие социальное.
Во-первых,
образные репрезентации, предметы, изображения, печатные материалы,
памятники, составившие основу многих работ по истории культуры.
Во-вторых, когнитивные схемы восприятия: категории схватывания и
постижения мира, посредством сенсорных систем открывающие чувственный
мир ощущений, желаний, эмоций, аффектов. Наконец, сложные индивидуальные
и коллективные идентификационные процессы28. Вероятно, таких уровней
больше, но во всех случаях концепт репрезентация предполагает
включение участников исторического процесса в практики, выражающие и
конституирующие социальное.
Предметное поле истории репрезентаций широко и насыщенно, в него входят
очень разные явления: история производителей культуры, история
институтов и культурной политики, история медиа и медиа культур, история
книги и практик чтения, история прессы, журналистики, радио,
телевидения, кино, история интеллектуалов и образования, история
городов, история войн, история памяти, история культурных переводов,
история науки, история символов, коллективного воображаемого, способов
восприятия и чувствования. Такая история включает все возможные
культурные формы в узком смысле слова (совокупность культурных
артефактов, знаний и ценностей конкретного социума) и в широком
антропологическом смысле – все, что касается человека, его способов
быть, чувствовать, думать. По мнению аналитиков, история репрезентаций
способствовала также оживлению историографических исследований во
Франции.
Такая история включает все возможные
культурные формы в узком смысле слова (совокупность культурных
артефактов, знаний и ценностей конкретного социума) и в широком
антропологическом смысле – все, что касается человека, его способов
быть, чувствовать, думать. По мнению аналитиков, история репрезентаций
способствовала также оживлению историографических исследований во
Франции.
Множество новых явлений оказались в поле зрения историков при решении
задачи понять в историческом измерении сложные формы взаимодействия
между сферой репрезентаций и режимом практик. Например, исследуя
гендерные отношения, историки показали, как формируется пространство
мужского доминирования в процессе непрерывного взаимодействия между
конституированием репрезентаций неравных идентичностей, представляющихся
естественными, и практиками, которые встраивают эти коммуникационные
связи в порядок социальных отношений. Важным объектом анализа в качестве
исторической репрезентации стала коллективная память29. По мере
формирования истории памяти репрезентация все более связывалась с
понятием идентичности как индивидуальной, так и коллективной30.
Постепенно такая история предстает как исследование форм
концептуализации, организации, производства, присвоения, распространения
культурных явлений в тесной увязке с местами опыта и способами передачи
идей и ценностей.
По мере
формирования истории памяти репрезентация все более связывалась с
понятием идентичности как индивидуальной, так и коллективной30.
Постепенно такая история предстает как исследование форм
концептуализации, организации, производства, присвоения, распространения
культурных явлений в тесной увязке с местами опыта и способами передачи
идей и ценностей.
Одновременно историки пересмотрели свое понимание общества. Традиционное
разделение групповых акторов, в том числе социальных классов, которые
длительное время идентифицировались с помощью «объективных»,
преимущественно экономических критериев, уступило место подходам,
акцентирующим внимание на дифференцированном конструировании
идентичностей на основе моделей и норм31. В англоязычном мире
пионером такого подхода был Э.П. Томпсон32. Новаторские работы
историков репрезентаций позволили определить общество «как категорию
социальной практики». При таком подходе получалось, что коллективные
идентичности, определяются не столько их природой, но прежде всего их
использованием (Бернар Лепти).
Одним из основателей истории репрезентаций обычно называют Роже Шартье.
Ему принадлежат два программных текста, на которые ссылаются до сих пор.
Это статья «Интеллектуальная история и история ментальностей» (1980), где историк проблематизировал привычное для французской историографии
послевоенных десятилетий деление исторической реальности на страты:
экономика, социум, политика, культура33. И статья «Мир как
репрезентация», в которой Шартье, размышляя о кризисе социальных наук и
состоянии исторического познания, сформулировал новые задачи
историописания34. В частности, он констатировал разочарование в
проекте глобальной истории à la Бродель, отход от территориальной
привязки объектов исследования и конец примата априорной социальной
категоризации. Шартье обосновал необходимость понимания исторических
явлений при помощи дифференциаций культурного порядка, призвав историков
перейти от социальной истории культур к «культурной истории
социального». Этот демарш, как показали французские аналитики, во многом
был подготовлен работами Мишеля де Серто, в которых исследователям
предлагалось идти от объектов, форм и кодов культуры, а не от априорно
выделенных социальных групп, руководствоваться не социальными делениями,
но иными принципами дифференциации (гендерные, поколенческие,
религиозные, сексуальные), учитывать материальность текстов и их
рецепции, активнее изучать борьбу репрезентаций, с помощью которых
действующие в истории акторы идентифицируются. Другими словами, изучать
символические стратегии, конструирующие иерархии социальных структур.
Эти программные установки Шартье реализовал в многочисленных
конкретно-исторических исследованиях по истории книги и чтения, истории
издательской деятельности, интеллектуальной истории35.
Другими словами, изучать
символические стратегии, конструирующие иерархии социальных структур.
Эти программные установки Шартье реализовал в многочисленных
конкретно-исторических исследованиях по истории книги и чтения, истории
издательской деятельности, интеллектуальной истории35.
Формирование истории репрезентаций во Франции и интеллектуальная мутация историописания происходили в нескольких центрах, и постепенно идеи разных авторов согласовывались. Из новистов отмечу Даниэля Роша. Его идеи во многом совпадали с идеями Шартье, но для Роша очень важна динамика культуры, он много размышлял о «социальной трансмиссии культурных фактов». В центре его исследований – взаимодействия, типы общения, разные формы чувствительности, обмены, распространение знаний, воспринимаемые под углом зрения социальных различий. Кроме того, его особенно интересовала материальная культура и связи материальных и идеальных форм в истории36.
Трудно переоценить вклад в развитие истории репрезентаций Мориса
Агюлона.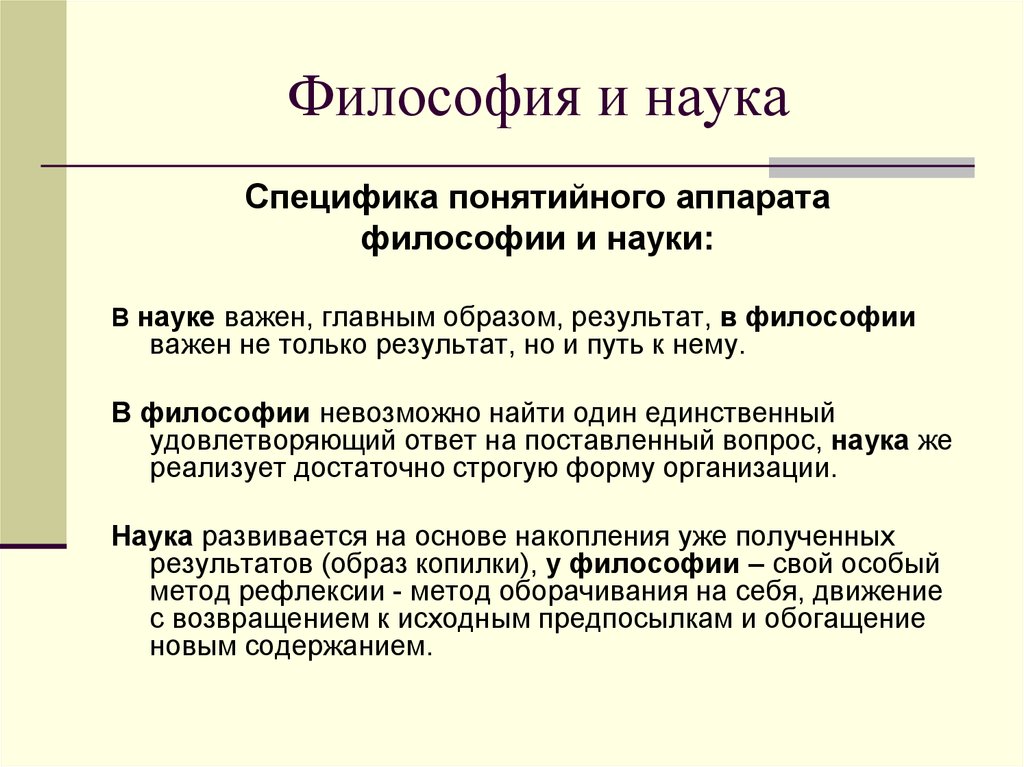 Опираясь на архивные источники, он изучал старинные формы
объединения людей в Провансе и их эволюцию в последний век Старого
порядка. Исследуя сеть ученых обществ и масонских лож, географию их
связей, историк показал, как в эпоху Просвещения законное переплеталось
с незаконным, как неявно, но ощутимо сочетались знания и власть. Ему
удалось уточнить, кто именно читал философические сочинения. На
французском материале XIX века историк изучал народную и политическую
культуру, связав культурную историю социального с политикой37.
Пионером в изучении социального воображаемого во французской
историографии, преимущественно на материале XVIII в., был историк
Бронислав Бачко38. Можно назвать также Жана Делюмо, одного из
создателей т.н. religion vécue, в которой история людей вписывалась в
разнообразные контексты, позволяющие понять их поступки, коммуникации,
замыслы, верования, ментальность, идентичности. Делюмо одним из первых
стал изучать человеческие чувства и эмоции.
Опираясь на архивные источники, он изучал старинные формы
объединения людей в Провансе и их эволюцию в последний век Старого
порядка. Исследуя сеть ученых обществ и масонских лож, географию их
связей, историк показал, как в эпоху Просвещения законное переплеталось
с незаконным, как неявно, но ощутимо сочетались знания и власть. Ему
удалось уточнить, кто именно читал философические сочинения. На
французском материале XIX века историк изучал народную и политическую
культуру, связав культурную историю социального с политикой37.
Пионером в изучении социального воображаемого во французской
историографии, преимущественно на материале XVIII в., был историк
Бронислав Бачко38. Можно назвать также Жана Делюмо, одного из
создателей т.н. religion vécue, в которой история людей вписывалась в
разнообразные контексты, позволяющие понять их поступки, коммуникации,
замыслы, верования, ментальность, идентичности. Делюмо одним из первых
стал изучать человеческие чувства и эмоции.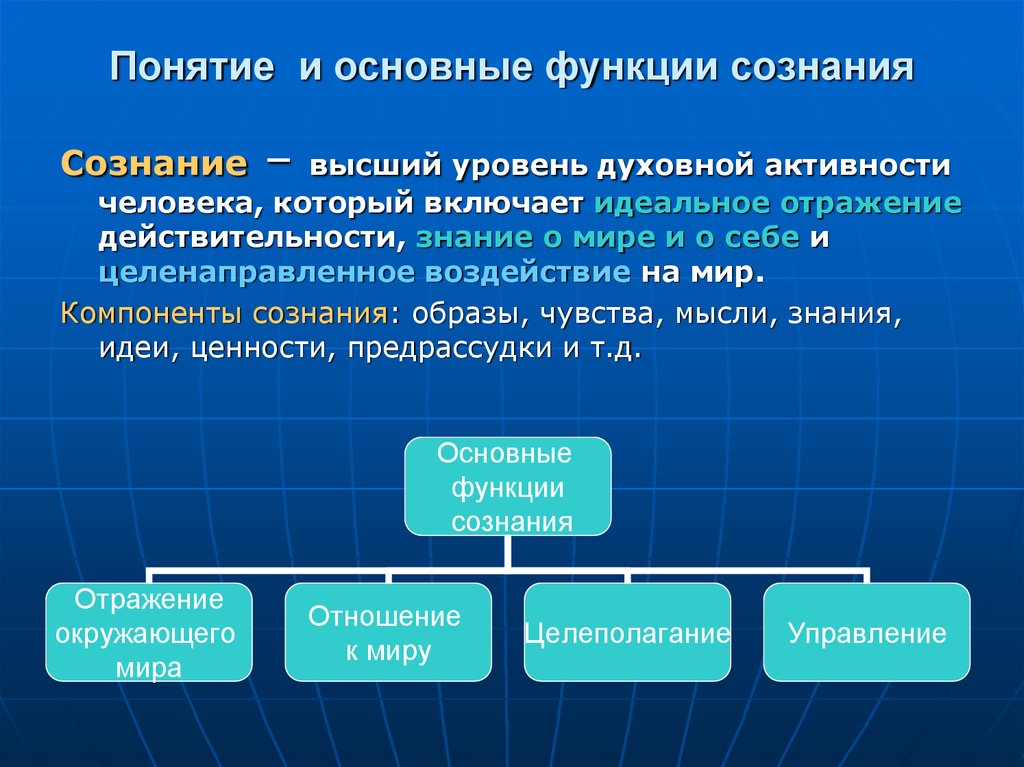 Самый известный
исследовательский сюжет, блестяще им разработанный – история страха во
французской и европейской культуре Нового и Новейшего времени39.
Многие историки репрезентаций были учениками знаменитого Эрнеста
Лабрусса40. Среди них – один из самых ярких специалистов по истории
XIX века Ален Корбен, без которого трудно представить французский
вариант культурной истории41.
Самый известный
исследовательский сюжет, блестяще им разработанный – история страха во
французской и европейской культуре Нового и Новейшего времени39.
Многие историки репрезентаций были учениками знаменитого Эрнеста
Лабрусса40. Среди них – один из самых ярких специалистов по истории
XIX века Ален Корбен, без которого трудно представить французский
вариант культурной истории41.
Концепт репрезентация позволяет историкам обнаружить действенный
характер рефлексивного, дискурсивного и идейного моментов в поведении
людей, не отрывая их от социальной среды, что характерно для
традиционной истории идей. Историки репрезентаций научились не
«разводить» принципы изучения интеллектуальной и материальной сфер,
включая тем самым французскую историографию в материальный поворот. Им
удалось убедительно показать когнитивную составляющую процесса
присвоения/потребления. «На всех уровнях реальности действуют
определенные способы организовывать, классифицировать, подсчитывать. Поэтому теперь уже невозможно противопоставлять анализ текстов анализу
количественному и социальному», – писал Шартье.
Поэтому теперь уже невозможно противопоставлять анализ текстов анализу
количественному и социальному», – писал Шартье.
Работая в русле истории репрезентаций, расширяя проблематику и меняя
акценты, французские историки постепенно принимали и адаптировали идеи и
подходы, которые к концу века переформатировали основания исторического
ремесла. Прежде всего, это другое понимание исторической реальности: у
историка нет прямого доступа к реальности; он имеет дело не с
реальностью прошлого, а с репрезентациями ушедших из жизни людей, следы
которых, отнюдь непрозрачные, историк находит в источниках и
расшифровывает их содержание (впрочем, уже в контексте истории
ментальностей нормативным стало понимание исторического факта не как
данности, а как конструкции). Изменилось восприятие источников. В
контексте истории репрезентаций произошла десакрализация письменного
источника, в т.ч. архивного, хотя мысль о том, что наряду с письменными
текстами существуют и иные источники была высказана еще в трудах
основателей Анналов Марка Блока и Люсьена Февра.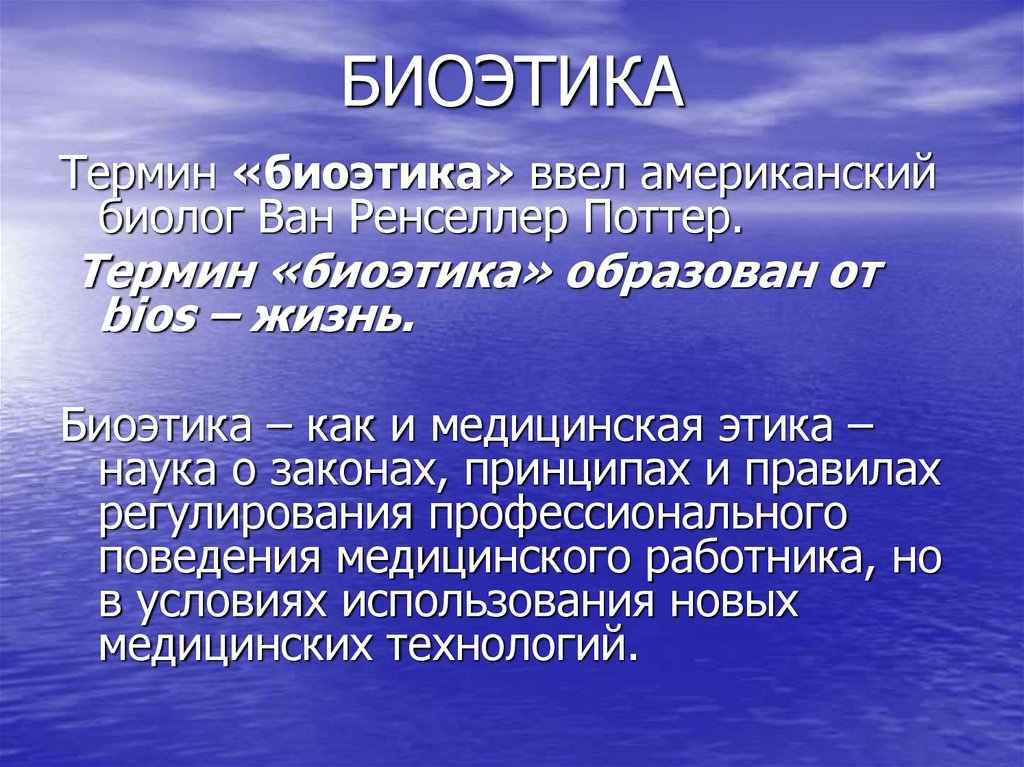 Но именно историки
репрезентаций стали широко использовать в работе изображения, монеты,
гербы, архитектуру, кино, телевидение, фотографию и проч. На волне
культурного поворота усилилось критическое отношение историков к
телеологии42.
Но именно историки
репрезентаций стали широко использовать в работе изображения, монеты,
гербы, архитектуру, кино, телевидение, фотографию и проч. На волне
культурного поворота усилилось критическое отношение историков к
телеологии42.
Постепенно менялось понимание историчности43 и ключевые эпистемологические установки познания: исследователи, изучая репрезентации, уходили от априорных клише разного порядка, прежде всего социальных. Для них важнее было понять, как подступиться к изучению основополагающих категорий, организующих ментальность и культуру: пространство, время, память, экономический рост, религиозные верования, научные открытия, власть. Медленно, но все более уверенно преодолевалось дихотомическое мышление: материальное – идеальное, рациональное – иррациональное, объективное – субъективное, производство – потребление, индивидуальное – коллективное, культура народная – культура элитарная и т.п.
Помимо социокультурных практик, поведенческих установок и реакций,
французские историки с некоторым опозданием, по сравнению с
англоязычными коллегами стали исследовать дискурсы и дискурсивные
практики44.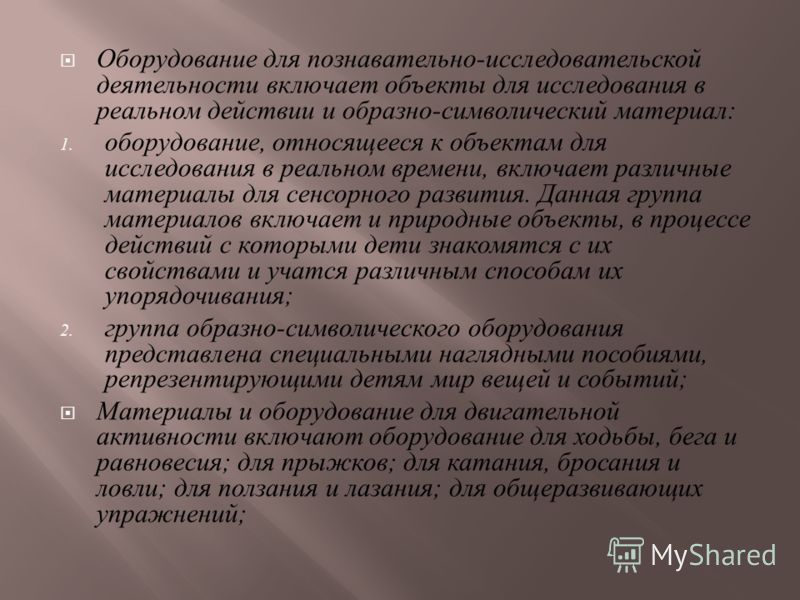 В русле истории репрезентаций им удалось обосновать
несостоятельность крайностей лингвистического поворота. В частности, они
на конкретном материале объяснили, что логика дискурса и логика
практического действия – это разные логики, что делает сомнительными
распространённые попытки «читать» социальную реальность как текст45.
Кроме того, такие исследования позволили понять, что важны не только
тексты высокой культуры. Напротив, для историка репрезентаций на первом
месте тексты второстепенные, непрофессиональные. Если они имеют широкое
хождение, то позволяют получить представление о культурной жизни
большинства, в том числе «о способах, посредством которых в тексты
вторгается устная стихия» (Д. Рош).
В русле истории репрезентаций им удалось обосновать
несостоятельность крайностей лингвистического поворота. В частности, они
на конкретном материале объяснили, что логика дискурса и логика
практического действия – это разные логики, что делает сомнительными
распространённые попытки «читать» социальную реальность как текст45.
Кроме того, такие исследования позволили понять, что важны не только
тексты высокой культуры. Напротив, для историка репрезентаций на первом
месте тексты второстепенные, непрофессиональные. Если они имеют широкое
хождение, то позволяют получить представление о культурной жизни
большинства, в том числе «о способах, посредством которых в тексты
вторгается устная стихия» (Д. Рош).
История репрезентаций релятивизирует устоявшиеся аналитические категории
и подходы, и на этом поле довольно долго шли интенсивные дискуссии о
том, как надо работать историку. Впрочем, в последнее десятилетие споры
почти сошли на нет. Культурное измерение органично вписано в социальную
историю, и это обстоятельство, помимо прочего, стимулировало развитие
французской историографии как истории историков: включение культурного
измерения в историю науки неизбежно приводит в лабораторию историка, а
значит и к его идентичности, индивидуальной и профессиональной.
В эмпирических исследованиях на пересечении новых идей и разнообразных
подходов пересмотрены многие устоявшиеся интерпретации ключевых периодов
французской истории. Если говорить о новистике, то это история Старого
порядка, Просвещение, Французская революция, история XIX века, Первая
мировая война. Глубина перемен хорошо видна на материале Просвещения и
Французской революции. Например, при сравнении двух работ об истоках
революции: Даниель Морне «Интеллектуальные истоки французской
революции»46 и Роже Шартье «Культурные истоки французской
революции»47. Морне полагал, что решающие основания для революции
конца XVIII века следует искать в истории идей, в т.ч. в трансформации
общественного мнения во второй половине века и особенно накануне
революционных потрясений. В течение нескольких десятилетий такое мнение
разделяло большинство специалистов. Шартье, проблематизируя основные
наблюдения и выводы Морне, показал, что непосредственная каузальная
связь между философией Просвещения и Революцией вовсе не очевидна. Более
того, есть основания полагать, что это революционеры изобрели
Просвещение, обосновывая легитимность своей деятельности в корпусе
текстов и списке авторов-творцов мировоззрения эпохи.
Более
того, есть основания полагать, что это революционеры изобрели
Просвещение, обосновывая легитимность своей деятельности в корпусе
текстов и списке авторов-творцов мировоззрения эпохи.
Тщательно изучив бытование идей накануне революции, Шартье выявляет их
динамику в тесном переплетении содержания книг, условий их
производства/восприятия и демонстрирует, что эти идеи далеко не все
понимали одинаково. Смысловое содержание идей в результате становилось
полифоничным. Кроме того, он проблематизировал введенное Ю. Хабермасом
понятие общественного мнения, которое появилось в публичном пространстве
XVIII в. Общественное мнение, захватившее дискурс повседневной жизни на
протяжении двух десятилетий, предшествовавших революции, служило
укреплению авторитета пишущих людей, но было дискриминационным в
отношении основной массы населения. Шартье показал, что «Литературная
республика» XVIII в. отдавала себе отчет в своей исключительности. Но
помимо мнения просвещенной публики существовало еще и мнение народное:
наряду с образованной, хорошо информированной публикой – огромная масса
людей, не имевших возможности участвовать в дебатах.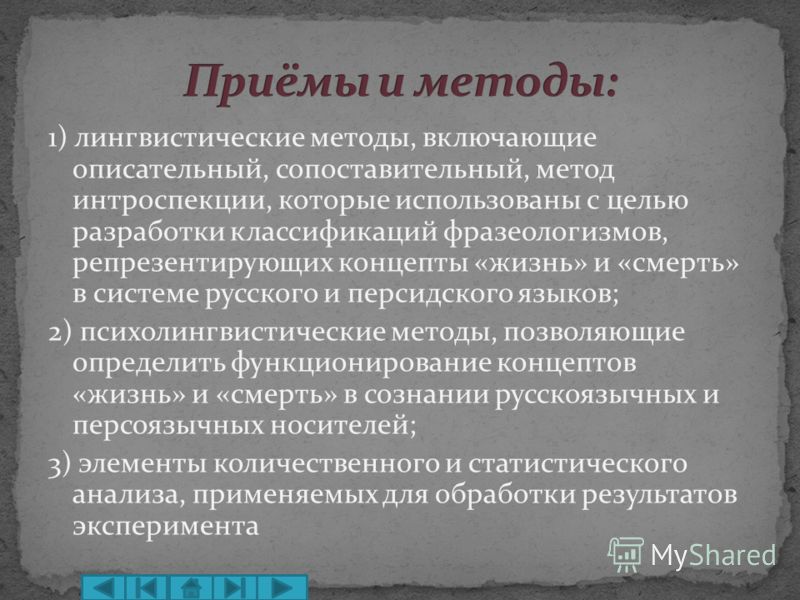 Шартье вписывает
историю идей в историю их производства, распространения и восприятия.
Ему удалось показать в материале, что не книги делают революцию, но
революционеры, использующие книги как инструменты легитимации своих
инициатив. В этом контексте он отвергает прямую связь между
распространением памфлетной литературы и трансформацией образа монарха и
показывает, что практики чтения не менее важны, чем идейное содержание
текстов. Например, среди читателей Руссо были люди, оказавшиеся
санкюлотами, и те, кто с самого начала ушли в лагерь контрреволюции. В
конечном счете Шартье пришел к выводу, что Просвещение – это
исторический конструкт, созданный постфактум революционной эпохой и
революционной традицией.
Шартье вписывает
историю идей в историю их производства, распространения и восприятия.
Ему удалось показать в материале, что не книги делают революцию, но
революционеры, использующие книги как инструменты легитимации своих
инициатив. В этом контексте он отвергает прямую связь между
распространением памфлетной литературы и трансформацией образа монарха и
показывает, что практики чтения не менее важны, чем идейное содержание
текстов. Например, среди читателей Руссо были люди, оказавшиеся
санкюлотами, и те, кто с самого начала ушли в лагерь контрреволюции. В
конечном счете Шартье пришел к выводу, что Просвещение – это
исторический конструкт, созданный постфактум революционной эпохой и
революционной традицией.
Книга Шартье, помимо прочего, позволяет понять принципиальную амбицию
культурной истории и суть историографического поворота, связанного с
ней. Если раньше историки работали преимущественно в русле раздельных,
почти герметичных сфер – история идей, история экономическая,
социальная, политическая, – то в контексте истории репрезентаций идеи
вписываются в социальную ткань и становятся внятными их политические
импликации, а также активная роль людей в том, что происходит в социуме.
В 1990-е годы группа исследователей (среди них Стефан Одуэн Рузо и
Аннета Беккер)48, ввела в историческое познание концепт культура
войны. С его помощью они исследовали ментальность и воображение
сражающихся людей, а также состояние гражданского населения в условиях
войны и его «согласие с войной». «Культура войны – это совокупность
репрезентаций кровавого и варварского конфликта, которые в системном
виде и создают образ войны», придают смысл состоянию людей и позволяют
объяснить и понять такой конфликт. Одна из целей заключается в том,
чтобы трансформировать устоявшуюся в военной истории иерархию факторов,
порождающих военные конфликты. Из многочисленных публикаций, созданных в
русле такого подхода понятно, что не только социально-экономические
факторы и дипломатия порождают войны. Матрицей кровавого насилия
является агрессивная культура, связанная в XIX и XX вв. не только с
государственными интересами, но также с национализмом, политикой и
образованием. Иными словами, при объяснении природы войн прошлого,
Первой мировой войны, в частности, историки обращают внимание на фактор
политики репрезентаций и культурной динамики, что позволяет изучать опыт
военного времени во всем его разнообразии.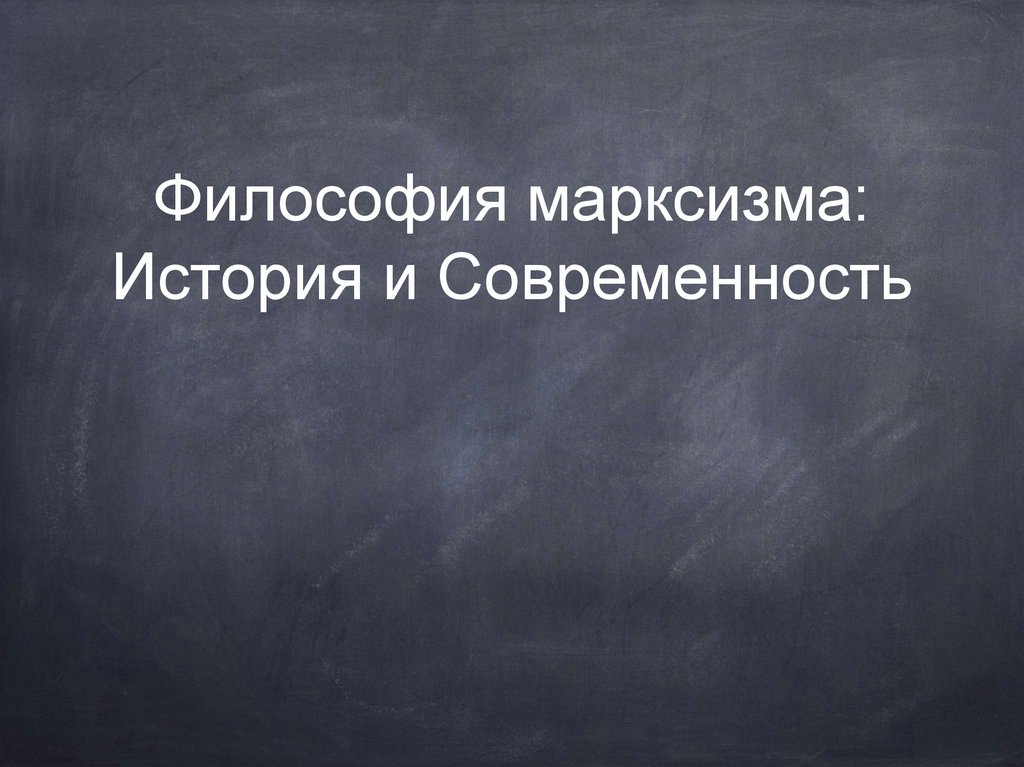
Изучение репрезентаций обеспечило заметное расширение территории
исторического исследования. Историки обратили внимание на проблематику,
которая раньше представлялась второстепенной или вовсе не заслуживающей
внимания. Эта проблематика позволяет прояснить глобальные процессы,
включая национальные и политические, которые так или иначе воплощались в
культурных объектах и логиках действующих лиц. Так, например, Д. Рош
написал несколько монографий в русле большого проекта «История лошади».
Разумеется, речь идет не о том, чтобы описать лошадь: «Собственно
лошадь, – иронично говорил историк, – это голова и хвост»49.
Используя этот тривиальный сюжет, Рош основательно изучил повседневные
практики общества Старого порядка и написал историю «конной
цивилизации», которую в конце XIX в. сменила цивилизация автомобильная.
Опираясь на разнообразные источники, Рош показал, как использовали
лошадь в Новое время в городе и деревне, изучил ее образы и
репрезентации. Получилось, что ментальный кадр «конная культура» играл
колоссальную роль в жизни людей. Например, при делении страны на
департаменты во время административной реформы в годы Французской
революции реформаторы исходили из идеи о том, что дистанция от центра
департамента до его границы в идеале не должна превышать один день езды
на лошади. Кроме того, законодательство о лошадях и их использовании
было заботой всех французских политических режимов вплоть до Третьей
республики. Таким образом «лошадь» играла определенную роль в
конституировании государства Нового времени. Кроме того, сюжет позволил
Рошу показать культуру скорости, свойственную этому периоду цивилизации,
и другие особенности жизненного мира XVIII—XIX вв.
Например, при делении страны на
департаменты во время административной реформы в годы Французской
революции реформаторы исходили из идеи о том, что дистанция от центра
департамента до его границы в идеале не должна превышать один день езды
на лошади. Кроме того, законодательство о лошадях и их использовании
было заботой всех французских политических режимов вплоть до Третьей
республики. Таким образом «лошадь» играла определенную роль в
конституировании государства Нового времени. Кроме того, сюжет позволил
Рошу показать культуру скорости, свойственную этому периоду цивилизации,
и другие особенности жизненного мира XVIII—XIX вв.
Интегративные интенции истории репрезентаций очевидны, и вновь возникает
проблема синтеза. Многие историки не верят в то, что синтез возможен, во
всяком случае на уровне тотальной истории, предложенной Броделем. Тем не
менее концептуальная призма репрезентации позволяет по-новому
структурировать пространство исторического исследования. По сути это
новая модель, в которой первостепенное значение имеет не изучение разных
типов истории – экономической, социальной, политической, культурной, – соответствующее распространенному представлению об иерархическом
устройстве мира, но стремление расшифровать деяния и творения людей на
пересечении различных подходов. Как отметил А. Корбен, такая
проблематизация имеет не только концептуальное значение. Возникает
вопрос о реорганизации исследовательских центров и перестройке
образовательного процесса50.
Как отметил А. Корбен, такая
проблематизация имеет не только концептуальное значение. Возникает
вопрос о реорганизации исследовательских центров и перестройке
образовательного процесса50.
История репрезентаций воспринимается по-разному, но сегодня очевидно,
что речь идет об антропологически ориентированной междисциплинарной
исследовательской модели, которая заметно изменила историографический
пейзаж не только во Франции. Учитывая уроки всех известных поворотов в
гуманитарном познании (лингвистического, социологического,
антропологического, культурного, прагматического, визуального,
рефлексивного, материального и проч.) историки, работающие с такой
моделью историописания, выявляют накопившиеся в историческом познании
интеллектуальные ловушки и предлагают различные варианты их преодоления.
В результате обновляется аналитический инструментарий историка,
появляются новые исследовательские стратегии, историография
освобождается от детерминизма, упрощенного материализма и эмпиризма, а
также структурализма и функционализма, которые длительное время служили
для нее теоретическим основанием.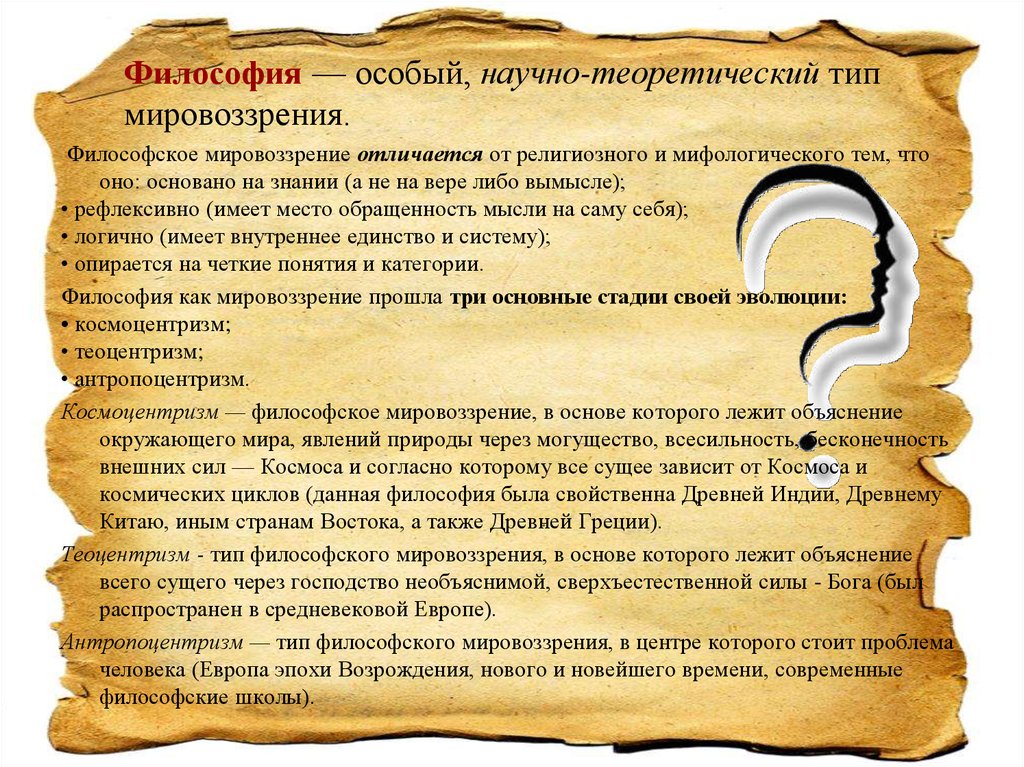 Впрочем, работа историка продолжает
усложняться. Однако проблематика взаимоотношений между репрезентациями и
практиками остается актуальной, открывая новые исследовательские
горизонты.
Впрочем, работа историка продолжает
усложняться. Однако проблематика взаимоотношений между репрезентациями и
практиками остается актуальной, открывая новые исследовательские
горизонты.
БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES
Микешина 2007. ↩
Ямпольский 2007. ↩
Вартофский 1988. ↩
Микешина 2007. ↩
Heinich 2015. P. 357-360. ↩
Зверева 2003; Гинзбург 1998; Delacroix, Dosse et Garcia 2007. ↩
Sociétés & Représentations 2015/2. (N° 40). ↩
Entretien avec Roger Chartier // Sociétés & Représentations 2015/2 (N° 40), p. 289-321. ↩
L’Histoire culturelle du contemporain… 2005. ↩
Mollier 2002. P. 266-267. ↩
Dictionnaire des sciences historiques… 1986. ↩
Чеканцева 2013. ↩
Sur le thème \»La puissance de l\’image\»… ↩
Канинская 2010. ↩
Brilli E.
 L’essor des images et l’éclipse du littéraire…; Gauvard 2015. ↩
L’essor des images et l’éclipse du littéraire…; Gauvard 2015. ↩Histoire culturelle de la France… 1997—1998. ↩
Понятие «культурная история» во Франции понимается прежде всего как кате-гория историографического нарратива, воплощение «смысла одной из форм исто-рической модерности». Histoire culturelle en France 2010. T .1. P. 184. ↩
Ory 2004; Poirrier 2004; Burke 2004; Serna 2005. ↩
Kalifa 2012. ↩
Ю.Л. Бессмертный, подчеркивая такое различие, в свое время предлагал назвать культурную историю во Франции «культуральной». – Бессмертный 1998. ↩
Entretien avec Roger Chartier… 2015. ↩
Artières 2015. P. 343-349. ↩
Vovelle 1999. ↩
О коллективных представлениях в социальной психологии: Roussiau, Bonardi 2001. ↩
Этот вывод подтверждает Арлетт Фарж. См.: Tillier B et Tsikounas M. Entretien avec Arlette Farge… 2015.
 P. 323-328. ↩
P. 323-328. ↩На эту слабость историописания обратил внимание еще М. Фуко. ↩
Artières 2015. P. 343-349. ↩
Kalifa 2010. ↩
Pomian 1998; Чеканцева 2015. ↩
Чеканцева 2017. ↩
Kalifa 2010. ↩
Thompson 2012. ↩
Шартье 2004. Позже Жак Ревель назвал это «этажностью исторических планов». ↩
Chartier 1989. Эта статья вошла в книгу: Au bord de la falaise (1998). P. 67-86. ↩
См., об этом подробнее: Шартье 2006. ↩
Рош 2001. ↩
Agulhon 1988—1996. ↩
См.: Porret 2015. P. 329-336. ↩
Cuchet 2010. ↩
Grenier, Lepetit 1989. ↩
См. Poirrier 2007. ↩
Corbin 2015. ↩
Historicités… 2009. ↩
Guilhaumou 2000. ↩
Cohen 2010. ↩
Mornet 1933. ↩
Шартье 2001.
 ↩
↩Audoin-Rouzeau et Becker 2000. ↩
Сегодня, в связи с формированием нового исследовательского поля – истории животных – такое понимание пересматривается. ↩
Corbin, Déloye, Haegel 1993. ↩
Слов: 3919 | Символов: 27595 | Параграфов: 31 | Сносок: 50 | Библиография: 52 | СВЧ: 16
Keywords: representation, social, cultural turn, imagination, image, practices, identity, affect
Representation is one of the basic concepts of social and human sciences. Philosophers have done a lot to show the complex nature of this ambiguous concept, but its simplified interpretation dominated the scientific world. However, in 1980-1990, in the conditions of the multiplication of technical intermediaries between man and reality, the concept of representation was filled with new content and became the key concept of the cultural turn in the humanities. French historians of mentality have discovered the historical dimension of cultural worlds. Researchers of representations inscribed one in anthropologically oriented social history. Article discusses the “history of representations” in French and the contribution of this type of historical writing to the expansion of the cognitive capabilities of historical knowledge.
French historians of mentality have discovered the historical dimension of cultural worlds. Researchers of representations inscribed one in anthropologically oriented social history. Article discusses the “history of representations” in French and the contribution of this type of historical writing to the expansion of the cognitive capabilities of historical knowledge.
Пост-лингвистический поворот в философии и задачи гуманитаристики в современную эпоху
Интервью с Хансом Ульрихом Гумбрехтом.
Беседовала Татьяна Щитцова (профессор философии ЕГУ, Вильнюс).
Tатьяна Щитцова: Вы выступаете за «пост-лингвистический поворот в философии». В определенной мере он был совершен Вами уже в книге Производство присутствия. Чтобы осознать актуальность намеченной таким образом новой философской парадигмы, было бы важно вписать ее в контекст наиболее значимых сдвигов и тенденций, которые определили и продолжают определять философскую и гуманитарную мысль современности.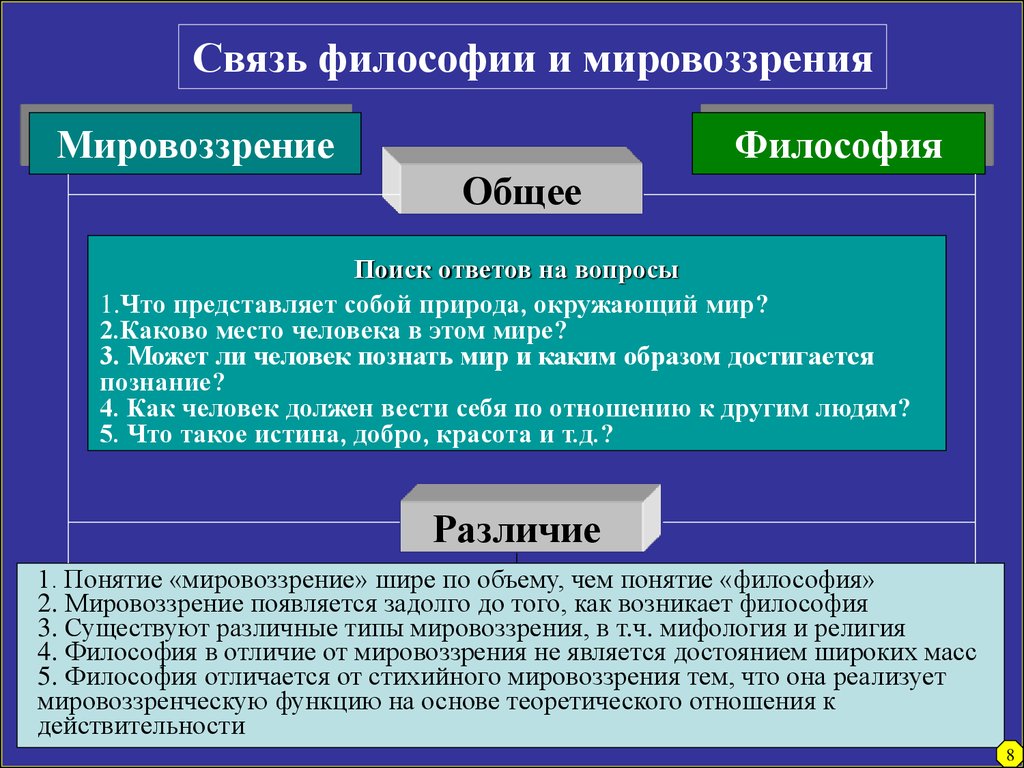 Отмечу здесь лишь некоторые из них: во-первых, это относительно недавнее провозглашение конца философии (метафизики) и связанное с этим широкое институциональное распространение аналитической философии; во-вторых, это конец субъекта Модерна, вылившийся в самые разные направления, нацеленные на переосмысление субъекта в терминах децентрирования и воплощения. В чем актуальность пост-лингвистического поворота в философии по отношению к этим и, возможно, каким-то другим важным вехам в современной мысли?
Отмечу здесь лишь некоторые из них: во-первых, это относительно недавнее провозглашение конца философии (метафизики) и связанное с этим широкое институциональное распространение аналитической философии; во-вторых, это конец субъекта Модерна, вылившийся в самые разные направления, нацеленные на переосмысление субъекта в терминах децентрирования и воплощения. В чем актуальность пост-лингвистического поворота в философии по отношению к этим и, возможно, каким-то другим важным вехам в современной мысли?
Ханс Ульрих Гумбердт: Я думаю, что лучше всего начать с Гуссерля, поскольку, как я понимаю его философию, отправной точкой для Гуссерля является отказ от надежды на то, что в рамках субъект-объектной парадигмы возможно гарантировать объективную репрезентацию мира. Можно сказать, что вторая половина девятнадцатого века была отмечена появлением предложений об отказе от субъект-объектной парадигмы, и одним из направлений (определенным образом, это и была линиия Гуссерля) стала абсолютная концентрация на субъекте, которая (что вовсе не входило в намерения Гуссерля) привела к тому, что в конце 20 века получило название «конструктивизм». Речь идет о том, что субъект понимается как единица, которая конституирует мир, плюральность миров, и мы можем только обсуждать условия этой плюральности. Примером подобной установки является философия моего прежнего коллеги Ричарда Рорти, который изобрел понятие «лингвистический поворот» (появившееся, насколько я помню, в одном коллективном сборнике в конце 60-ых[1]). «Лингвистический» в этом понятии означает не что иное, как другую возможность говорить о том, что плюральность миров конституируется субъектом. Вместе с тем мы можем видеть, что уже в 20-м веке были предприняты попытки не поддаваться такому «лингвистическому повороту». Я бы сказал, что одной из таких попыток является ранняя аналитическая философия – я имею в виду Бертрана Рассела и, главным образом, Витгенштейна (его Трактат[2]), который пытался добиться хотя бы одного предложения, которое было бы репрезентацией мира, так что можно сказать, что он пытался сохранить определенный тип реализма.
Речь идет о том, что субъект понимается как единица, которая конституирует мир, плюральность миров, и мы можем только обсуждать условия этой плюральности. Примером подобной установки является философия моего прежнего коллеги Ричарда Рорти, который изобрел понятие «лингвистический поворот» (появившееся, насколько я помню, в одном коллективном сборнике в конце 60-ых[1]). «Лингвистический» в этом понятии означает не что иное, как другую возможность говорить о том, что плюральность миров конституируется субъектом. Вместе с тем мы можем видеть, что уже в 20-м веке были предприняты попытки не поддаваться такому «лингвистическому повороту». Я бы сказал, что одной из таких попыток является ранняя аналитическая философия – я имею в виду Бертрана Рассела и, главным образом, Витгенштейна (его Трактат[2]), который пытался добиться хотя бы одного предложения, которое было бы репрезентацией мира, так что можно сказать, что он пытался сохранить определенный тип реализма.
Далее я бы сказал, что, начиная с «Бытия и времени», Хайдеггер выступает с новым предложением, предлагает иное решение, касающееся конституции субъекта.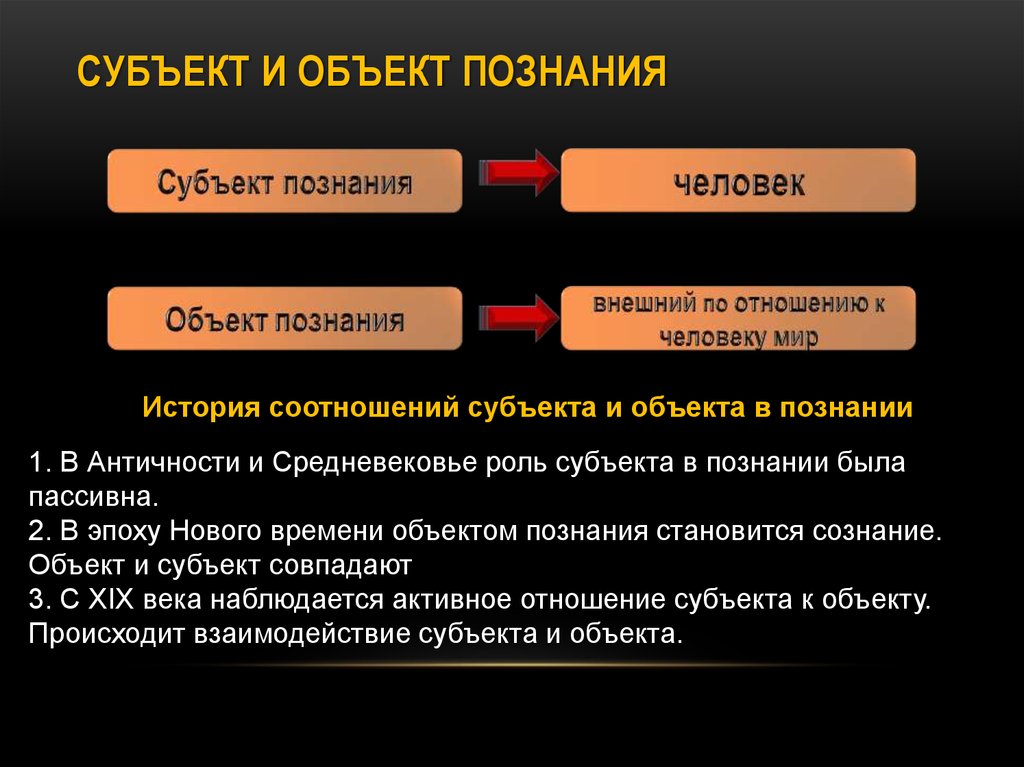 Его концепт субъекта, на немецком, это Dasein, где частица «da» включает отсылку к телу. Так что я бы сказал, что мэйнстрим в западной философии двадцатого века составляет конструктивизм, в то время как вторая половина двадцатого века принимает «лингвистический поворот». И всегда есть место альтернативе, которая отсылает к воплощенному субъекту, и я думаю, что как раз это и является отправной точкой Dasein.
Его концепт субъекта, на немецком, это Dasein, где частица «da» включает отсылку к телу. Так что я бы сказал, что мэйнстрим в западной философии двадцатого века составляет конструктивизм, в то время как вторая половина двадцатого века принимает «лингвистический поворот». И всегда есть место альтернативе, которая отсылает к воплощенному субъекту, и я думаю, что как раз это и является отправной точкой Dasein.
Говоря в терминах актуальности, обозначенной Вами в начале вопроса, я бы сказал, что несмотря на то, что в рамках аналитической философии по-прежнему остались попытки достигнуть объективной репрезентации мира, в целом ее представители отказались от возможности реализма. Я говорю «в целом», поскольку сама по себе аналитическая философия очень сложная. Здесь можно отметить, в частности, одного ее очень интересного представителя, немецкого исследователя Маркуса Габриэля, у которого аналитическая база, но вместе с тем он пытается вернуть определенный тип реализма посредством отказа от субъект-объектной парадигмы и выдвижения тезиса о том, что мы всегда уже находимся внутри мира и не конституируем его снаружи.
Что касается второго аспекта, конца субъекта Модерна, если речь идет о субъекте в традиционном понимании, сформированном в эпоху Просвещения, согласно которому субъект, в соответствии с субъект-объектной парадигмой, верит, что может проникать и формировать мир посредством мысли (например, гегелевский субъект) – и затем этот субъект в марксизме становится очень сильным (я всегда называю его “мускулистым субъектом”), поскольку он может трансформировать мир, – я убежден, что этот уполномоченный (empowered) субъект Модерна, к сожалению, больше не функционален для нас. И в этой связи я полагаю, что нам необходимо сформировать новый тип человеческой самореференции, которая, будучи воплощённой, вероятно, осуществляется внутри мира, вместо того, чтобы занимать внешнюю по отношению к нему позицию. Например, концепция «мистического тела», о которой я говорил во время лекции, могла бы заменить понятие «коллективного субъекта», то есть стать заменой, которая бы вовлекала тело. Я не думаю, что на сегодняшний день мы достигли какого-нибудь согласия в отношении решения этого вопроса, но мне кажется интересным, что понятия, которые были совершенно забыты – скажем, в 1970х, -80х, -90х, – такие, как онтология и философский реализм, действительно возвращаются.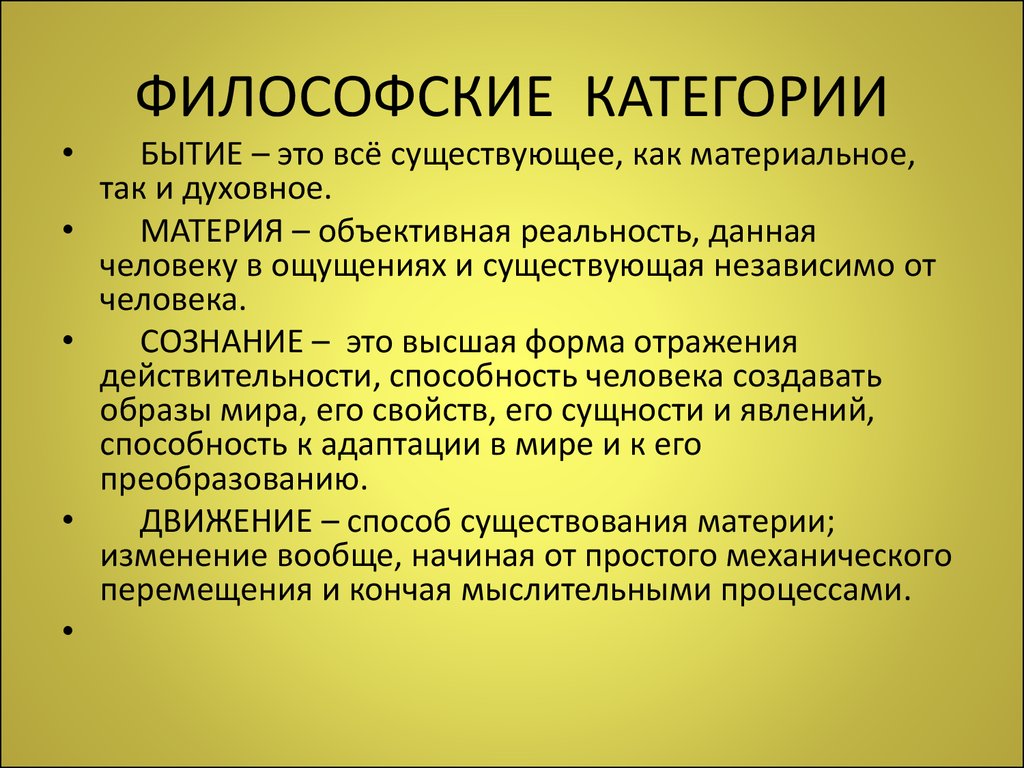 Мне кажется, мы можем наблюдать два этапа в двадцатом веке: сначала доминировали конструктивизм и лингвистический поворот, а с последней четверти века проявляется все больше симптомов желания вернуться, за неимением лучшего термина, к «философскому реализму».
Мне кажется, мы можем наблюдать два этапа в двадцатом веке: сначала доминировали конструктивизм и лингвистический поворот, а с последней четверти века проявляется все больше симптомов желания вернуться, за неимением лучшего термина, к «философскому реализму».
TЩ: Видите ли Вы в гуманитарных науках (не только в философии, но и в других областях) какие-то подходы, усилия, которые были бы комплементарны Вашим?
ХУГ: Думаю, да. Например, в сфере аналитической философии это Маркус Габриэль, с которым я лично познакомился в прошлом году, и к которому сейчас приковано много внимания в немецких институциях, я нахожу его очень интересным. В качестве примера я бы также отметил моего друга Слотердайка: в том, как он работает с Хайдеггером и Ницше, используя их в качестве точки отсчета, определенно обнаруживается желание восстановить субъекта (т.е. само-референцию), который бы включал телесность. Мне кажется очень интересной одна из его последних работ Гнев и время (Zorn und Zeit), в которой он реабилитирует человеческое поведение, вовлекающее тело (как гнев и т.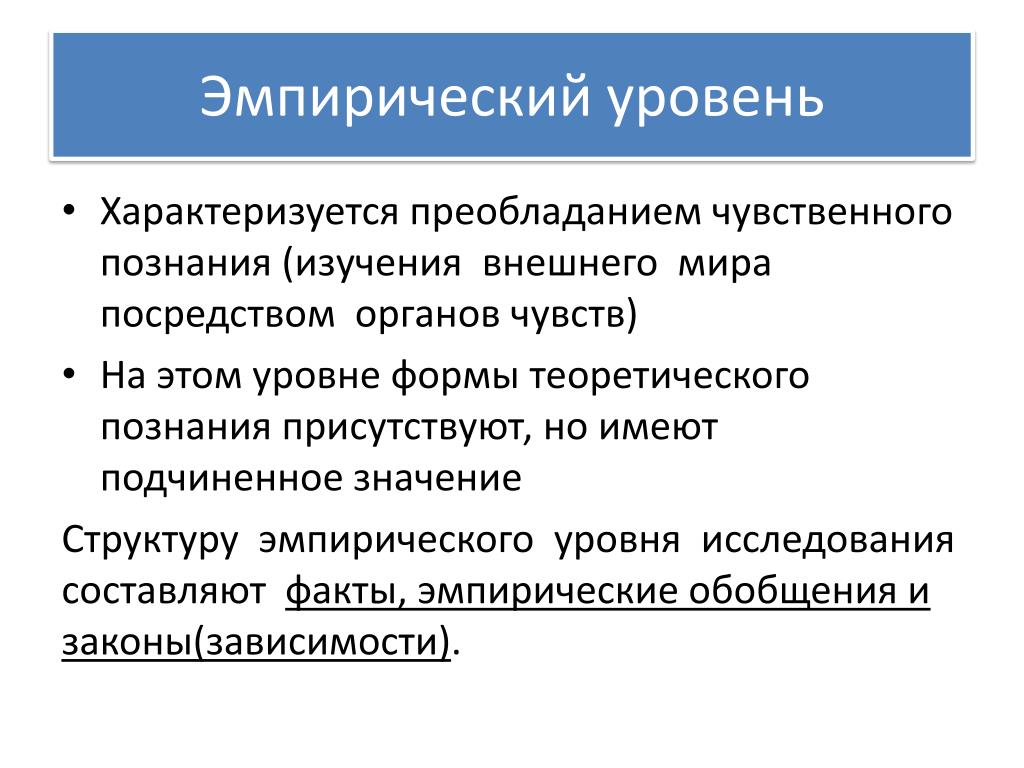 п.). Кроме того, я нахожу удивительным, что с момента публикации Производства присутствия (которая в 2004-м многими была воспринята как провокация), книга стала постоянной точкой референции, и её продолжают переводить. Я не говорю, что я занимаю здесь доминирующую позицию, но сам факт, что тринадцать лет спустя мы говорим об этом подходе, свидетельствует о том, что имеет место желание преодолеть лингвистический поворот и феноменологический[3] подход, которые действительно – и в этом проблема – исключают любые реалистические отсылки к миру.
п.). Кроме того, я нахожу удивительным, что с момента публикации Производства присутствия (которая в 2004-м многими была воспринята как провокация), книга стала постоянной точкой референции, и её продолжают переводить. Я не говорю, что я занимаю здесь доминирующую позицию, но сам факт, что тринадцать лет спустя мы говорим об этом подходе, свидетельствует о том, что имеет место желание преодолеть лингвистический поворот и феноменологический[3] подход, которые действительно – и в этом проблема – исключают любые реалистические отсылки к миру.
TЩ: Давайте попробуем подойти к вопросу о реалистической отсылке к миру и фокусе на телесном опыте с другой стороны. Современная философия сознания (philosophy of mind) в значительной степени опирается сегодня на достижения в науках о мозге (neurosciences). Прогресс в данной области настолько впечатляющий, что перед лицом предъявляемых здесь новейших позитивистских истин о природе нашей мозговой активности кажется сложным отстаивать какие-то альтернативные подходы к телесному опыту.
ХУГ: Да, я, например, не очень оптимистично отношусь к тому, что называется «нейро-философией», к этой комбинации науки и философии, хотя я могу и ошибаться на этот счет. Но факт попытки подойти к научным открытиям и достижениям в рамках философской мысли сам по себе является интересным симптомом. Я не уверен, что какое-либо решение может быть найдено посредством интеграции научных результатов в философию, но то, что многие люди пытаются это сделать, о многом говорит, и я не могу исключить, что в долгосрочной перспективе подобная модель станет доминирующим подходом. /…/
TЩ: Значит, развитие этого позитивистского направления может в определенном смысле оцениваться положительно с точки зрения Вашего подхода?
ХУГ: Да, хотя, конечно, невозможно следить за всеми публикациями в этой сфере. Иногда я действительно так думаю, но потом мне кажется, что они неудовлетворительны в том плане, что они написаны в субъект-объектной парадигме, в то время как я тяготею к философским подходам, которые исходят из того, что мы всегда уже включены в мир, из хайдеггеровского бытия-в-мире, в том смысле, что мы всегда являемся частью мира.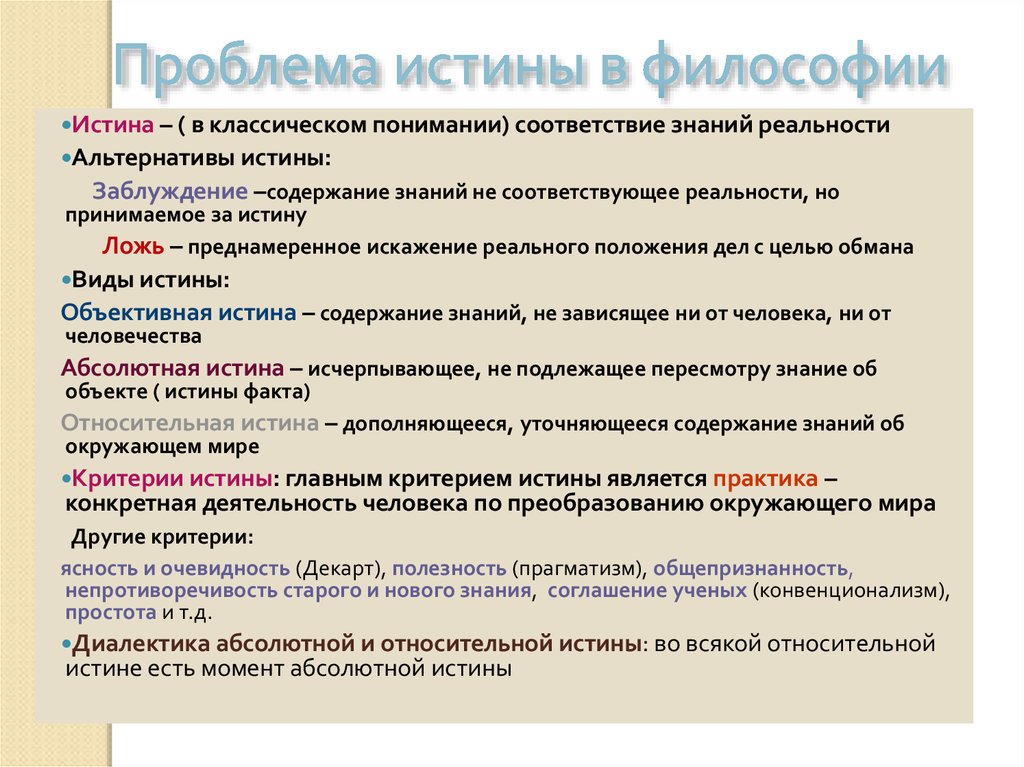 Другое интересное предложение в этой связи принадлежит Бруно Латуру, который также анализирует субъект с точки зрения его априорной включенности в мир, а не с внешней к нему позиции. Здесь, конечно, прослеживается интересная параллель с очень древней теологической парадигмой, я имею в виду «Генезис», который как раз представляет эту точку зрения: мы часть божественного творения. Я не верю, что мы являемся частью божественного творения, но то, что конституирет эпоху Модерна с начала семнадцатого века, – это убеждение, что мы способны занять по отношению к миру внешнюю позицию. Мне кажется, у такой исходной точки нет будущего, так что сегодня вызов заключается в том, чтобы начинать с такой позиции, в которой мы уже являемся частью мира, уже имеем влияние, и в которой должны мыслить себя изнутри мира.
Другое интересное предложение в этой связи принадлежит Бруно Латуру, который также анализирует субъект с точки зрения его априорной включенности в мир, а не с внешней к нему позиции. Здесь, конечно, прослеживается интересная параллель с очень древней теологической парадигмой, я имею в виду «Генезис», который как раз представляет эту точку зрения: мы часть божественного творения. Я не верю, что мы являемся частью божественного творения, но то, что конституирет эпоху Модерна с начала семнадцатого века, – это убеждение, что мы способны занять по отношению к миру внешнюю позицию. Мне кажется, у такой исходной точки нет будущего, так что сегодня вызов заключается в том, чтобы начинать с такой позиции, в которой мы уже являемся частью мира, уже имеем влияние, и в которой должны мыслить себя изнутри мира.
TЩ: То есть речь идет о возможности преодолеть объективирующий подход по отношению к сфере чувственного, по отношению к вещам в мире?
ХУГ: Я думаю, да.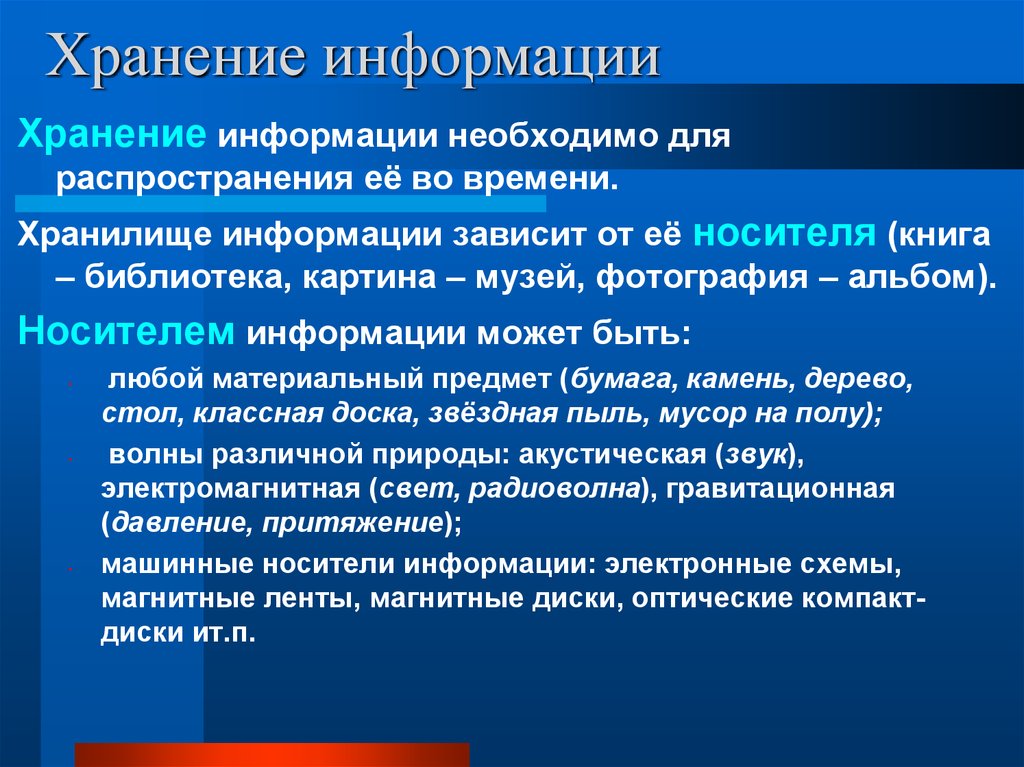 Я иногда заимствую определенные наблюдения, которые делают люди, придерживающиеся позитивистского подхода, и пытаюсь интегрировать их в мое собственное мышление, например, когда я думаю о настроении (Stimmung), когда я пытаюсь описать его как состояние сознания, которое инициируется влиянием материального мира на наше тело, и мы можем наблюдать этот эффект: если на улице серая, дождливая погода, большинство из нас находятся в определенном душевном состоянии, и мы знаем это из личного опыта, никто с этим не поспорит. Но я сомневаюсь, что мы когда-либо будем в состоянии описать происходящее в позитивистских терминах, и, возможно, это даже не столь важно – быть в состоянии описать, как это происходит, если мы можем начать с наблюдения, что в любой момент мы обусловлены внешней средой. Например, Вы находитесь под влиянием среды в Минске, где сейчас вечер и определенная температура, а я завишу от среды здесь, в Калифорнии, где не очень холодно, но дождливо, но настанет более погожий день – и я буду в другом настроении.
Я иногда заимствую определенные наблюдения, которые делают люди, придерживающиеся позитивистского подхода, и пытаюсь интегрировать их в мое собственное мышление, например, когда я думаю о настроении (Stimmung), когда я пытаюсь описать его как состояние сознания, которое инициируется влиянием материального мира на наше тело, и мы можем наблюдать этот эффект: если на улице серая, дождливая погода, большинство из нас находятся в определенном душевном состоянии, и мы знаем это из личного опыта, никто с этим не поспорит. Но я сомневаюсь, что мы когда-либо будем в состоянии описать происходящее в позитивистских терминах, и, возможно, это даже не столь важно – быть в состоянии описать, как это происходит, если мы можем начать с наблюдения, что в любой момент мы обусловлены внешней средой. Например, Вы находитесь под влиянием среды в Минске, где сейчас вечер и определенная температура, а я завишу от среды здесь, в Калифорнии, где не очень холодно, но дождливо, но настанет более погожий день – и я буду в другом настроении.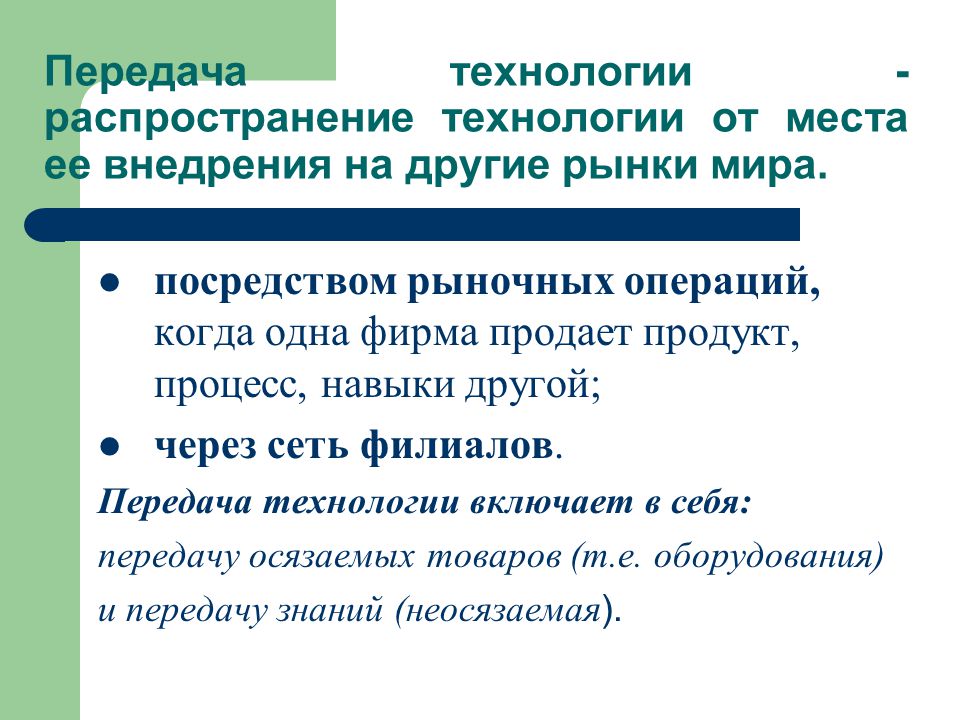 И это неразделимо, неизбежно так, и нужно начинать с этого внутреннего отношения, с того, что мы всегда уже находимся внутри мира, и эта отправная точка очень сильно отличается от заявления «вы способны занять позицию вне материального мира».
И это неразделимо, неизбежно так, и нужно начинать с этого внутреннего отношения, с того, что мы всегда уже находимся внутри мира, и эта отправная точка очень сильно отличается от заявления «вы способны занять позицию вне материального мира».
TЩ: В книге “Производство присутствия” Вы позитивно оцениваете развитие современных коммуникативных технологий, но это амбивалентная оценка, потому что речь идет о том, что новые технологии могут вызвать новое стремление к присутствию. Другими словами, позитивным оказывается то, что ex contrario по отношению к коммуникативным технологиям мы можем с новой остротой ощутить нужду в присутствии, ре-актуализировать это чувство.
ХУГ: Да, конечно, я думаю, что электронные технологии (Вы сейчас сидите перед Вашим компьютером, а я перед своим) – это почти крайнее проявление того, что я называю картезианством, поскольку это состояние, в котором наше существование превращается в слияние программного обеспечения (то, что может предложить компьютер) и нашего сознания. Я имею в виду, что мы можем наблюдать, как люди проводят дни перед компьютером, и в этой ситуации, как правило, их тело – это просто некий остаток, оно не обладает экзистенциальной значимостью. Но я думаю, как Вы и говорили, эта ситуация именно ex contrario во многом поспособствовала возникновению желания реализма, намерения изменить тело, так что можно сказать, что чем дисфункциональнее становится тело во многих повседневных профессиональных ситуациях, тем больше желание восстановить тело, и это проявляется в повседневных практиках: люди пробуют диеты, упражняются, бегают, – а с другой стороны (т.е. говоря эпистемологически, научно и философски), мы обнаруживаем такие симптомы, как нейрофилософия. Как я уже говорил, я не верю, что она будет каким-то решением, но желание вернуться к парадигме включения физического существования – это крайне любопытное явление. Так что я думаю, что самая радикальная ситуация картезианства – это то, что электронные технологии создают желание восстановить тело.
Я имею в виду, что мы можем наблюдать, как люди проводят дни перед компьютером, и в этой ситуации, как правило, их тело – это просто некий остаток, оно не обладает экзистенциальной значимостью. Но я думаю, как Вы и говорили, эта ситуация именно ex contrario во многом поспособствовала возникновению желания реализма, намерения изменить тело, так что можно сказать, что чем дисфункциональнее становится тело во многих повседневных профессиональных ситуациях, тем больше желание восстановить тело, и это проявляется в повседневных практиках: люди пробуют диеты, упражняются, бегают, – а с другой стороны (т.е. говоря эпистемологически, научно и философски), мы обнаруживаем такие симптомы, как нейрофилософия. Как я уже говорил, я не верю, что она будет каким-то решением, но желание вернуться к парадигме включения физического существования – это крайне любопытное явление. Так что я думаю, что самая радикальная ситуация картезианства – это то, что электронные технологии создают желание восстановить тело.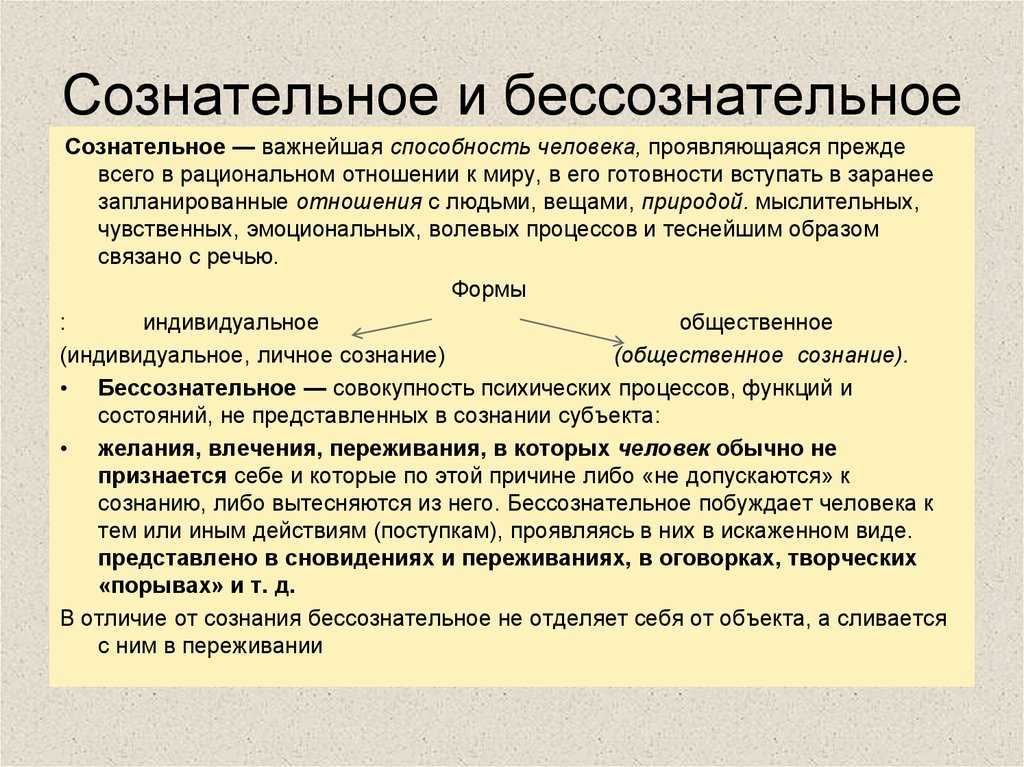
В то же время, я нахожу занимательным, что у людей, которые используют iphone 7, выстраивается совершенно другое отношение с их окружающей средой, поскольку это ситуация, в которой метафора «весь мир в твоих руках» внезапно обретает реальность: например, с айфоном можно знать прогноз погоды и одеться соответствующе, то есть можно подготовиться к любой поездке и т.д., так что технологии не только создают желание восстановить тело, они также помещают его в другую, иногда более непосредственную ситуацию в отношении нашей физической окружающей среды. Как Вы знаете, сам я не пользуюсь мобильным телефоном, но я думаю, что в этой сфере происходят какие-то глубочайшие изменения.
TЩ: То, что Вы сказали, может быть проинтерпретировано двояким образом. С одной стороны, можно говорить о своего рода новой диалектике, или новой амбивалентности, при которой развитие новейших электронных технологий уравновешивается стремлением к оригинальному, аутентичному телесному опыту.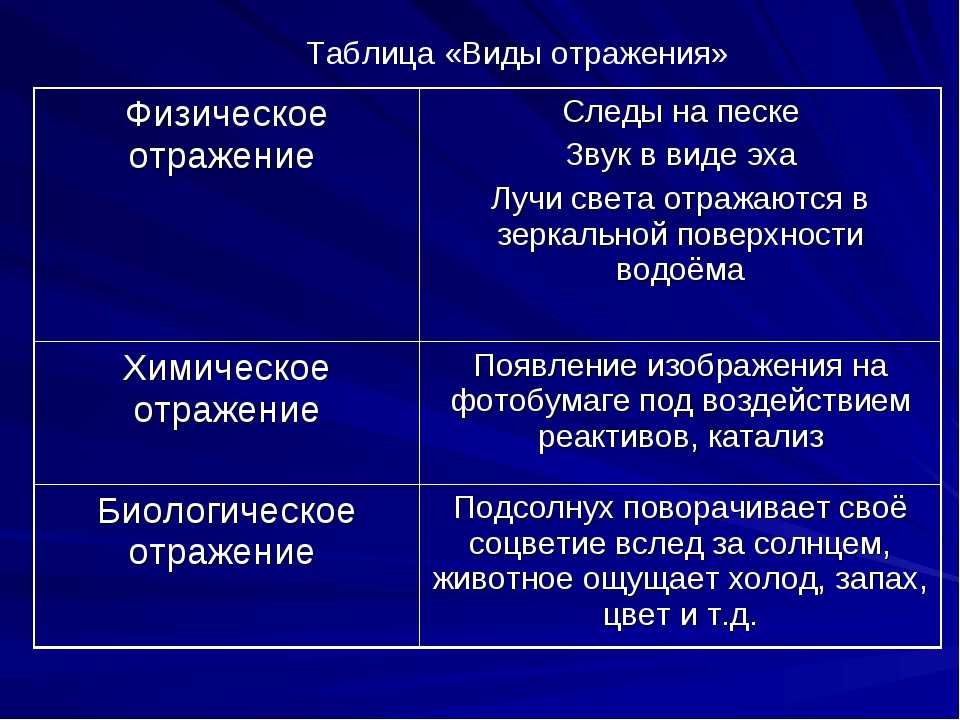 С другой стороны, можно все-таки усматривать основания для тревоги по поводу возможных последствий современного технологического развития, которое меняет наше тело, наше самопонимание, нашу культуру. Если кратко: видите ли Вы повод для беспокойства или же мы просто имеем дело с новой амбивалентностью в структуре нашего опыта?
С другой стороны, можно все-таки усматривать основания для тревоги по поводу возможных последствий современного технологического развития, которое меняет наше тело, наше самопонимание, нашу культуру. Если кратко: видите ли Вы повод для беспокойства или же мы просто имеем дело с новой амбивалентностью в структуре нашего опыта?
ХУГ: Нет, конечно же, я беспокоюсь об этом, и я бы хотел вернуться к моему визиту в Минск, к тому, как все прошло. Я ведь мог выступить с лекцией и провести семинар таким же образом, как мы общаемся сейчас, по телефону, или по скайпу, и тем не менее интересно, насколько полным был тот зал, где люди стояли на протяжении двух часов лекции, и я думаю, что все мы понимаем, что реальное присутствие там, это бытие-вместе (может даже, это в некоторой степени, в моей терминологии, бытие мистического тела), обладает огромной значимостью. Я имею в виду тот факт, что так много людей пришли, хотя могли бы просто посмотреть на меня онлайн, но они пришли туда, и это создало событие.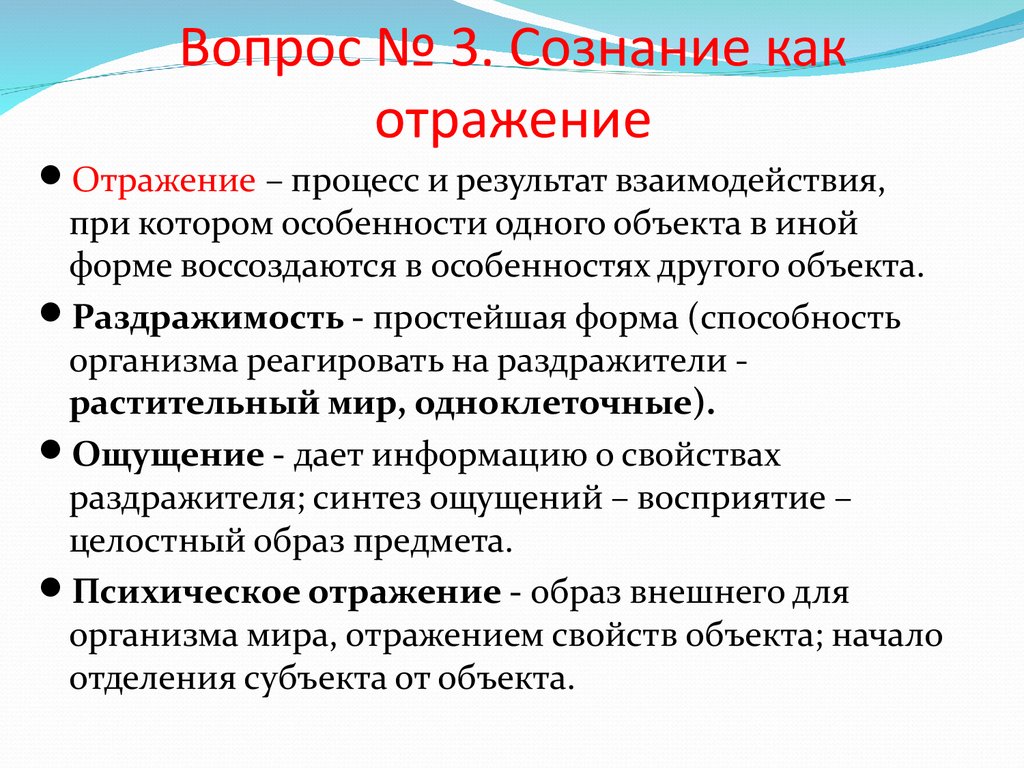 Почему я путешествую так много? Конечно, я просто люблю путешествия, но также я люблю быть с кем-то, разделять пространство с людьми, с которыми я общаюсь – это условия, которые становятся все более ценными в наши дни, более чем когда-либо ранее. И я думаю – и как раз поэтому я и настаиваю на таких понятиях, как «созерцание» (contemplation) и «реальное присутствие» (real presencе), – это как раз то, что мы, гуманитарии, должны сохранять и оберегать. Возможно, этим мы и отличаемся от других: что вместо распространения и передачи знаний в электронном виде мы настаиваем на важности сидеть вокруг стола и производить интеллектуальные инсайты и интеллектуальную сложность (complexity) в ситуации реального присутствия.
Почему я путешествую так много? Конечно, я просто люблю путешествия, но также я люблю быть с кем-то, разделять пространство с людьми, с которыми я общаюсь – это условия, которые становятся все более ценными в наши дни, более чем когда-либо ранее. И я думаю – и как раз поэтому я и настаиваю на таких понятиях, как «созерцание» (contemplation) и «реальное присутствие» (real presencе), – это как раз то, что мы, гуманитарии, должны сохранять и оберегать. Возможно, этим мы и отличаемся от других: что вместо распространения и передачи знаний в электронном виде мы настаиваем на важности сидеть вокруг стола и производить интеллектуальные инсайты и интеллектуальную сложность (complexity) в ситуации реального присутствия.
ТЩ: То, что Вы сейчас сказали, как-будто бы дает основание взглянуть критически на digital humanities?
ХУГ: На самом деле я не имею ничего против digital humanities, но в принципе мне кажется, что это направление получило такой резонанс, поскольку гуманитарные науки, как я говорил на лекции в Минске, берут свое начало в девятнадцатом веке, когда они впервые были артикулированы в качестве кластера дисциплин, в основе которых лежала травма «утраты мира» (Weltverlust), о которой писал Георг Лукач в работе «Душа и формы».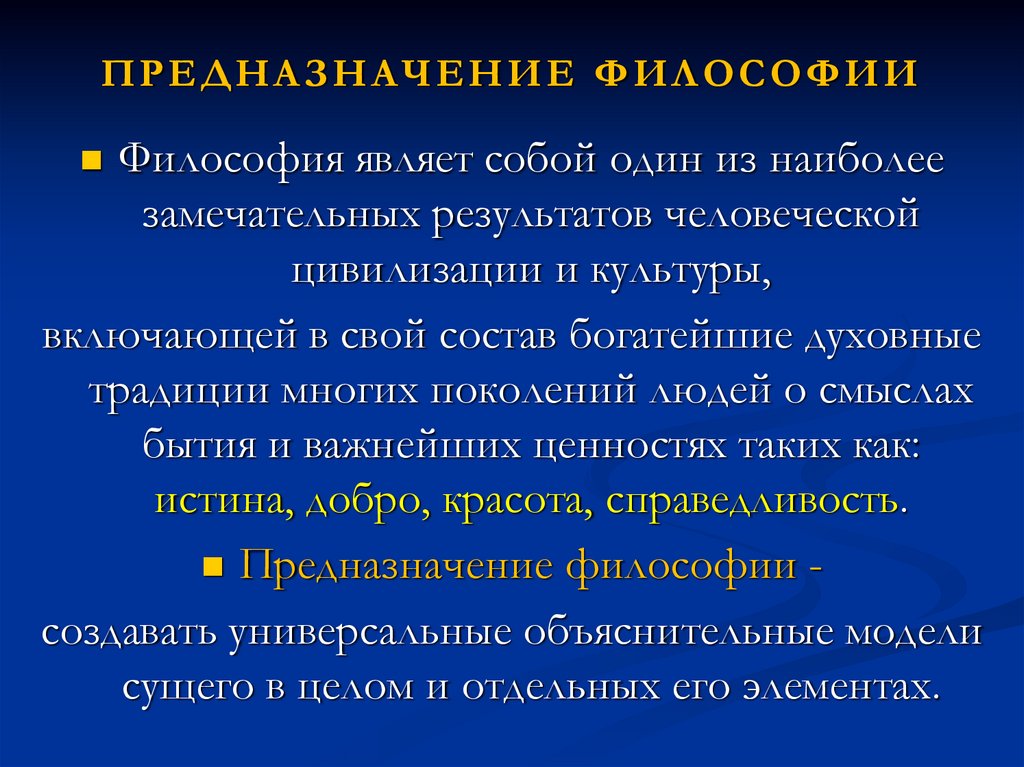 Так что, когда бы ни происходило технологическое продвижение, гуманитарные науки, чувствуя, что остаются позади, с большим рвением начинают осваивать эти техники.
Так что, когда бы ни происходило технологическое продвижение, гуманитарные науки, чувствуя, что остаются позади, с большим рвением начинают осваивать эти техники.
Теперь же еще оказывается, что в определенных областях – там, где задача гуманитарных наук состоит в сохранении и обработке текстов, например, в истории литературы, – компьютер очень важен, так как может анализировать огромный объем информации. Я имею в виду, что, конечно, можно использовать электронные технологии, и они должны ипользоваться как любой технологический инструмент, но я чувствую, что если мы сейчас поставим нашу рефлексию, наши мысли, в зависимость от того, что можно сделать посредством технологий, мы определенно утратим тот особый, специфический вклад в индивидуальную и коллективную экзистенциальную ситуацию современности, который способны предложить гуманитарные науки. Электронные средства следует использовать тогда, когда это необходимо, но не следует ставить развитие мысли и рефлексии в зависимость от возможностей электронных технологий. Я думаю, что наша сила заключается именно в том, чтобы сохранять и культивировать определенные формы коммуникации, которая не может быть заменена технологиями.
Я думаю, что наша сила заключается именно в том, чтобы сохранять и культивировать определенные формы коммуникации, которая не может быть заменена технологиями.
ТЩ: Это означает, что в современных условиях задачу гуманитарных наук составляет культивирование своего рода анти-технологического подхода…
ХУГ: Да. Я рассказывал Вам о нашей философской лиге, – например, в течение десяти недель мы встречаемся каждый вечер четверга здесь в Стэнфорде, чтобы обсуждать философские тексты. Конечно, многие люди читают текст дома на их экранах, но затем они приходят в полную аудиторию, и мы обсуждаем все это, и я думаю, интенсивность этой дискусии, ее событийность, тот факт, что внезапно в физическом со-присутствии мы производим новые идеи, которые никто из нас не имел бы индивидуально, – это не только то, что не может быть заменено технологиями, но это то, что становится все более ценным в этой цифровой среде. В этом смысле мне кажется интересным тот факт, что люди, которые приходят в философскую группу, делают это, поскольку они чувствуют, что им не хватает этой экзистенциальной формы коммуникации в их собственной технологической среде (ведь мы находимся в Силиконовой долине).
ТЩ: Как бы Вы отреагировали, если бы кто-нибудь сказал Вам, что Ваша позиция – это просто консервативная реакция, и она полностью обусловлена Вашей принадлежностью к определенному поколению, в то время как новое поколение обладает совершенно новым опытом и понимает, что их связь с миром, опосредованая новыми технологиями, открывает новые перспективы и возможности.
ХУГ: Что ж, у меня на это есть два ответа. Прежде всего, я не могу спорить с тем, что я принадлежу определенному поколению, да, мне шестьдесят восемь лет, и я ничего не могу с этим поделать. Я имею в виду, пока есть желающие меня слушать, я могу вырабатывать мысли с этой точки зрения, и в целом мне кажется, что это старомодная ментальность: предполагать, будто только молодое поколоение имеет право высказываться, поскольку они – это будущее. Я, разумеется, не говорю, что у них нет права голоса. Конечно, мне нечего возразить насчет возраста, я родился в 1948 году, и электронные технологии появились, когда я уже прожил половину жизни, так что технологии мне не родные (I’m not an electronic native). Вместе с тем я наблюдаю, что в Стэнфорде именно студенты бакалаврского уровня – а это зачастую люди, которым семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет, и кто обладает блестящими способностями в электронике, – особо тяготеют к коммуникации лицом к лицу, когда мы (взять, например, нашу группу философского чтения) обсуждаем Бытие и время или какую-то другую книгу. Это может быть, конечно, иллюзией, но я действительно чувствую, что именно среди этого поколения желание реального присутствия, тяга к понятиям, которые не базируются на электронных технологиях, гораздо сильнее, чем среди тех, кому двадцать пять-тридцать.
Вместе с тем я наблюдаю, что в Стэнфорде именно студенты бакалаврского уровня – а это зачастую люди, которым семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет, и кто обладает блестящими способностями в электронике, – особо тяготеют к коммуникации лицом к лицу, когда мы (взять, например, нашу группу философского чтения) обсуждаем Бытие и время или какую-то другую книгу. Это может быть, конечно, иллюзией, но я действительно чувствую, что именно среди этого поколения желание реального присутствия, тяга к понятиям, которые не базируются на электронных технологиях, гораздо сильнее, чем среди тех, кому двадцать пять-тридцать.
ТЩ: Очень интересно, это наблюдение из Вашего личного преподавательского опыта?
ХУГ: Да. Поскольку мы находимся в университете в Силиконовой долине, многие молодые люди хотят учиться здесь именно потому, что у нас лучший департамент компьютерных наук. И, например, это очень интересно, у нас есть программы с двойным major: с одной стороны, в компьютерных науках, а с другой – либо философия, либо литература. И число студентов, которые выбирают такую программу, стремительно растет: с одной стороны, они хотят изучать компьютерные науки (писать код или изобретать что-нибудь – они очень продуктивны в научно-технологическом плане и зарабатывают большие деньги), и в то же время, они не просто имеют тягу к реальному присутствию, но у них также есть тяга к особому роду мышления, к сложным понятиям, которые выводят их к совершенно новому экзистенциальному опыту, вовлекающему в том числе, через страстность, и телесную сторону.
И число студентов, которые выбирают такую программу, стремительно растет: с одной стороны, они хотят изучать компьютерные науки (писать код или изобретать что-нибудь – они очень продуктивны в научно-технологическом плане и зарабатывают большие деньги), и в то же время, они не просто имеют тягу к реальному присутствию, но у них также есть тяга к особому роду мышления, к сложным понятиям, которые выводят их к совершенно новому экзистенциальному опыту, вовлекающему в том числе, через страстность, и телесную сторону.
ТЩ: Как бы Вы совместили теоретически два этих типа желания: с одной стороны, желание полноценного физического присутствия, желание ощущать себя как живое тело, и с другой стороны, желание реально общаться друг с другом, желание быть вместе?
ХУГ: Я был бы очень самокритичен и скептичен в плане выстраивания некой утопии, как должен выглядеть мир. После моих ранних академических лет, когда я, как и все остальные, хотел быть марксистом и изменить мир и освободить миллионы людей, находясь за своим письменным столом, я понял, что лучше всего находиться в среде, где я обладаю определенным влиянием.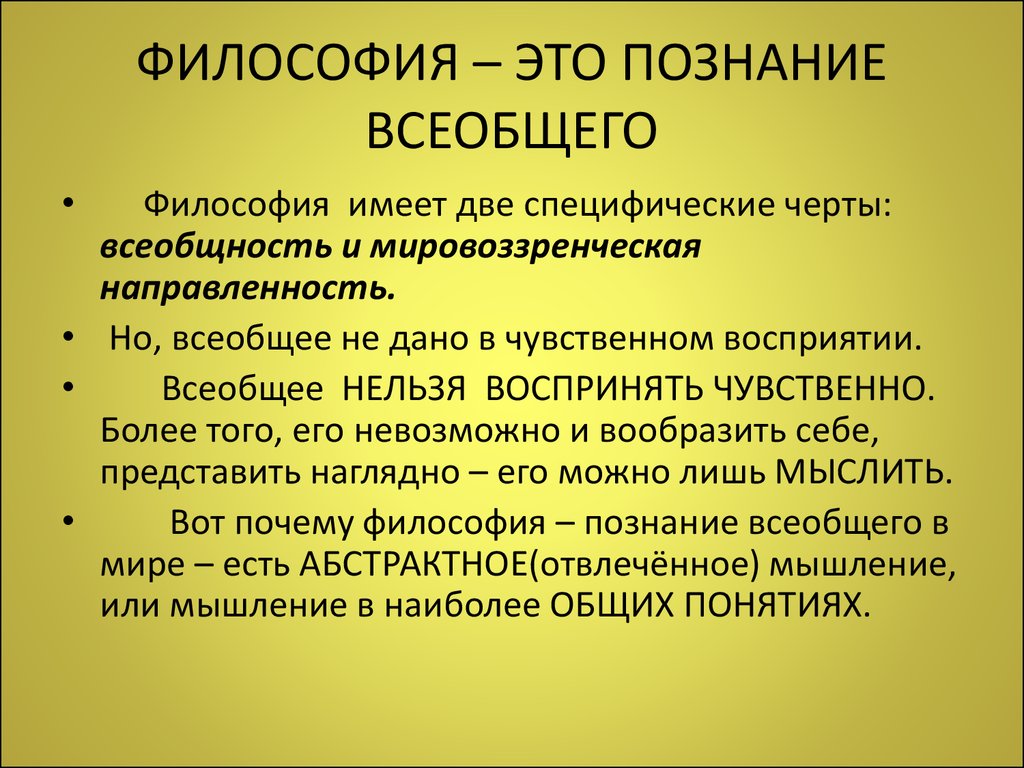 Что я делаю, это, например, веду группу философского чтения, провожу почти два дня в неделю, просто беседуя лицом к лицу со своими студентами, так что в моем университете я оказываю какое-то влияние, а поскольку это университет мирового класса, то некоторые люди непременно умножат это влияние. Это не хвастовство моими достижениями, я просто пытаюсь сказать, как я понимаю собственные задачи. Когда, например, в маленькой столице Люксембурга основали университет, меня пригласили для разработки концепции того, как должны быть там представлены гуманитарные науки. Так что вместо того, чтобы генерировать некое видение того, каким должен быть мир в 21-м веке, я стараюсь сосредоточиться на том вкладе, который я могу привнести в свой мир. Понимаете, я не могу никак повлиять на общую картину мира, и тем более на будущее, но я могу оказать какое-то влияние на мой мир в Стэнфорде. Вы понимаете, к чему я: у меня нету утопического видения, – я не имею в виду, что утопические видения это плохо, я бы мог составить такое, но думаю, что если бы гуманитарные науки сосредоточили внимание на преподавании, на отношениях со студентами, они могли бы обнаружить, что в этих отношениях мы можем делать вещи, которые мы уже объявили невозможными, – и это было бы отличным началом.
Что я делаю, это, например, веду группу философского чтения, провожу почти два дня в неделю, просто беседуя лицом к лицу со своими студентами, так что в моем университете я оказываю какое-то влияние, а поскольку это университет мирового класса, то некоторые люди непременно умножат это влияние. Это не хвастовство моими достижениями, я просто пытаюсь сказать, как я понимаю собственные задачи. Когда, например, в маленькой столице Люксембурга основали университет, меня пригласили для разработки концепции того, как должны быть там представлены гуманитарные науки. Так что вместо того, чтобы генерировать некое видение того, каким должен быть мир в 21-м веке, я стараюсь сосредоточиться на том вкладе, который я могу привнести в свой мир. Понимаете, я не могу никак повлиять на общую картину мира, и тем более на будущее, но я могу оказать какое-то влияние на мой мир в Стэнфорде. Вы понимаете, к чему я: у меня нету утопического видения, – я не имею в виду, что утопические видения это плохо, я бы мог составить такое, но думаю, что если бы гуманитарные науки сосредоточили внимание на преподавании, на отношениях со студентами, они могли бы обнаружить, что в этих отношениях мы можем делать вещи, которые мы уже объявили невозможными, – и это было бы отличным началом.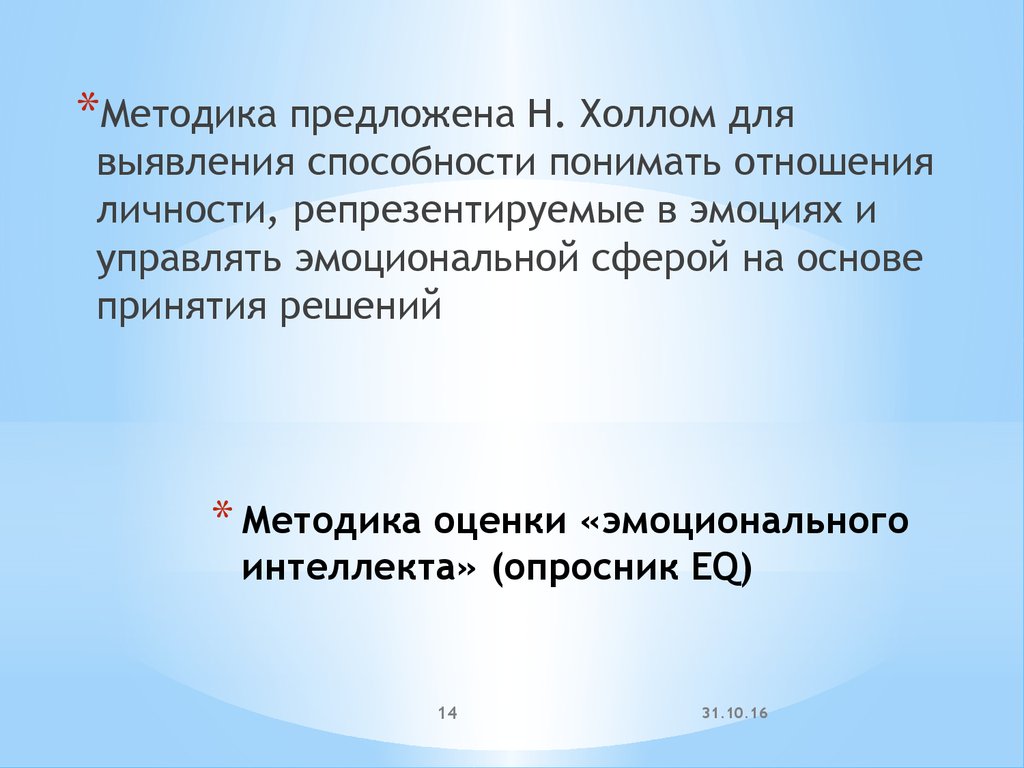
_____________________
[1] Речь идет об антологии The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method, вышедшей в 1967 под редакцией Ричарда Рорти.
[2] Имеется в виду сочинение Л. Витгенштейна Логико-философский трактат.
Слизь, призрак и гриб. Зачем современная философия обращается к хоррору — Нож
Начало спекулятивному реализму в 2006 году положила книга французского философа Квентина Мейясу «После конечности». Через год великая четверка спекулятивных реалистов (сам Мейясу, Рэй Брассье, Иэн Хамильтон Грант и Грэм Харман) собралась в Голдсмитском колледже в Лондоне, где было впервые озвучено название новой философской школы.
Несмотря на отличающиеся друг от друга концепции и направленности вроде объектно-ориентированной философии Хармана или темной экологии Тимоти Мортона, общие для всех тезисы таковы:
- философия антинаучна и антиреалистична;
- если реальность и познана, то только посредством нашего антропоцентричного и ограниченного сознания;
- новейшие открытия ученых всё чаще низводит человека до статуса просто умного безволосого примата, а безразличный мир не остановится после вымирания нас как вида.

Это трагическое осознание становятся поводом переосмысления возможности и потенции философии и тем, что спекреалист Юджин Такер называет миром-без-нас. Именно трилогия «Ужас философии» Такера послужила мостиком между ужасом (и его воплощением в литературе и кинематографе хоррора) и философией.
В первой части трилогии «В пыли этой планеты» Такер спрашивает, как помыслить мир без человека посредством человеческой мысли, которую этот мир-без-нас исключает? Следовательно, мир-без-нас немыслим. Отсюда и происходит то, что Юджин Такер назвал «ужасом философии».Таким образом философия испытывает ужас от собственной изоляции в пределах человеческого. Спекулятивные реалисты обнаружили, что привычные и обследованные объекты вокруг нас вроде ландшафта наделяются странной и пугающей аурой. Поэтому у философии, как выразились издатели Такера Яна Цырлина и Дмитрий Вяткин «возникает потребность помыслить запретную, внушающую ей ужас территорию, но для этого нужно как-то избежать постоянно возникающего субъективного остатка, то есть помыслить немыслимое так, чтобы не запятнать его мыслью».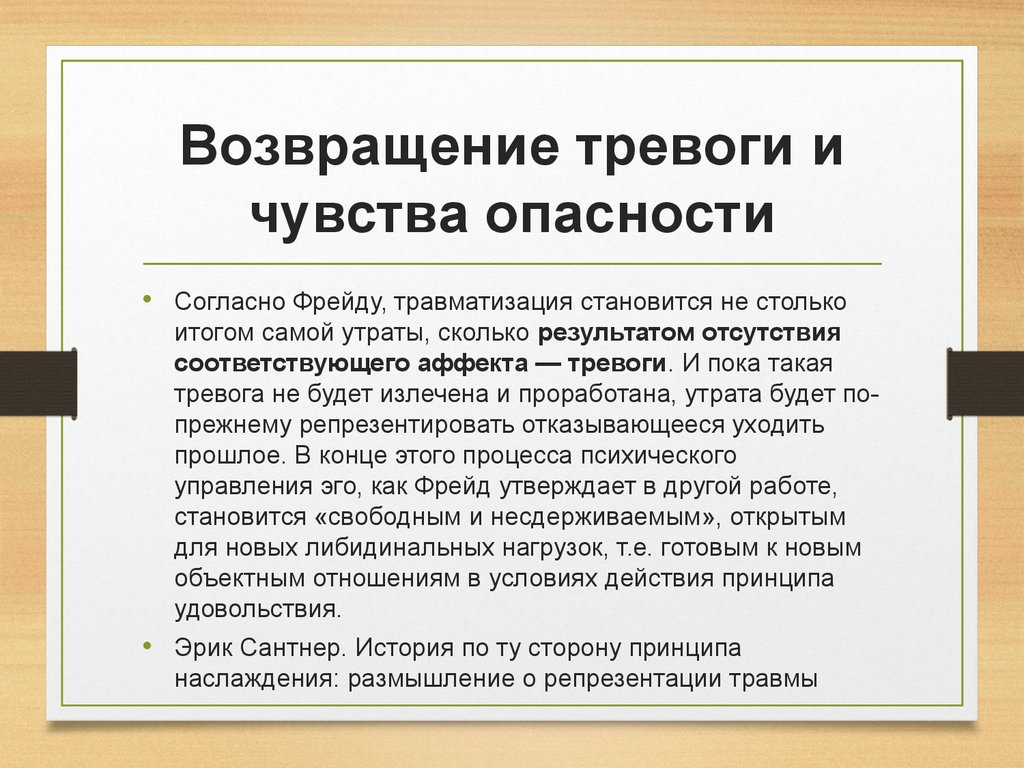
Кроме того, спекулятивные реалисты утверждают, что сама личина ужаса лишена субъективности или, по крайней мере человеческого измерения.
В данном случае ужас — не только эмоция или чувство панического страха, которое мы можем испытать в лесу или в заболоченных топях, но сам недоступный человеческому восприятию исток всей жизни, некая досубъектная непознаваемая сила.Так, тьма, неподконтрольность и ускользание от определения становятся чертами реальности. Тогда возникает вопрос: как развернуть эту идею и как ухватить ужас в философских терминах? Спекулятивные реалисты отвечают: при помощи не-философских текстов, открытых возможностям воображения.
Философия становится всё свирепее, полнится дремучими терминами и концепциями, для понимания которых в голову неподготовленного читателя должна быть встроена александрийская библиотека. Но вместе с тем не только спекреализм, но и вся философия, если так можно сказать, стала веселее и увлекательнее: она оперирует хоррор-литературой, weird/bizarre fiction, комиксами и мангой, видеоиграми и фильмами ужасов категории «В». Словом, теми феноменами культуры, что выходят за пределы описания человеческого, и устремляются на территорию тьмы.
Словом, теми феноменами культуры, что выходят за пределы описания человеческого, и устремляются на территорию тьмы.
Так, философ и кибер-исследователь Ник Лэнд написал экспериментальный хоррор «Фил-Унду», а другой исследователь кибер-культуры Марк Дери всерьез взялся за изучение творчества иллюстратора готических и хоррор-романов Эдварда Гори.
Бен Вудард и темный витализм
Молодой философ Бен Вудард — представитель второй волны спекреализма. В книге «Динамика слизи» он рассматривает слизь, царство грибов, плесени, вирусов и прочих малоприятных материй как всё порождающие субстанции и как воплощения отвратительности самой жизни.
Слизь не только стирает границу между органическим и неорганическим, гниением и торжеством жизни, но и, по мнению философа, является созидательной для человека.
Опираясь (и тем самым провозглашая научность новой философии) на исследования современных биологов, когнитивистов, эволюционистов и натурфилософов XIX века Вудард заявляет, что человеческое мышление — не предел совершенствования эволюции, но лишь продукт случайных и удачных совпадений, сделавших нас просто умными.
Куда красноречивее положение человеческой мысли описывают строки самого Вударда: «… разум всего лишь одно из свойств посреди когтистого и клыкастого бестиария природы».Вудард предлагает взять за точку порождения материи понятие Единое, а импульсом, вдыхающим в органическое и неорганическое жизнь — концепцию темного витализма. Тьма такого витализма заключается в осознании безразличия Вселенной, смирении с тем, что человек — лишь один из видов. В этом подходе — страх и вместе с тем пиетет перед собственным истоком, упругим, тягучим сгущением одушевленной слизи, порождающей затвердевающую плоть и при смерти ее размягчающую.
Иными словами, породившая человека и его мысль и до сих пор в изобилии пребывающая в мире, пастозная субстанция от мокроты до миксомицеты (которая может вести себя и как растение и как гриб), с одной стороны, составляет саму сущность жизни, с другой, паразитируют на других телах и становится представителем смерти.
Помимо прочего Вударда интересует интериорность — то есть вложенность во что-то. Например, вложенный в человека вирус или бактерия, обрекающая тело на затяжное умирание.
Первое художественным воплощение интериорности — графический роман Хидаэки Сэны «Паразит Ева». Митохондрии, составляющие часть клеток организма оперной певицы Евы, образует автономную от нее сущность. Дело в том, что ее митохондрии способны воздействовать на митохондрии других организмов, тем самым вызывая мутацию у животных и людей, превращая их разлагающихся монстров.
Кроме того, Вудард подчеркивает обыгрываемую Сэной эндо-симбиотическую теорию, согласно которой предки митохондрий были отдельными вирусными организмами, которые позже инкорпорировались в клетки, из которых мы теперь состоим.Это осознание становится ужасом перед вирусом как истоком существования, от которого мы и без этой теории брезгливо съеживались.
После Вудард пишет об эпидемической открытости — «обнаженности и вывернутости к кишащей извращенности смерти». Пример рассмотрения философии заражения — survival-horror «Dead Space». На космический корабль проникают паразиты некроморфы, овладевающие мертвыми тканями и на молекулярном уровне деформирующие их.
Пример рассмотрения философии заражения — survival-horror «Dead Space». На космический корабль проникают паразиты некроморфы, овладевающие мертвыми тканями и на молекулярном уровне деформирующие их.
В этом смысле эти крошечные создания становятся проявлением силы темного витализма, приходящей из самых недр того, что нами понимается как природа.
Грибы-завоеватели и смирение перед неизбежной смертьюВ противовес интериорной жизни вирусов и бактерий, Вудард перемещается к «внешней жизни» грибов, плесени и слизи. Они не только увязывают в себе гниение и распад с производством жизни, но и завоевывают пространство, размножаясь и протягивая свои тела по поверхности Земли.
Тут Вудард с упоением вставляет целые пассажи из рассказов мастеров хоррора о грибно-слизистом покушении на человеческую территорию. Так, в «Северини» Томаса Лиготти повествуется о странном художнике и его последователях, обитающих среди булькающего, гнилостного произрастания.
Так, в «Северини» Томаса Лиготти повествуется о странном художнике и его последователях, обитающих среди булькающего, гнилостного произрастания.
Другие цитируемые Вудардом рассказы — «Планета-паразит» и «Лотофаги» фантаста Стенли Вайнбаума — также пропитаны грибовидно-слизевой логикой. В мире Вайнбаума всё кишит миллионами «спор агрессивной венерианской плесени», а главный герой сталкивается с тестотелом — хищным протоплазменным сгустком, поглощающим всё живое.
Биологический пантеон Древних Лавкрафта, к которому Вудард (как и все спекреалисты) небезразличен, также изобилует обмякшими грибами или слизью вроде богов Ньярлатхотепа и Шоггота. При этом удивительно, что Вудард не полез в графический роман Алеша Кота «Зеро», где сюжет одного из выпусков опирается на теорию о том, что человечество произошло от фаллических грибов.
Основываясь на классике хоррора, он пытается осмыслить диапазон пространственного и временного простирания слизи, грибов и бактерий, и что будет, когда они получат права триумфатора на этой планете. Но если спросить Вударда, каким же было их господство в прошлом, то ответ будет таким: «в конце концов, слизь — это и доказательство всеобщей связи, и намек на ее разрушение, свидетельство того, что случилось нечто весьма отвратительное, — гадкая штука под названием «жизнь».
Юджин Такер и космический пессимизм«Мир. Он всё более и более непостижим. Ныне это мир планетарных катастроф, эпидемологических вспышек, тектонических сдвигов, аномальной погоды, залитых нефтью морей и нависшей угрозы вымирания» — начинает Юджин Такер в «Пыли этой планеты».
Капитализм обезбожил природу и «овеществил» ее до статуса мертвой материи, познаваемой и порабощаемой техникой. Над таким миром давно не властвует Бог и «после смерти Бога остается скрытый оккультный мир», «то, что предыдущая эпоха описывала темным языком мистицизма или негативной теологии, современная эпоха мыслит в терминах сверхъестественного ужаса».
Над таким миром давно не властвует Бог и «после смерти Бога остается скрытый оккультный мир», «то, что предыдущая эпоха описывала темным языком мистицизма или негативной теологии, современная эпоха мыслит в терминах сверхъестественного ужаса».
Такой мистицизм оборачивается природой ужаса и ужасом природы, который, по мнению Такера существует в точке пересечения таких разнообразных феноменов как демонология, биопанк и биохоррор, блэк-метал и спекулятивный реализм.
Такер видит мир трояким:
- мир-для-нас (его видение человеком или попросту Мир),
- мир-в-себе (Земля),
- мир-без-нас (Планета, очищенный от homo sapiens шар).
Особенно он тяготеет к последнему.
«В пыли этой планеты» осуждает замкнутость в первом мире как последнее убежище от радикального реализма, который видит реальность как она есть, очищенную от наносных человеческих смыслов.
Можно даже сказать, что в чем-то философия Такера сходна с эстетикой фолк-хоррора, где сам ландшафт не сулит человеку ничего хорошего. Как и Вудард, он манифестирует ничтожность человеческого разума, не способного помыслить материальный хаос природы, который в книге воплощается в образе монстра (или по Такеру — «абберации (или абоминации) природы»).
Погода как ДругойНа протяжении первой части трилогии «Ужас философии» Такера особенно интересует размытие границ между естественным и сверхъестественным, порождающее разлад в повседневной жизни и аномальные явления в погоде. Иллюстрацией такого размытия становится манга Ито Дзюндзи «Изумаки» (в русском переводе «Спираль»). В которой не поддающиеся пониманию и противные человеческому сознанию странные события — например, проклятие, закручивающее в спираль растения, водоемы и людей — становятся знаком климатологического апокалипсиса в японском городке Курозу.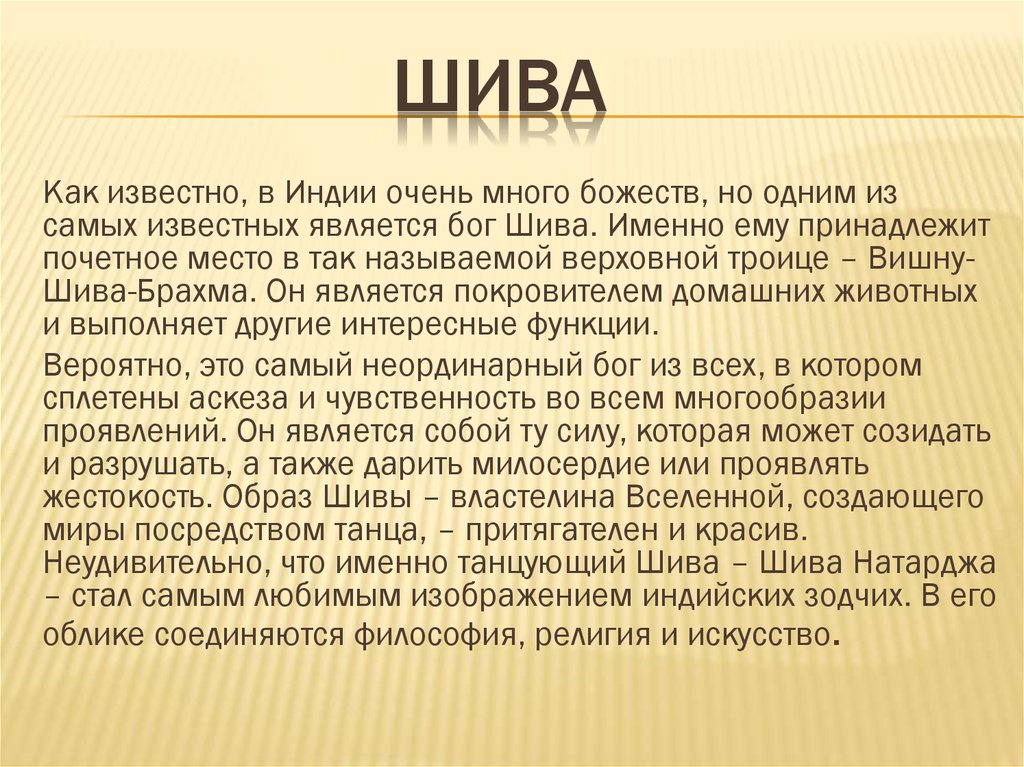
Так, Такер анализирует роман Мэтью Фипса Шила «Фиолетовое облако», в котором газ, появившийся на Северном полюсе, убивает всё живое. Или же упоминает знаменитый «Туман» Джона Карпентера, к которому также обращался создатель не/человеческой феноменологии Дилан Тригг, и указывает на свойственную картине «субъективно-объективную инверсию»: природа наделяется субъективностью и «более не зависит от человеческого взгляда».
А еще в заключительной главе «В пыли этой планеты» под названием «Унтерновый шорох черных щупальцеобразных пустот» Такер, как и многие спекреалисты вроде Вударда и Дилана Тригга, преклоняется перед экстремофилами — организмами, способными выживать в местах с экстремальными показателями радиации, температуры или глубины вроде гриба, запертого в саркофаге Чернобыля или бактерий «черных курильщиков», живущих в жерле вулкана.
Другая его книга, «Звездно-спекулятивный труп» предлагает причудливую и оригинальную технику прочтения неудобоваримых философских трактатов как художественное произведение вроде «Некрономикона» Лавкрафта или любого текста Чайны Мьевиля.
В следующем труде «Щупальца длиннее ночи» Такер призывает к обратному: читать литературу ужасов как философскую диссертацию. В общем, он показывает, что каждый уважающий себя философ новой школы должен породнить жанр хоррора — и предпочтительнее Лавкрафта — с какой-нибудь концепцией.Вместе с тем, Такер — не только идеолог ужаса философии, но и вдохновитель биопанка. В тексте «Девять диспутаций ужаса» он изучает «корпрореализацию» — «отелеснивание», переход от распыленного состояния реальности вируса к телесному воплощению этой реальности в теле зараженного человека. Там он в большей степени размышляет именно о микроорганизмах, а не об инфицированном теле.
Кроме того, Такер поглощен исследованием заболевания как последствия биологического оружия и искусственным и природным происхождением инфекций, что отсылает к другому его увлечению — постапокалиптическим антиутопиям, био- и эко-хоррору и фильмам и играм вроде «Обитель зла».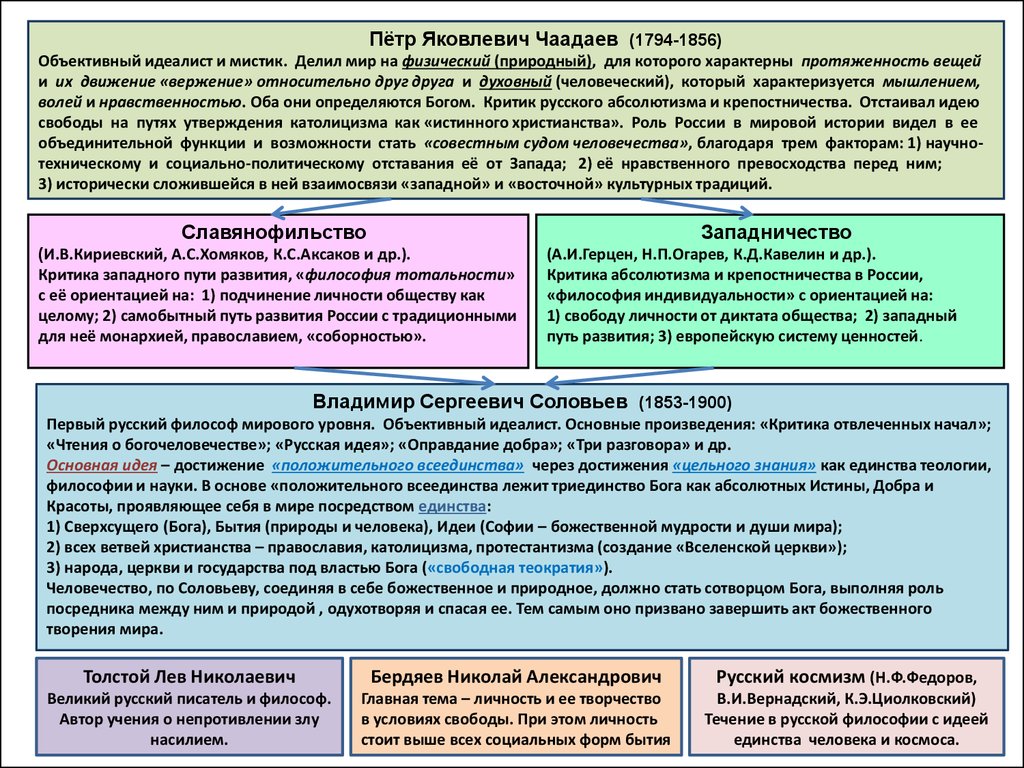
ХХ и ХХІ век — эпоха затворничества и конспирологических заговоров, окольцевавших фигуру Томаса Пинчона и после — Пелевина. Многие считают этих авторов коллективным проектом или вовсе другими известными писателями, скрывающимися под псевдонимом. То же самое — с философом иранского происхождения Резой Негарестани.
Его считали аватаром другого философа, Ника Лэнда, а у персонажа философского романа Негарестани «Циклонопедия» археолога Хамида Парсани даже брал интервью реальный академик (кто притворялся Парсани — неизвестно). Всё это только прибавило зыбкости его персоне.
В чем точно не сомневаются ни последователи спекреализма, ни ценители хоррора, так это в беспрецедентности его текста «Циклонопедия». Большинство читателей на GoodReads или Amazon пишут, что это Лавкрафт, декодированный согласно ориентирам спекулятивной философии.Представитель новой странной фантастики Джефф Вандермеер назвал Негарестани продолжателем Берроуза и Борхеса.
У философов касательно труда Негарестани рецензии были куда более дремучие. Вот, например:
«Геофизиологическое переосмысление энергетических моделей психологии, гипотетическая философская линия с чудовищными интерполированными особенностями … ослепительная энергетическая модель Фрейда бессознательной и нервной системы».
Или:
Если проще, то «Циклонопедия» — это способ говорить о философии позднего капитализма на Ближнем Востоке.«Именно в том, чтобы дать энергетическим моделям психики геофизиологический поворот, „Циклонопедия“ отходит от делезо-гваттарианской геофизиологии и, следовательно, размышляет о другой модели военной машины, земли, капитализма, монотеизма, человека и космоса».
Сам автор характеризует свой роман как «декаданс против декалога (десяти заповедей)».
В странном мире Негарестани некий Солнечный капитализм противостоит Земному ядру — демоническим сущностям и носителям эпидемий. Первые — это глобальный капитализм, а вторые — исламские джихадисты.
Первые — это глобальный капитализм, а вторые — исламские джихадисты.
Солнечный капитализм — неустанно расширяющаяся система, ускоряющая технологические и социальные процессы, которые становятся настолько быстрыми и сложными, что перестают поддаваться человеческому пониманию. Что касается Ближнего востока, то у Негарестани это чувствующее существо, основой которого является гниение.
Еще он формулирует понятие «открытости» — приверженности всепроникающему вторжению, порче, гниению и смерти, которому и поддалась политическая система Востока.
Чтобы немного передохнуть, здесь есть месопотамский некрополь, трупы древних богов, сонм демонов и нефтяные контрабандисты.Чтобы вновь загрузиться, — концепция «ктулхоидной этики», которая призвана подорвать существующие планетарные политико-экономические и религиозные системы с целью приближения радикального Внешнего (Абсолюта, где нам нет места).
Марк Фишер и киберготикаНе совсем спекулятивный реалист, но культурный теоретик Марк Фишер вслед за Жилем Делезом, Феликсом Гваттари и Вильгельмом Воррингером под готическим понимал «оживление того, что мертво» либо же то, что, будучи неорганическим, становится почти органическим.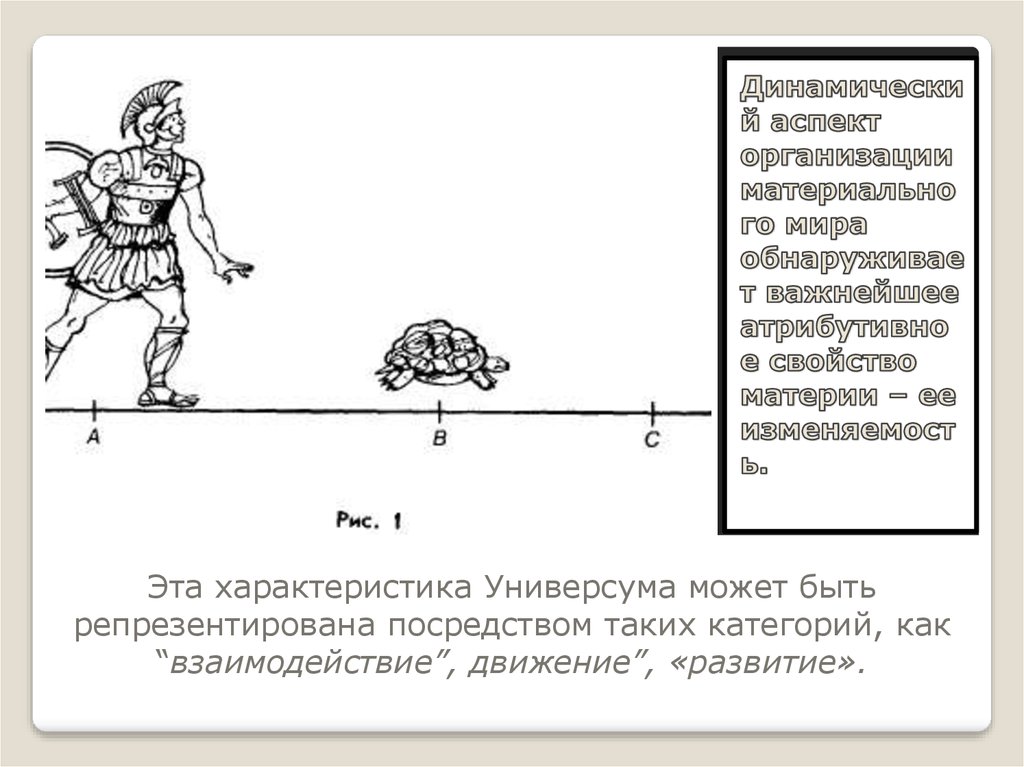
Также Фишер обращается к тезису философа Норберта Винера о том, что суть кибернетики лежит в изучении контроля извне над чем-либо (будь то тело или некий феномен).
Фишер переплетает мотив оживленной плоти монстров с контролем сумасшедших изобретателей и некромантов как ключ к современному прочтению капитализма. Так рождается киберготика.Марк Фишер обращается к канону готического романа. Например, к мертвой сшитой из множества частей туше чудовища Франкенштейна, под чутким присмотром профессора возвращающейся к жизни. Или же к «Голему» Густава Майринка.
А еще исследователь предлагает прочитывать «Капитал» Маркса как готический роман, где рабочий подобен живому мертвецу, а капиталист — вампиру. Здесь Фишер сходится с Такером и Ником Лэндом, для которых капитализм также становится рассадником темной и мертвой материи.
Вместе с тем Фишер, отталкиваясь от замечания философа Донны Харауэй о том, что машина капитализма тревожна оживлена, а мы сами пугающе мертвы, разрабатывает конструкт под названием «готический материализм».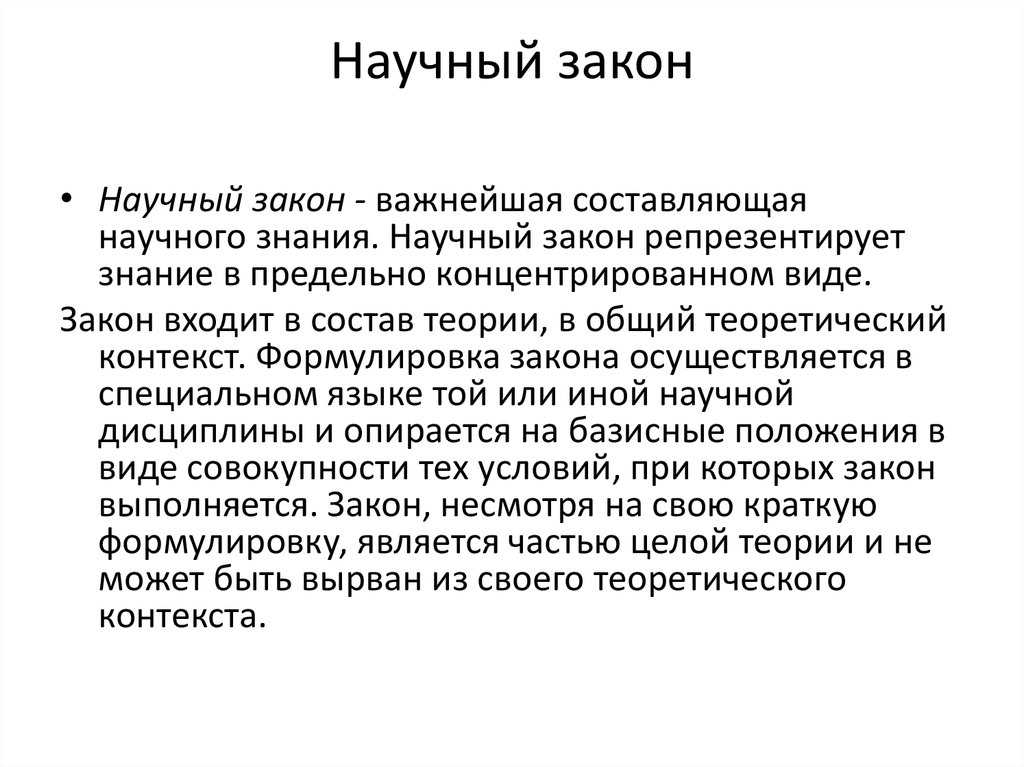 Он выражается в том, что достигший своего логического предела капитализм иссушает само естество жизни, переводя его в измерение мертвых, но так что мертвое никогда не мертво до конца, а служит ему сырьем.
Он выражается в том, что достигший своего логического предела капитализм иссушает само естество жизни, переводя его в измерение мертвых, но так что мертвое никогда не мертво до конца, а служит ему сырьем.
Здесь Фишер помимо марксисткой критики обращается еще и хонтологии — термину Жака Деррида, означающему парадоксальное состояние одновременно живого и мертвого призрака (он придумал его во время написания труда о Марксе и капитализме). Говоря о капитализме, нельзя не говорить о хонтологии, ведь суть этой дисциплины не только в изучении репрезентации прошлого в настоящем, но и в ностальгии по утопическому будущему, которое отняло у нас то прошлое, в котором зародился капитализм.
Именно капитализм становится конвейером по порождению полумертвой-полуживой материи, напоминающей неупокоенных готических призраков.
С рождения вовлеченные в капиталистические отношения, по Фишеру, мы уже рождаемся мертвыми. Поддавшись техногенному рывку, по Харауэй, мы всё более походим на ходячих мертвецов.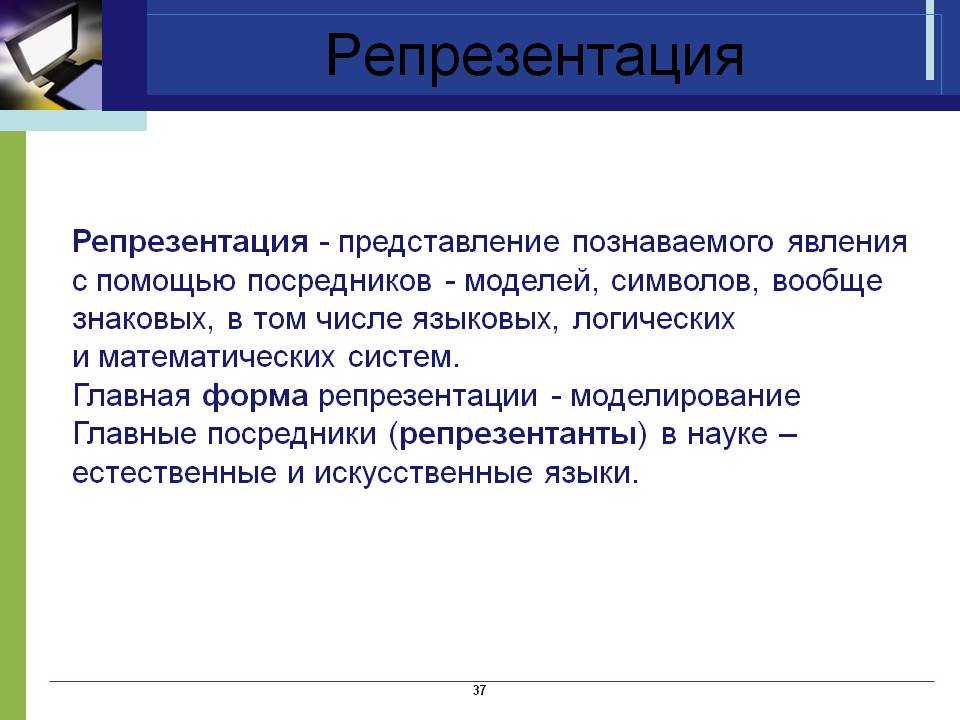
Производитель и потребитель способствуют разрастанию суммарной массы мертвой плоти. Если слегка перефразировать слоган одного островного клана, то киберготика думает о капитализме так: «то, что мертво, но умереть не может».
Концепты фольклора как протофилософские категории
Библиографическое описание:Нагапетян, К. Ж. Концепты фольклора как протофилософские категории / К. Ж. Нагапетян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 15 (95). — С. 701-703. — URL: https://moluch.ru/archive/95/21313/ (дата обращения: 19.09.2022).
В современной философии проблема языковой картины мира является одной из наиболее актуальных. Язык позволяет понять подлинную сущность народа, проникнуть в глубины его миропонимания. Посредством языка формируется определенная языковая картина мира, которая представляет собой систему мировоззренческих установок языковой общности, выраженную в совокупности концептов.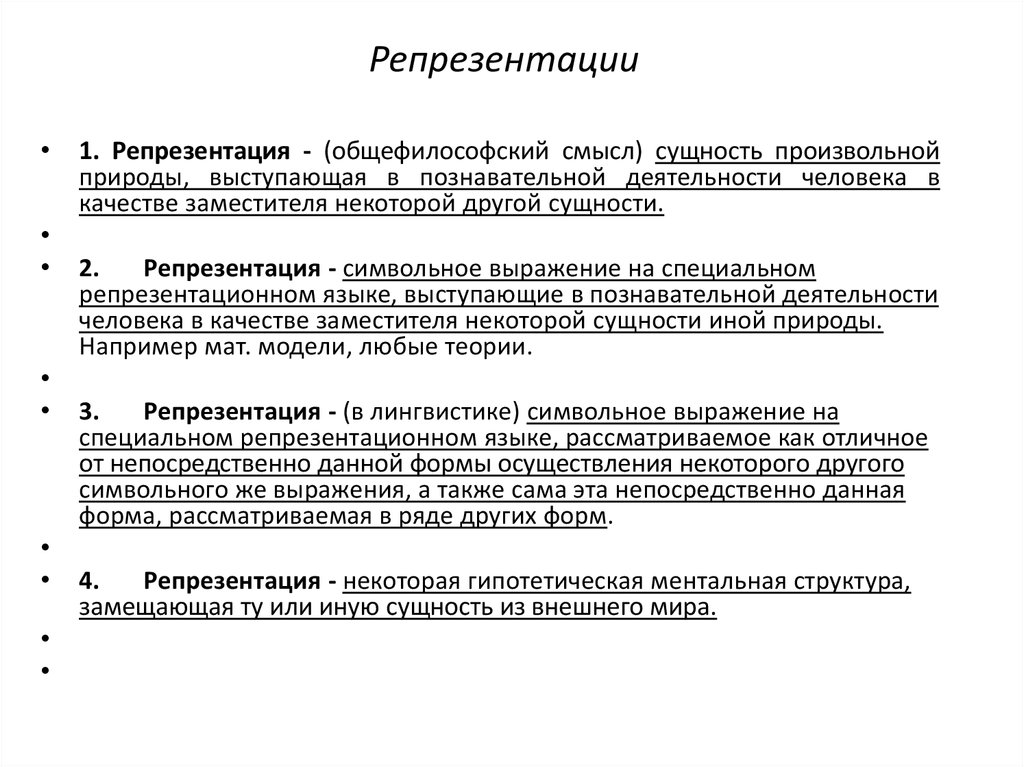 В состав каждой языковой картины мира входит определенный набор концептов, имеющих особенное значение и ценность для ее носителей.
В состав каждой языковой картины мира входит определенный набор концептов, имеющих особенное значение и ценность для ее носителей.
Языковая картина мира может быть сформирована концептами из различных областей духовной культуры, как философии, так и художественного творчества. Фольклор составляет мощнейшую концептуальную базу русской духовной культуры, его терминология относится к области констант национальной культуры России. Поскольку посредством фольклора осуществляется сохранение и передача культурных традиций этноса, уместно будет отметить так называемый этносберегающий характер фольклора, его значимость для обеспечения существования этноса. Это объясняется тесной связью фольклора с жизнью народа, его историей и бытом.
Фольклор, являясь частью национальной духовной культуры, осуществляет развитие в своих рамках различных социальных и демократических элементов, посредством него проявляется общность и патриотичность русской нации. Именно фольклор является выразителем общих взглядов и идеалов, а также важных жизненных вопросов, выражая национальное сознание.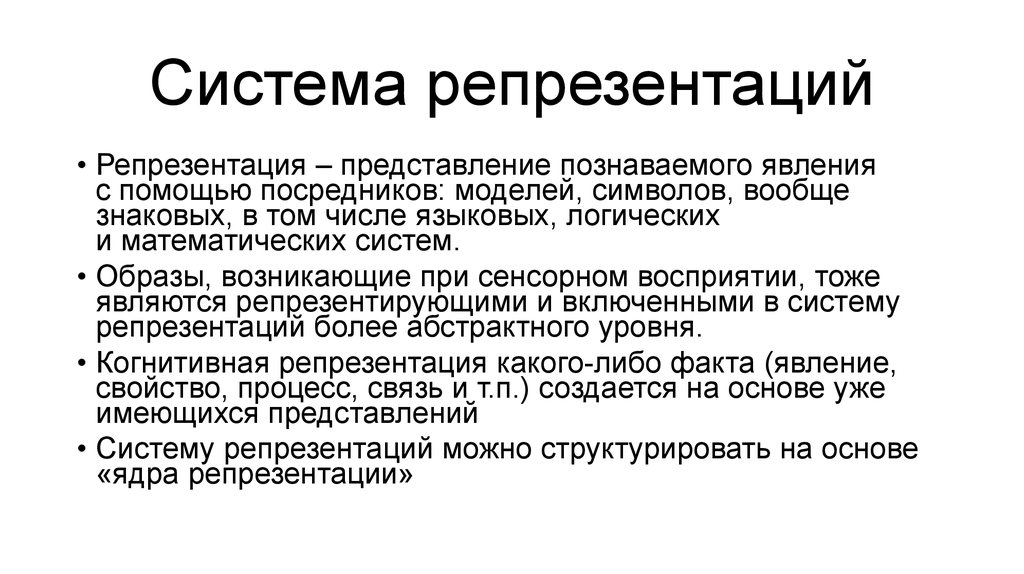
Актуальность проблемы будет заключаться в рассмотрении основных концептов картины мира русского фольклора не с точки зрения лингвистики, как это происходило ранее, а с позиций их философского анализа.
В работе Г. И. Гурьяновой «Фольклор и философия в системе культуры» [2, с. 161] отмечена взаимосвязь двух различных явлений духовной культуры — фольклора и философии. Фольклор отражает обыденное мировоззрение народа в различные эпохи, являясь источником нетеоретической мудрости. Для него характерна направленность на осознание бытия человека в мире, в чем и заключается связь с философией.
Согласно А. В. Громову и С. Л. Громовой, фольклор каждого народа относится к целостной мировоззренческой системе, вытекающей из конкретного фольклора. Это система мировоззренческих установок, которая содержит в себе развитие нации, ее взаимодействие с другими нациями, в ходе культурного обмена. Картина мира, создаваемая в фольклоре, является позитивно-созидательной.
В рамках фольклора на обыденном уровне осмысливаются вечные философские проблемы добра и зла, бытия и небытия.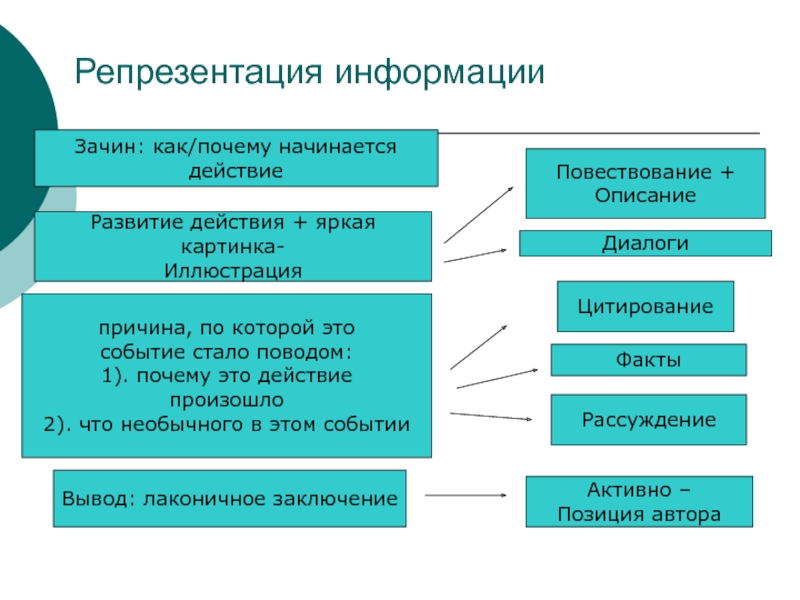 Что позволяет обозначить связь русского фольклора с философией. Фольклор также можно обозначить в качестве протофилософии, системы жизненных взглядов и установок, в которых выражались такие глобальные проблемы бытия социума, как: первопричина и первоматерия, бытие и небытие. Он заключал в себе антропологические принципы, зачатки онтологии и гносеологии.
Что позволяет обозначить связь русского фольклора с философией. Фольклор также можно обозначить в качестве протофилософии, системы жизненных взглядов и установок, в которых выражались такие глобальные проблемы бытия социума, как: первопричина и первоматерия, бытие и небытие. Он заключал в себе антропологические принципы, зачатки онтологии и гносеологии.
И. И. Лапшин рассматривал фольклор в качестве почвы для философии, но считал, что в отличие от философского знания, в нем на первый план выходит не теоретическое, познавательное содержание, а отношение к практическим интересам жизни. Фольклор содержит в себе некий элемент, который на следующей ступени развития трансформируется в Логос.
Весь русский фольклор пронизан различными концептами. Так, например, концепты добра и зла относятся к сфере мировоззренческих понятий. Как и в философии, они являются полярными категориями. С точки зрения аксиологии, концепты, входящие в состав русского фольклора имеют прямое отношение к общечеловеческой системе ценностей, посредством них реализуются представления индивидов о нравственных идеалах, моральных установках, нормах поведения.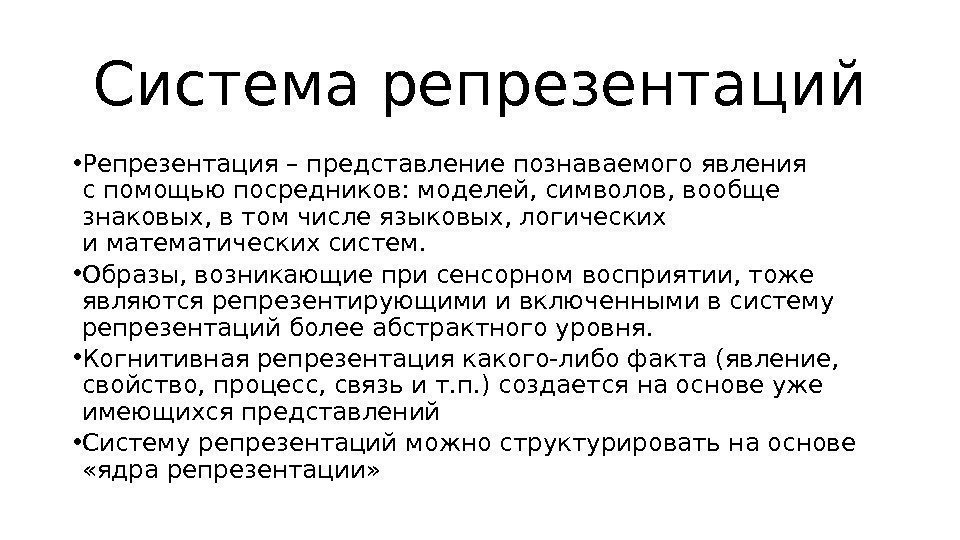
В русском фольклоре, чтобы добиться чего-нибудь, индивид должен был сначала победить зло, совершив добро. Он постоянно сталкивается с выбором. В русской философии антропологии категории добра и зла были проанализированы двумя выдающимися философами, В. Соловьевым и Н. Бердяевым.
Так, например, В. Соловьев исходил из идеи всеединства, которая есть добро и преодоление зла. В своем произведении «Оправдание добра», В. Соловьев утверждал, что у добра не может быть никаких других мотивов, кроме него самого, оно сильнее зла. Добро свойственно человеческой природе, существует в сердцах людей. «Всякое нравственное учение, какова бы ни была его внутренняя убедительность, или внешняя авторитетность, оставалось бы бессильным и бесплодным, если бы не находило для себя твердых точек опоры в самой нравственной природе человека» [5, с. 75].
Н. О. Бердяев исходил из мнения, что человек виновен не только в зле, но и добре. Философ добро и зло рассматривал в качестве онтологических сил. «Если бы не было различения добра и зла, не было бы зла, то никогда бы не возникла ни проблема теодицеи, ни проблема этики» [1, с. 37].
«Если бы не было различения добра и зла, не было бы зла, то никогда бы не возникла ни проблема теодицеи, ни проблема этики» [1, с. 37].
Для русского фольклора всегда была характерна этическая установка на обязательную победу добра над злом, вера в то, что зло будет наказано.
Другими важными концептами русского фольклора являются концепты жизни и смерти. Жизнь символизирует светлое начало, смерть, конечность всего сущего, темное начало, связанное с потусторонними силами. Уместно также будет отметить наличие в русском фольклоре бинарной оппозиции жизни и смерти, живого и неживого. Смерть в русском фольклоре относилась скорее к области потустороннего. Таким образом, существовала граница между жизнью и смертью, вход в потусторонний мир был доступен только избранным.
Главный герой, в своей борьбе со злом, мог переступать границу жизни, бытия попадая в потусторонний мир небытия, чтобы затем, победив его, вернуться обратно в земной мир.
Существует диалектика жизни и смерти. Образом смерти в русском фольклоре традиционно выступала женщина в белом одеянии, отсутствовал страх смерти, так как было возможно воскрешение, ее преодоление. Смерть воспринимали скорее позитивно, нежели негативно, как нечто неизбежное, как конец существования в одном мире и начало существования в другом мире — мире потусторонних сущностей.
Образом смерти в русском фольклоре традиционно выступала женщина в белом одеянии, отсутствовал страх смерти, так как было возможно воскрешение, ее преодоление. Смерть воспринимали скорее позитивно, нежели негативно, как нечто неизбежное, как конец существования в одном мире и начало существования в другом мире — мире потусторонних сущностей.
Своеобразное выражение получили концепты пространства и времени. Время, существующее в рамках фольклорной парадигмы, существенно отличалось от реального времени. Так, время определялось своей направленностью в прошлое, причем в его абстрактной форме, направляясь к изначальной точке своего отсчета, в «стародавние времена». Также не существовало точного отображения времени года, не указывались эпоха, год, месяц, час.
Временной отрезок делился лишь на день и ночь, на до и после. Ночь являлась сферой бытия потусторонних сил, всего темного и злого. День, напротив, олицетворял собой подъем душевных сил, нечто светлое, с восходом солнца было связано рождение нового дня, как нового начала.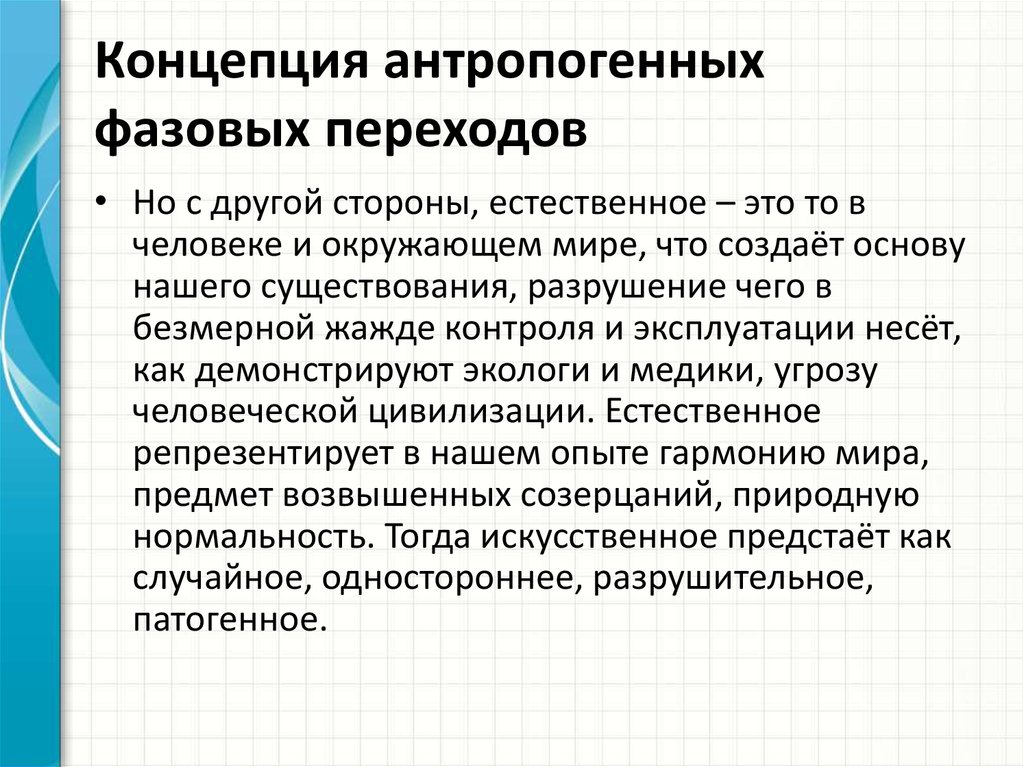
В исследованиях В. Н. Топорова, как такового рационализированного пространства не существовало в мифопоэтической модели мира. В фольклоре пространство всегда выступало в качестве оживотворенного, одухотворенного и разнородного начала.
Оно не являлось чем-то идеальным, абстрактным, конституируясь заполняющими его вещами. Пространство русского фольклора всегда заполнено и вещно, его нет вне вещей. Образует вместе со временем некое единство — хронотоп.
Мифопоэтическая вселенная, согласно В. Н. Топорову, есть широкое, развертывающееся вовне свободное пространство. Оно организовано и расчленено. В сказке герой отправляется вовне, на периферию пространства, которая всегда отличается высокой степенью опасности и концентрации злых сил.
Н. А. Лантух в своей работе «Культурологический анализ категории «сакральная граница» в сказках А. С. Пушкина» [3, с. 182] в ментальном пространстве-времени русского фольклора выделял так называемую «сакральную границу», разделяющую и связывающую человеческий мир с потусторонним миром.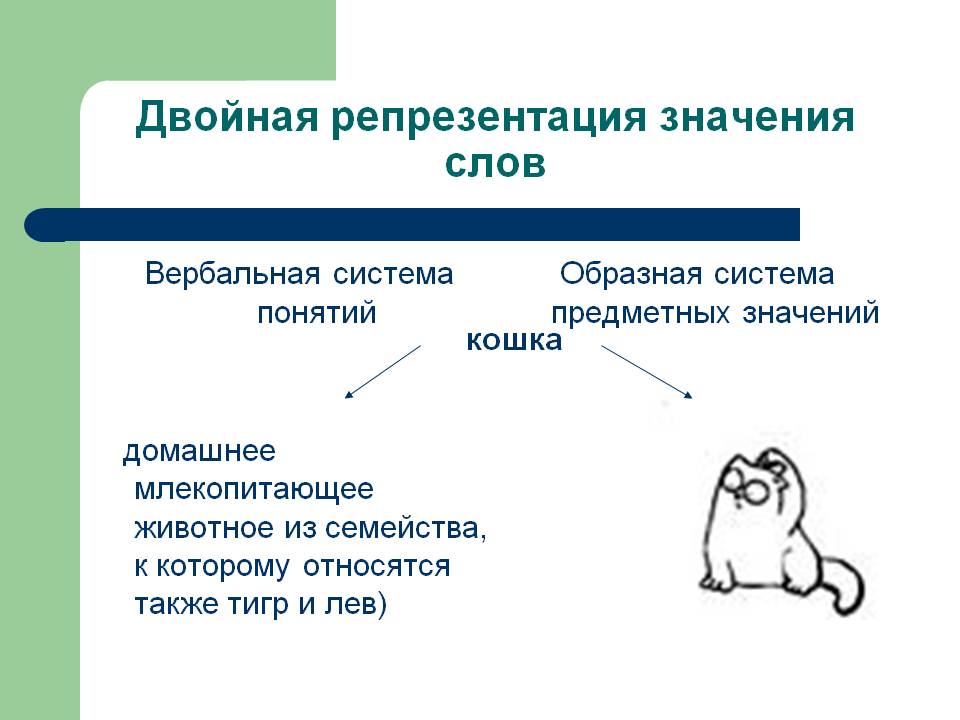 В русском фольклоре сакральная граница всегда обозначалась следующими терминами: «море-Окиян», «путь-дорога», «перекресток».
В русском фольклоре сакральная граница всегда обозначалась следующими терминами: «море-Окиян», «путь-дорога», «перекресток».
Согласно взглядам Н. А. Лантуха, все события, происходящие на заре, восходе солнца в русском фольклоре имели положительное содержание, поскольку считалось, что утренняя Заря дарит людям магическую силу. Рассвет закрывал вход в мир злой, нечистой силе. Нечистым временем считались полдень, полночь, глухая ночь.
Говоря о смерти или небытии в русском фольклоре, Т. А. Лисицына в работе «Образы смерти в русской культуре: лингвистика, поэтика, философия» [4] отмечает раздвоенность бытия, которая выступает в качестве формы его непрерывности. Загробный мир аналогичен земному, в нем также присутствует деление на добрых и злых. Покойники влияют на бытие живых людей. Существует диалектика жизни и смерти.
Наиболее значимым является концепт материнства. С его помощью осуществляется построение всей концептуальной картины мира. С точки зрения мировоззренческой и этнокультурной специфики он обозначает доверие, уважение, преданность. Мать символизирует начало жизни, если рассматривать данный концепт с точки зрения философской категории, то его можно отнести к области первоматерии.
Мать символизирует начало жизни, если рассматривать данный концепт с точки зрения философской категории, то его можно отнести к области первоматерии.
Любовь к матери пронизывала все пространство русского фольклора, а поскольку в русском миропонимании образ матери издавна был связан с землей, это способствовало распространению любви русского человека к своей земле и всему, что было с ней связано, например, земледелию, труду, связанному с обрабатыванием и возделыванием земли. Таким образом, в русском фольклоре происходит сакрализация образа матери-земли.
Следовательно, можно сделать вывод, что пространство фольклора являет собой начальную, в некоторой степени архаичную ступень познания действительного мира, основанную, прежде всего, на бытовом, практическом отношении к реальным явлениям, а не на их теоретическом осмыслении. Как и философия, он нацелен на проблемы бытия человека в мире. В его рамках существует постоянная диалектика двух противоположных начал, что и позволяет проследить его связь с философией и обозначить в качестве протофилософии.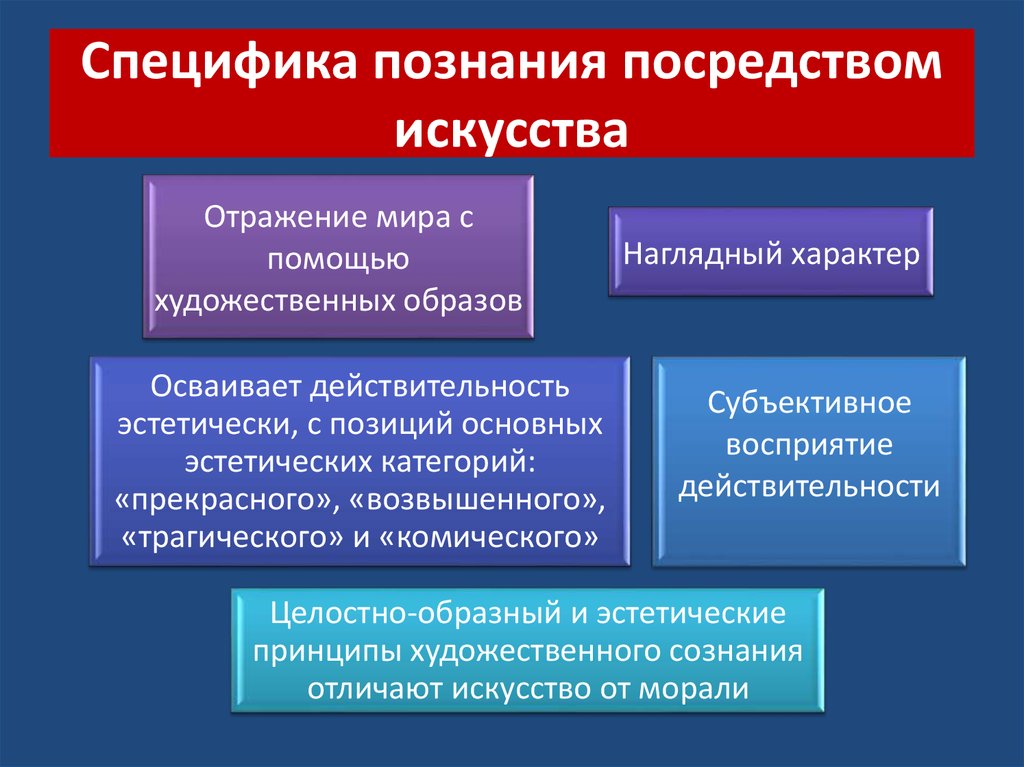
Литература:
1. Бердяев Н. О назначении человека. — М.: Республика, 1993. — С. 37.
2. Гурьянова Г. И. Фольклор и философия в системе культуры / Г. И. Гурьянова / / Бодуэновские чтения: Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика: Междунар. науч. конф. — Труды и материалы: в 2 Т. — Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2001. — Т. 2. — С. 161.
3. Лантух Н. А. Культурологический анализ категории «сакральная граница» в сказках А. С. Пушкина. / / Культура народов Причерноморья. — № 3. — 1998. — С. 182–188.
4. Лисицына Т. А. Образы смерти в русской культуре: лингвистика, поэтика, философия. — Фигуры Танатоса. Философский альманах. Пятый специальный выпуск. URL: http://antropology.ru/ru/texts/lizis/tanatos5.html (дата обращения: 15.01.2011).
5. Соловьев В. С. Оправдание добра: Нравственная философия. — М.: Республика, 1996. — С. 75.
Основные термины (генерируются автоматически): русский фольклор, фольклор, зло, языковая картина мира, смерть, философия, восход солнца, диалектик жизни, Образ смерти, потусторонний мир.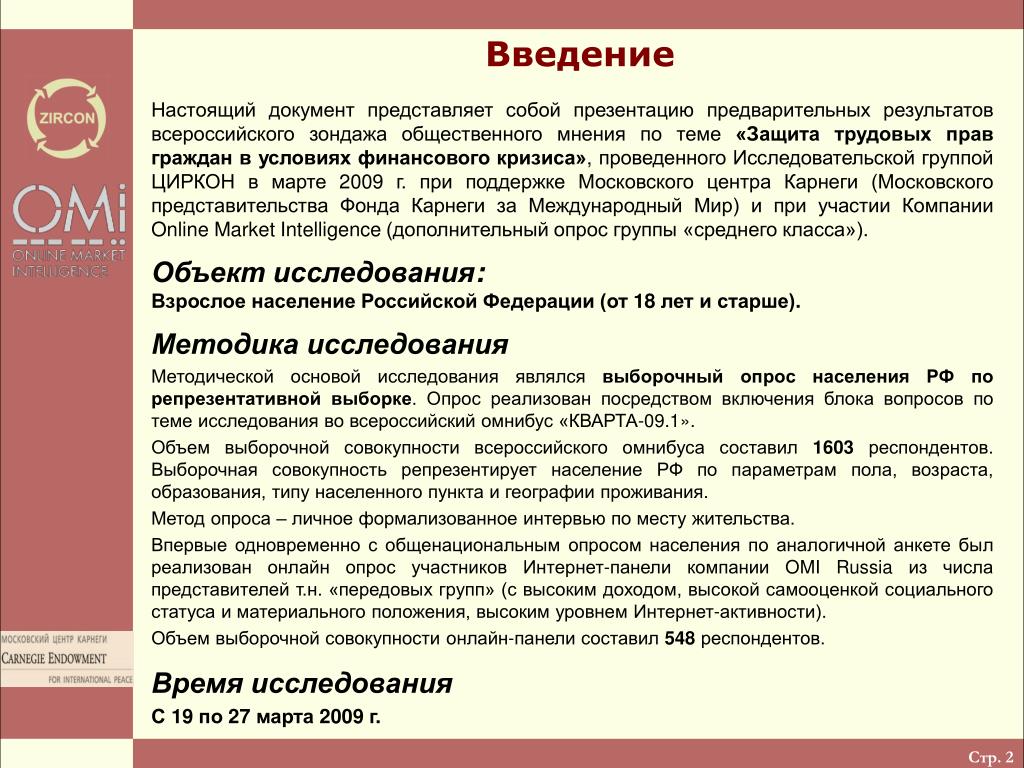
Эстетика Гудмана (Стэнфордская философская энциклопедия)
Нельсон Гудман, безусловно, был одной из самых влиятельных фигур
в современной эстетике и аналитической философии вообще (в
Помимо эстетики, его вклад охватывает области прикладного
логика, метафизика, эпистемология и философия науки). Его Languages of Art (впервые опубликовано в 1968 г. [Goodman 1976]),
вместе с «Искусство » Эрнста Гомбриха и «Иллюзия » (1960)
и 9 Ричарда Воллхейма.0003 Искусство и его объекты (1968),
представляет собой фундаментальный поворотный момент в аналитическом подходе к
Художественные проблемы в англо-американской философии. Его часто неортодоксальный
Взгляд на искусство является частью общего подхода к познанию и реальности,
и всегда проникнут своим когнитивизмом, номинализмом,
релятивизм и конструктивизм. Из языков искусства и
последующих работах, общий взгляд на искусство как на вклад в
пониманию и даже построению реальностей, в которых мы живем
появляется. В конечном счете, по мнению Гудмана, искусство не является резко
отличается по целям и средствам от науки и обычного
опыт. Картины, музыкальные сонаты, танцы и т. д. — все это символы.
которые классифицируют для нас части реальности, как и такие вещи, как научные
теории и то, что составляет обыденное, обыденное знание.
В конечном счете, по мнению Гудмана, искусство не является резко
отличается по целям и средствам от науки и обычного
опыт. Картины, музыкальные сонаты, танцы и т. д. — все это символы.
которые классифицируют для нас части реальности, как и такие вещи, как научные
теории и то, что составляет обыденное, обыденное знание.
Личная жизнь Гудмана (7 августа 1906 г. — 25 ноября 1998 г.)
был связан с искусством многими и важными способами. С 1929 по 1941 год он
руководил художественной галереей в Бостоне: Художественной галереей Уокера-Гудмана. Это
благодаря этому обязательству он встретил свою жену, Кэтрин Стерджис,
опытный художник, чьи работы воспроизведены в « способах» Гудмана.
Миротворчества (1978a). В 1941 году он получил докторскую степень. в
Философия в Гарвардском университете, с диссертацией, Исследование
Качества (1941), в котором излагается номиналистический взгляд,
позже будет представлен в его первой книге «Структура
Внешний вид (1951 г.). Преподавал в Университете Тафтса (1945–46).
Университет Пенсильвании (1946–64), Университет Брандейса
(1964–67), а с 1967 года в Гарвардском университете, где он
стал почетным профессором в 1977 году.
Преподавал в Университете Тафтса (1945–46).
Университет Пенсильвании (1946–64), Университет Брандейса
(1964–67), а с 1967 года в Гарвардском университете, где он
стал почетным профессором в 1977 году.
На протяжении всей своей жизни он оставался страстным коллекционером древних и
произведений современного искусства, а также щедрым кредитором и донором
количество музеев. Он был строгим философом, который, однако, никогда
не хватало возможности поговорить с художниками и исследователями из других
поля. В 1967, в Педагогической школе Гарварда он основал
междисциплинарная программа изучения образования и искусства,
«Проект Ноль», которым он руководил до 1971 года.
В Гарварде он основал и руководил программой «Летние танцы». Это,
тогда совсем неудивительно, что среди произведений Гудмана мы
найти, наряду с философской продукцией, мультимедийные проекты, которые
комбинировать — действительно очень по-гудменовски — живопись
(включая работы Стерджиса), музыка и танцы: Хоккей
Просмотрено (1972), Rabbit Run (1973) и вариации (1985г).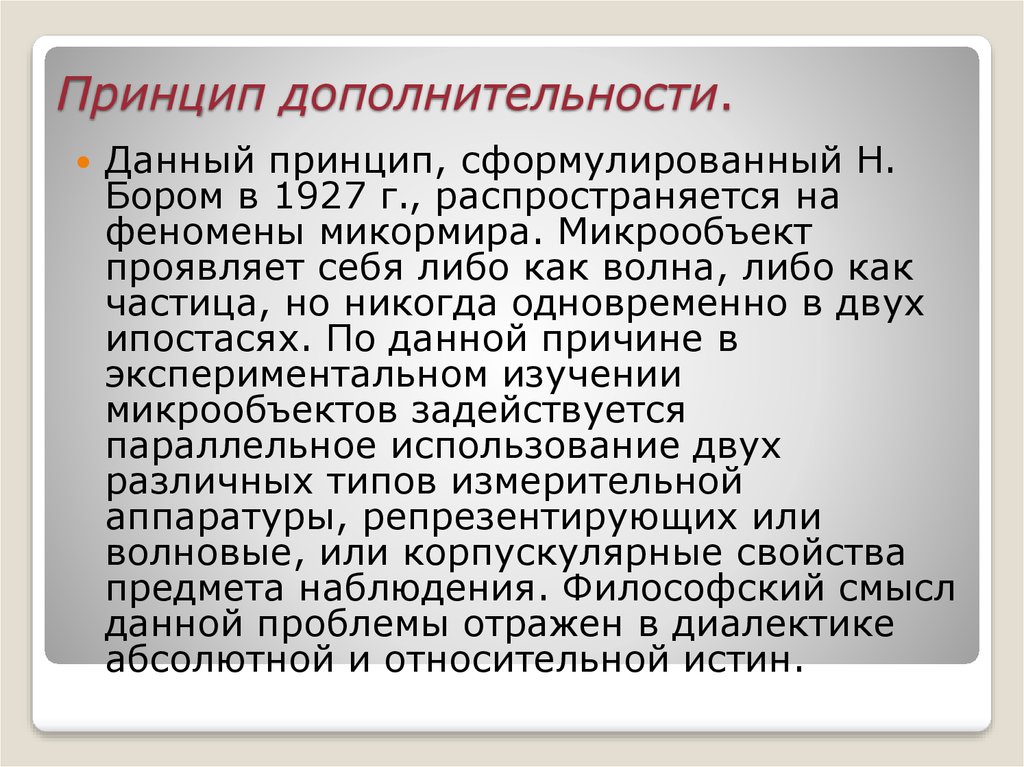
Один из способов приблизиться к эстетике Гудмана и увидеть и то, и другое
его единство и преемственность с его работами в других областях философии,
вспоминая некоторые идеи, представленные в одной из его ранних работ, Факт, вымысел и прогноз (первоначально опубликовано в 1954 г.).
[Гудман, 1983]). Там Гудман формулирует то, что он называет
общая проблема проектирования» (из которых знаменитая «новая
загадка индукции» является примером). Проблема кроется в
общая идея о том, что мы проецируем предикаты на реальность (реальность
которое само «построено» этими проекциями,
согласно конструктивистскому подходу, который Гудман защищал от
время Исследование Качеств [1941], следовательно, в The
Структура Внешний вид [1951] и, позже, в Способы
Миротворчество [1978a]). Юм классно утверждал, что индукции
на основе закономерностей, обнаруженных в опыте, и пришел к выводу, что
индуктивные предсказания вполне могут оказаться ложными. В факте,
Художественная литература и Прогноз , Гудман указывает, как
«закономерности» сами по себе в некотором смысле проблематичны. Брать
такие объекты, как изумруды, которые мы классифицируем с помощью предиката
«зеленый.» Их также можно назвать «грубыми».
т. е. наблюдаемые до определенного времени т и нашел зеленый, синий
в противном случае. Следовательно, наши наблюдения, по-видимому, в равной степени допускают два различных
индукции — что изумруды останутся зелеными после t или
что они будут синими. Проблема общая, не затрагивающая
всего лишь гипотезы, а проекция любого предиката на мир.
Действительно, как мы делим мир на зеленый и синий вещи, поэтому мы могли бы разделить его на grue и bleen вещи (вещи, которые наблюдаются до т и нашел синий, и
в противном случае зеленый). Обратите внимание, что при описании мира с использованием
пары предикатов «зеленый/синий», может не быть никаких изменений в
время т (без изменения цвета изумрудов и сапфиров за
пример), тогда как в альтернативном варианте произошли бы изменения
Пара «серый / бледный».
Брать
такие объекты, как изумруды, которые мы классифицируем с помощью предиката
«зеленый.» Их также можно назвать «грубыми».
т. е. наблюдаемые до определенного времени т и нашел зеленый, синий
в противном случае. Следовательно, наши наблюдения, по-видимому, в равной степени допускают два различных
индукции — что изумруды останутся зелеными после t или
что они будут синими. Проблема общая, не затрагивающая
всего лишь гипотезы, а проекция любого предиката на мир.
Действительно, как мы делим мир на зеленый и синий вещи, поэтому мы могли бы разделить его на grue и bleen вещи (вещи, которые наблюдаются до т и нашел синий, и
в противном случае зеленый). Обратите внимание, что при описании мира с использованием
пары предикатов «зеленый/синий», может не быть никаких изменений в
время т (без изменения цвета изумрудов и сапфиров за
пример), тогда как в альтернативном варианте произошли бы изменения
Пара «серый / бледный». Точно так же, хотя могут быть изменения,
в момент времени t , под «зеленым/синим» (в случае, если, скажем,
изумруд закрашивается на т ), изменений может и не быть
под альтернативной парой «grue/bleen». Новая загадка
индукции — и вообще проблема
проекции — значит объяснить, каковы основания для
проецирование определенных предикатов — «зеленый»,
«синий», «красный» и т. д. — на мир, и
а не другие — «грю», «блейн»,
«gred» и т. д. Ибо, как утверждает Гудман,
«Закономерности там, где вы их найдете, и вы можете найти их
везде» (1983, 83). Принципиально разницы нет
между предикатами, которые мы используем, и теми, которые мы могли бы использовать, а скорее
прагматическая разница в привычке или в
«закрепление» одних предикатов, а не других.
Точно так же, хотя могут быть изменения,
в момент времени t , под «зеленым/синим» (в случае, если, скажем,
изумруд закрашивается на т ), изменений может и не быть
под альтернативной парой «grue/bleen». Новая загадка
индукции — и вообще проблема
проекции — значит объяснить, каковы основания для
проецирование определенных предикатов — «зеленый»,
«синий», «красный» и т. д. — на мир, и
а не другие — «грю», «блейн»,
«gred» и т. д. Ибо, как утверждает Гудман,
«Закономерности там, где вы их найдете, и вы можете найти их
везде» (1983, 83). Принципиально разницы нет
между предикатами, которые мы используем, и теми, которые мы могли бы использовать, а скорее
прагматическая разница в привычке или в
«закрепление» одних предикатов, а не других.
Когда объединяют идею закрепления предиката с тем, для чего
наше успешное проецирование определенных предикатов (и, в более общем смысле, символов ), а не другие, изменяет наше наблюдение и очень
восприятия действительности (действительно это составляет построения разных реальностях), есть основания для общего
подход к нашему познавательному отношению к миру, частью которого является искусство. фундаментальный компонент. Произведения искусства также являются символами, относящимися к
мира (или миров, из которых они вносят свой вклад в создание) в
множество различных способов. Познание мира искусства – это не
в сущности, отличается от понимания мира науки или
обычное восприятие: требуется интерпретация различные символы, связанные с этими областями. Какие символы
успешно спроецированы с течением времени — и, например, которые
художественные стили воспринимаются как привычные, а какие как
революционные, или какие лингвистические формулы относятся к категории дословных
а какие как метафорические — во многом зависит от того, что
привычный, «укоренившийся» в рамках определенной культурной,
художественное или языковое сообщество.
фундаментальный компонент. Произведения искусства также являются символами, относящимися к
мира (или миров, из которых они вносят свой вклад в создание) в
множество различных способов. Познание мира искусства – это не
в сущности, отличается от понимания мира науки или
обычное восприятие: требуется интерпретация различные символы, связанные с этими областями. Какие символы
успешно спроецированы с течением времени — и, например, которые
художественные стили воспринимаются как привычные, а какие как
революционные, или какие лингвистические формулы относятся к категории дословных
а какие как метафорические — во многом зависит от того, что
привычный, «укоренившийся» в рамках определенной культурной,
художественное или языковое сообщество.
Большая часть эстетики Гудмана содержится в его языках.
ст. (которую он переиздал с небольшими изменениями через секунду).
издание 1976 г.), хотя то, что там представлено, уточняется,
расширены, а иногда исправлены в более поздних очерках. Как его подзаголовок, Подход к общей теории символов , указывает, что это
это книга, имеющая отношение не только к вопросам искусства, но и к
понимание символов, языковых и неязыковых, в
науках, так и в обычной жизни. Действительно, Языки
Статья имеет среди своих достоинств то, что она сломалась в
не поверхностный и плодотворный путь, разрыв между искусством и наукой.
Общая точка зрения Гудмана состоит в том, что мы используем символы в нашем восприятии,
понимание и конструирование миров нашего опыта:
разные науки и разные искусства вносят одинаковый вклад в
предприятие познания мира. Как и в его работах в
эпистемология, метафизика и философия языка, Гудман.
подход часто является неортодоксальным и новаторским, и все же никогда в способах
которые не освежают и не наводят на мысль о будущих событиях (некоторые
из этих разработок сам Гудман продолжил в более поздних эссе.
и, что наиболее примечательно, в его последней книге, написанной в соавторстве с Кэтрин Элгин, Реконцепции в философии и других искусствах и науках [1988]).
Как его подзаголовок, Подход к общей теории символов , указывает, что это
это книга, имеющая отношение не только к вопросам искусства, но и к
понимание символов, языковых и неязыковых, в
науках, так и в обычной жизни. Действительно, Языки
Статья имеет среди своих достоинств то, что она сломалась в
не поверхностный и плодотворный путь, разрыв между искусством и наукой.
Общая точка зрения Гудмана состоит в том, что мы используем символы в нашем восприятии,
понимание и конструирование миров нашего опыта:
разные науки и разные искусства вносят одинаковый вклад в
предприятие познания мира. Как и в его работах в
эпистемология, метафизика и философия языка, Гудман.
подход часто является неортодоксальным и новаторским, и все же никогда в способах
которые не освежают и не наводят на мысль о будущих событиях (некоторые
из этих разработок сам Гудман продолжил в более поздних эссе.
и, что наиболее примечательно, в его последней книге, написанной в соавторстве с Кэтрин Элгин, Реконцепции в философии и других искусствах и науках [1988]).
Что касается искусства в частности и символической деятельности в В целом, Гудман защищает форму когнитивизма : с помощью символы, которые мы открываем (на самом деле мы создаем) миры, в которых мы живем, и интерес, который мы питаем к символам, в том числе к произведениям искусства, отчетливо познавательный. В самом деле, для Гудмана эстетика есть не что иное, как раздел эпистемологии. Картины, скульптуры, музыкальные сонаты, танцы фигуры и т. д. состоят из символов, обладающих различными функции и находятся в различных отношениях с мирами, к которым они относятся. Следовательно, произведения искусства требуют интерпретации, а их интерпретация равнозначна понять, к чему они относятся, каким образом и в рамках чего системы правил.
Символизировать для Гудмана то же самое, что ссылаться. Следовательно, это
здесь важно подчеркнуть, во-первых, что ссылка имеет, по его мнению,
разные режима , и, во-вторых, что-то есть символ, и
является символом данного вида, только в пределах системы символов такого рода, система, управляемая синтаксическими и семантическими правилами
которые являются отличительными чертами символов такого рода. Конечно, естественно
языки являются примерами систем символов, но есть и много других,
неязыковые системы: изобразительные, жестовые, диаграммные и др.
Конечно, естественно
языки являются примерами систем символов, но есть и много других,
неязыковые системы: изобразительные, жестовые, диаграммные и др.
3.1 Режимы отсчета
Фундаментальное понятие, лежащее в основе теории Гудмана.
символов соответствует ссылка — примитивное отношение
«обозначения» — рассматривается как артикулированное в разных
модусы, одним из которых является денотат, и как получение не только непосредственно
но также и косвенно, иногда через длинные цепочки ссылок.
Действительно, одним из величайших вкладов Гудмена в философию является его
исследование видов референции или символизации. Обозначение и
примерами являются две основные формы референции вне
который Гудман развивает большую часть своего анализа. Обозначение отношения между «лейблом», таким как «Джон Ф.
Кеннеди», или «34-й президент Соединенных
Штаты», и что он обозначает (Goodman 1976, глава 1). Фактически,
согласно номиналистическому подходу Гудмана, обладают свойство (или то, что обычно называют свойством, например
быть синим) равнозначно , обозначаемому определенным
предикатом или, точнее, «меткой» (например,
«синий»). Следовательно, владение есть 90 003, обратное
обозначение . (Конечно, ярлыки могут быть частными или общими, т.
ссылка может относиться к физическому лицу, как в примере «JFK»
выше, или, по отдельности, всем членам набора, как в случае
«синий» по отношению ко всем синим элементам.) Кроме того,
метки не ограничиваются лингвистическими, т. е. предикатами:
изображения, музыкальные символы и все другие ярлыки классифицируют предметы мира;
а то, чем является что-либо, во многом зависит от невербальных ярлыков, применяемых
к нему, как и к предикатам, под которые он подпадает.
Следовательно, владение есть 90 003, обратное
обозначение . (Конечно, ярлыки могут быть частными или общими, т.
ссылка может относиться к физическому лицу, как в примере «JFK»
выше, или, по отдельности, всем членам набора, как в случае
«синий» по отношению ко всем синим элементам.) Кроме того,
метки не ограничиваются лингвистическими, т. е. предикатами:
изображения, музыкальные символы и все другие ярлыки классифицируют предметы мира;
а то, чем является что-либо, во многом зависит от невербальных ярлыков, применяемых
к нему, как и к предикатам, под которые он подпадает.
Пример — вид ссылки типичный, для
Например, портновские образцы — требует обладания. В
дополнение к владению, которое, конечно, само по себе не является
форма символизации, экземплификация требует, чтобы экземплифицирующая
символ ссылается обратно на метку или предикат, который его обозначает.
Следовательно, экземплификация — это «владение плюс ссылка».
(Гудман 1976, 53). Когда свойство упоминается таким образом, оно
«выставлено, типизировано, показано» (Гудман 1976, 86). В то время как любой синий объект обозначается меткой «синий», только
те вещи, например образцы синего цвета, которые также относятся к
«синий» и аналогичные метки иллюстрируют такой цвет,
«образцы» его. Важной характеристикой образцов является
что они избирательны в том, как они функционируют символически (см.
также Гудман 1978а, 63–70). Образец портного не
экземплифицируют все свойства, которыми он обладает, или все предикаты
которые его обозначают, а скорее только те, для которых он является символом
(отсюда, например, предикаты, обозначающие цвет и текстуру, а не
предикаты, обозначающие размер или форму). Какое из его свойств делает
пример выборки зависит от системы, в которой эта выборка
используется: цвет и текстура соответствуют системам, используемым в
пошив, а не размер и форма. Пример является для Гудмана обычным
и все же, с философской точки зрения, непризнанная форма ссылки. Верно,
в его собственном философском творчестве мы находим Гудмана, использующего
пример для объяснения ряда вопросов: в первую очередь,
выражение в искусстве, но и, например, понятие художественного
стиль (1975), какое значение произведениям архитектуры можно приписать
(1985), или понятие «вариация на тему» в
такие виды искусства, как музыка и живопись (Гудман, Элгин, 1988, глава 4).
В то время как любой синий объект обозначается меткой «синий», только
те вещи, например образцы синего цвета, которые также относятся к
«синий» и аналогичные метки иллюстрируют такой цвет,
«образцы» его. Важной характеристикой образцов является
что они избирательны в том, как они функционируют символически (см.
также Гудман 1978а, 63–70). Образец портного не
экземплифицируют все свойства, которыми он обладает, или все предикаты
которые его обозначают, а скорее только те, для которых он является символом
(отсюда, например, предикаты, обозначающие цвет и текстуру, а не
предикаты, обозначающие размер или форму). Какое из его свойств делает
пример выборки зависит от системы, в которой эта выборка
используется: цвет и текстура соответствуют системам, используемым в
пошив, а не размер и форма. Пример является для Гудмана обычным
и все же, с философской точки зрения, непризнанная форма ссылки. Верно,
в его собственном философском творчестве мы находим Гудмана, использующего
пример для объяснения ряда вопросов: в первую очередь,
выражение в искусстве, но и, например, понятие художественного
стиль (1975), какое значение произведениям архитектуры можно приписать
(1985), или понятие «вариация на тему» в
такие виды искусства, как музыка и живопись (Гудман, Элгин, 1988, глава 4).
Тем не менее, путей или «маршрутов» ссылок может быть много.
разного рода, и действительно, символы могут объединяться в «цепочки
ссылка», чтобы дать начало экземплярам комплекса ссылка (Гудман, 1981а). Существует, прежде всего, своего рода
символизация, используемая метафорами (например, когда люди
называемые «волками»), способ обращения, который становится
имеет решающее значение для анализа Гудманом выразительности в искусстве. Анализируя
метафора, Гудман (1976, гл. 2; 1979) следует включенным предложениям
в знаменитой статье Макса Блэка на эту тему (Black 1954), но
расширяет и адаптирует их к своему собственному взгляду на то, что денотативное
символы — ярлыки — работают не сами по себе, а как
членов «схем» («метка функционирует не в
изоляции, но как принадлежность к семье» [Гудман 1976, 71]),
обычно соотносится с некоторой референтной «сферой».
«Синий», «зеленый», «красный» и т. д. для
экземпляр, как правило, принадлежат к одной и той же «схеме» —
набор ярлыков, установленных контекстом и привычкой, — и царство
ссылка на такую схему сделана из всех диапазонов вещей, которые
каждая метка в схеме обозначает (все синие объекты, все зеленые объекты,
так далее. ). У нас есть пример метафорической ссылки, когда символ,
лингвистический или нет, относится к чему-то вместо принадлежность к сфере, обычно соотносимой с символом
схемы, т. е. не принадлежность к тем вещам, к которым относятся символы в
обычно относятся к схеме. Поэтому назвать картину
«грустный» метафоричен, потому что предикат, который обычно
проецируется на носителей психических, эмоциональных состояний проецируется на
неодушевленный предмет, сделанный из холста, дерева и краски. С использованием
понятия схемы и области позволяют анализу Гудмана включать
утверждение, что обычно метафоры вызывают перестановки в
поле ссылки, которые воздействуют сразу на несколько меток. это
Важно подчеркнуть, что для Гудмана метафорическое использование не
менее реальным или связанным со знаниями, чем буквальное использование, и
метафорическая истина не менее форма истины, чем буквальная истина. Верно,
буквальное и метафорическое в некотором смысле лежат в одном и том же континууме.
Является ли применение ярлыка (и соответствующее владение
признака) следует считать буквальным или метафорическим, это всего лишь
дело привычки, в частности, дело возраст
метафора , ибо старые метафоры теряют свой метафорический статус и
становятся просто буквальными приложениями.
). У нас есть пример метафорической ссылки, когда символ,
лингвистический или нет, относится к чему-то вместо принадлежность к сфере, обычно соотносимой с символом
схемы, т. е. не принадлежность к тем вещам, к которым относятся символы в
обычно относятся к схеме. Поэтому назвать картину
«грустный» метафоричен, потому что предикат, который обычно
проецируется на носителей психических, эмоциональных состояний проецируется на
неодушевленный предмет, сделанный из холста, дерева и краски. С использованием
понятия схемы и области позволяют анализу Гудмана включать
утверждение, что обычно метафоры вызывают перестановки в
поле ссылки, которые воздействуют сразу на несколько меток. это
Важно подчеркнуть, что для Гудмана метафорическое использование не
менее реальным или связанным со знаниями, чем буквальное использование, и
метафорическая истина не менее форма истины, чем буквальная истина. Верно,
буквальное и метафорическое в некотором смысле лежат в одном и том же континууме.
Является ли применение ярлыка (и соответствующее владение
признака) следует считать буквальным или метафорическим, это всего лишь
дело привычки, в частности, дело возраст
метафора , ибо старые метафоры теряют свой метафорический статус и
становятся просто буквальными приложениями. Сам используя метафору, Гудман
утверждает, что «метафора — это связь между предикатом и
прошлое и объект, который уступает во время протеста» (1976, 69).
Обратите внимание, что такая формула включает в себя два элемента: сопротивление метафоре (происходящей от ее буквального
фальшь), но и притяжение (происходящее от проницательного
реорганизация схемы меток по отношению к референтной
царство, к которому может привести метафора). Метафора — это произвольное
неправильное присвоение метки, но это еще не все:
«В то время как ложь зависит от неправильное назначение метки,
метафорическая истина зависит от переназначения » (1976, 70).
выделение добавлено).
Сам используя метафору, Гудман
утверждает, что «метафора — это связь между предикатом и
прошлое и объект, который уступает во время протеста» (1976, 69).
Обратите внимание, что такая формула включает в себя два элемента: сопротивление метафоре (происходящей от ее буквального
фальшь), но и притяжение (происходящее от проницательного
реорганизация схемы меток по отношению к референтной
царство, к которому может привести метафора). Метафора — это произвольное
неправильное присвоение метки, но это еще не все:
«В то время как ложь зависит от неправильное назначение метки,
метафорическая истина зависит от переназначения » (1976, 70).
выделение добавлено).
Другие риторические фигуры (хотя и не все) могут, в Точку зрения Гудмана можно объяснить метафорически. «передачи» такого рода, действительно как «способы метафора»: олицетворение, синекдоха, антономазия, гипербола, литоты, ирония… (1976, 81–85).
Конечно, один и тот же предмет может одновременно выполнять несколько референтных функций. в то же время, обозначая определенные вещи, иллюстрируя определенные
особенности, и делать это буквально или метафорически. Более того,
иногда ссылка непрямой или промежуточный (Гудман,
Elgin 1988, 42), вызванный сочетанием различных форм
ссылки на экземпляры сложной ссылки . Ссылка
можно, так сказать, путешествовать по «цепям
ссылка», состоящая из символов, которые ссылаются или на которые ссылаются,
другие символы. Очевидным случаем является случай, когда такая страна, как
Соединенные Штаты упоминаются изображением белоголового орлана, благодаря
изображение белоголового орлана является меткой для птицы, которая, в свою очередь,
пример такого ярлыка, как «смелый и свободный», который, в свою очередь,
обозначает Соединенные Штаты и, более того, иллюстрируется
это (Гудман 1984, 62).
в то же время, обозначая определенные вещи, иллюстрируя определенные
особенности, и делать это буквально или метафорически. Более того,
иногда ссылка непрямой или промежуточный (Гудман,
Elgin 1988, 42), вызванный сочетанием различных форм
ссылки на экземпляры сложной ссылки . Ссылка
можно, так сказать, путешествовать по «цепям
ссылка», состоящая из символов, которые ссылаются или на которые ссылаются,
другие символы. Очевидным случаем является случай, когда такая страна, как
Соединенные Штаты упоминаются изображением белоголового орлана, благодаря
изображение белоголового орлана является меткой для птицы, которая, в свою очередь,
пример такого ярлыка, как «смелый и свободный», который, в свою очередь,
обозначает Соединенные Штаты и, более того, иллюстрируется
это (Гудман 1984, 62).
3.2 Схемы символов и системы символов
В общем, как обозначает символ — обозначает ли он или
экземплифицирует то, что обозначает или какие из своих особенностей экземплифицирует,
делает это прямо или косвенно, буквально или
метафорически — зависит от системы символизации внутри которого находится символ. Кроме того, символ является своего рода
это символ — лингвистический, музыкальный, изобразительный, диаграммный,
и т. д. — в силу принадлежности к символической системе определенного
Добрый. И символы отличаются друг от друга в зависимости от их различных
синтаксические и семантические правила.
Кроме того, символ является своего рода
это символ — лингвистический, музыкальный, изобразительный, диаграммный,
и т. д. — в силу принадлежности к символической системе определенного
Добрый. И символы отличаются друг от друга в зависимости от их различных
синтаксические и семантические правила.
Действительно, символ в системе , скажем, английского языка, на самом деле
состоит из условного обозначения , схемы (не путать с
упомянутое выше понятие метки «схема»), т. е.
набор символов или «персонажей» с правилами для
объединить их в новые составные символы, связанные с полем
ссылки. В английском языке, например, схема символов
состоит из символов, как буквы римского
алфавит – «а», «б», «в»,
и т. д., а также составные символы, такие как «обезьяна» или
«дом.» Каждый символ включает в себя все словесные
высказываний и чернильных надписей, т. е. всех «отметок»
которые ему соответствуют. Режим ссылки, основной для символа
системы — это обозначение: символы обозначают, обозначают элементы в поле
ссылки. схема регулируется синтаксисом правила, определяющие, как формировать и комбинировать символы, система с помощью семантических правил — определение того, как
ряд символов на схеме относятся к их области отсчета.
схема регулируется синтаксисом правила, определяющие, как формировать и комбинировать символы, система с помощью семантических правил — определение того, как
ряд символов на схеме относятся к их области отсчета.
Фундаментальное понятие, относительно которого различные
синтаксические и семантические правила систем могут быть объяснены
нотация — вкратце, система символов, в которой каждому
символ соответствует одному предмету в царстве и каждому предмету в
только один символ в системе. Отсюда, например, мюзикл
счет является символом в системе обозначений, только если он определяет
какие исполнения относятся к произведению и, в то же время,
определяется каждым из этих показателей (Гудман 1976,
128–130). В схеме обозначений все члены
характер взаимозаменяемы (т.е. есть
«безразличие характера» между отметками, которые делают
характер) (Гудман 1976, 132-134). Отсюда, например,
Латинский алфавит состоит из символов в системе обозначений, потому что
любая надпись, скажем, буквы «а» ( А или a или a …) выражает один и тот же символ
и, следовательно, может быть выбран по желанию, и поскольку каждый из таких знаков не может
использоваться для любой другой буквы алфавита. То же верно и для
Например, набора основных музыкальных символов, используемых в стандартных
нотная запись. Соответственно, два синтаксических требования
обозначение непересекаемость (каждая метка принадлежит не более чем
один символ) и конечное дифференцирование , или артикуляция (в принципе всегда можно
определить, какому символу принадлежит метка). Схемы символов, которые
обозначения можно сравнить в их работе с тем, как цифровые средства измерения работы: для любых измерений
указанный прибором всегда есть определенный ответ на
вопрос, что такое измерение? Напротив, схемы, которые
ненотационные хорошо иллюстрируются аналог системы
измерение. Из-за полного отсутствия артикуляции эти системы
также можно сказать, что он плотный по всему : при любой отметке
(например, отметка на шкале) оно может обозначать практически бесконечное число
количество знаков, следовательно, измерений; или, что то же самое, учитывая
любые две метки, существует практически бесконечное число возможных
символов между ними.
То же верно и для
Например, набора основных музыкальных символов, используемых в стандартных
нотная запись. Соответственно, два синтаксических требования
обозначение непересекаемость (каждая метка принадлежит не более чем
один символ) и конечное дифференцирование , или артикуляция (в принципе всегда можно
определить, какому символу принадлежит метка). Схемы символов, которые
обозначения можно сравнить в их работе с тем, как цифровые средства измерения работы: для любых измерений
указанный прибором всегда есть определенный ответ на
вопрос, что такое измерение? Напротив, схемы, которые
ненотационные хорошо иллюстрируются аналог системы
измерение. Из-за полного отсутствия артикуляции эти системы
также можно сказать, что он плотный по всему : при любой отметке
(например, отметка на шкале) оно может обозначать практически бесконечное число
количество знаков, следовательно, измерений; или, что то же самое, учитывая
любые две метки, существует практически бесконечное число возможных
символов между ними.
Чтобы символ система также была условной, более
требуется синтаксическая дизъюнктность и конечное дифференцирование. Символ
системы обозначений, когда 1) символы соотносятся с
поле ссылки однозначно (без сопоставления символов
к более чем одному классу ссылок, или «соответствие
класс»), 2) то, к чему относится персонаж — соответствие
класс — не должен пересекать класс соответствия другого
символов (т. е. символов должно быть семантически
непересекающееся ), и 3) всегда можно определить, к какому
символ элемент в поле ссылки соответствует (т. е. система
должен быть семантически конечно дифференцированным ).
исключения, которые должны быть изложены ниже, партитура в
стандартная западная нотация — это символ в системе обозначений.
Естественные языки, такие как английский, имеют систему обозначений.
но не могут быть системами обозначений из-за двусмысленности (на английском языке,
«мыс» относится к участку земли, а также к участку
одежды) и отсутствием смысловой разрозненности («человек» и
«доктор» имеют некоторые общие референты). Окончательно,
изобразительные системы терпят неудачу как по синтаксическим, так и по семантическим причинам.
Окончательно,
изобразительные системы терпят неудачу как по синтаксическим, так и по семантическим причинам.
Богатый и систематический общий анализ способов отнесения и типов систем символов, представленных в Languages of Art , позволяет Гудмана для решения фундаментальных вопросов философии искусства: характер различных форм искусства и символические функции, которые занимают центральное место в них; по вопросам онтологии и важности подлинность; о различии между художественным и нехудожественным формы символизации; и о роли художественной ценности.
4.1 Графическое изображение
Языки искусства вызвало оживленную дискуссию, особенно
относительно заявлений Гудмана о природе изобразительного
представление, или изображение. Согласно Гудману, символическое
Отличительной чертой изображений является денотат (1976, гл.
1) — следовательно, изображения являются ярлыками и в этом отношении аналогичны
к языковым предикатам. Характеристики, которые отличают
изобразительных систем из других денотативных систем (например, из природных
языки) делают их полной противоположностью записи: изобразительной
системы плотны на всем протяжении и в этом отношении подобны другим
аналоговые системы, такие как схемы и карты (1976,
194–198; Гудман, Элгин, 1988, гл. 7).
7).
В первом приближении утверждение Гудмана о том, что «обозначение
является ядром репрезентации» (1976, 5) означает, что изображения
графические этикетки для своих предметов, отдельных лиц или наборов
индивидов, аналогично тому, как имена, или предикаты, или словесные
описания являются лингвистическими ярлыками для их денотатов. Тем не менее, конечно,
не все картинки, у которых есть тема, т. е. все картинки, которые
репрезентативные, по сравнению с изображениями, которые не являются репрезентативными или
абстрактные — имеют реального человека в качестве своего субъекта. Немного
картины имеют только общий сюжет (скажем, изображение мужчины, в
смысла изображения ни одного человека), другие имеют вымышленный
предмет (картинка единорога, например). аккаунт Гудмана
таких случаев в плане кратное обозначение для
первое и null обозначение для последнего. Немного
изображения — примером является изображение орла, помещенного в
словарь, рядом с определением слова
«орел» — относится по отдельности ко всем членам
данный набор, например набор орлов. Другие изображения, такие как изображения
единорогов, ни к чему не относятся, так как единорогов в действительности нет:
они имеют нулевое обозначение. Гудман настаивает на том, что существование
изображения с нулевым денотатом не представляют проблемы для
точка зрения, утверждающая, что «обозначение является ядром
представление.» Такие картинки, конечно, должны быть.
отличается от других изображений с нулевым обозначением, таких как
изображения Пегаса или Пиквика. Тем не менее, они так отличаются в
быть изображением определенного
род — картинки-единороги — классифицируются иначе, чем картинки
других видов, таких как изображения Пегаса или изображения Пиквика.
Другие изображения, такие как изображения
единорогов, ни к чему не относятся, так как единорогов в действительности нет:
они имеют нулевое обозначение. Гудман настаивает на том, что существование
изображения с нулевым денотатом не представляют проблемы для
точка зрения, утверждающая, что «обозначение является ядром
представление.» Такие картинки, конечно, должны быть.
отличается от других изображений с нулевым обозначением, таких как
изображения Пегаса или Пиквика. Тем не менее, они так отличаются в
быть изображением определенного
род — картинки-единороги — классифицируются иначе, чем картинки
других видов, таких как изображения Пегаса или изображения Пиквика.
Следовательно, Гудман, по-видимому, анализирует изобразительное представление как
неоднозначное понятие, двусмысленное, то есть между денотационным смыслом
(«является изображением того-то и того-то») и неденотативным
смысл («есть такая-то картина»). Это можно рассматривать как
недостатком по сравнению с «перцептивными» теориями
изображение, подобное предложенному, например, Ричардом Воллхеймом
(1987) и Кендалл Уолтон (1990) (ср. Робинсон 2000). Тем не менее опасения по поводу
Гудман трактует понятие изображения как двусмысленное.
неуместно для фразы «изображение» и родственных ей слов.
легко показать, что он допускает две различные интерпретации. Что можешь
можно назвать фразой относительный смысл связан с
к чему относится изображение; нереляционный смысл, напротив, имеет отношение, как сказал бы Гудман, к
изображение, или лучше с изобразительным содержанием изображения
(см., например, Budd 1993). Действительно, Гудман прав, утверждая, что
при любой картинке всегда возникает два вопроса: первый, что за
картина представляет собой, во всяком случае; два, что это за картина
(1976, 31). Скорее, гораздо более реальная проблема с
теория вытекает из того, что он не обратился к некоторым из наиболее фундаментальных
вопросы по изображению. Гудман излагает свое мнение о
относительное изображение в некоторых деталях: изображения — это символы в символе
системы, которые посвящены денотату (хотя их члены могут
имеют индивидуальное, множественное или нулевое обозначение) и которые имеют определенные
(в первую очередь) синтаксические характеристики.
Робинсон 2000). Тем не менее опасения по поводу
Гудман трактует понятие изображения как двусмысленное.
неуместно для фразы «изображение» и родственных ей слов.
легко показать, что он допускает две различные интерпретации. Что можешь
можно назвать фразой относительный смысл связан с
к чему относится изображение; нереляционный смысл, напротив, имеет отношение, как сказал бы Гудман, к
изображение, или лучше с изобразительным содержанием изображения
(см., например, Budd 1993). Действительно, Гудман прав, утверждая, что
при любой картинке всегда возникает два вопроса: первый, что за
картина представляет собой, во всяком случае; два, что это за картина
(1976, 31). Скорее, гораздо более реальная проблема с
теория вытекает из того, что он не обратился к некоторым из наиболее фундаментальных
вопросы по изображению. Гудман излагает свое мнение о
относительное изображение в некоторых деталях: изображения — это символы в символе
системы, которые посвящены денотату (хотя их члены могут
имеют индивидуальное, множественное или нулевое обозначение) и которые имеют определенные
(в первую очередь) синтаксические характеристики. Тем не менее, Гудману нечего сказать
о том, почему определенные изображения обозначают то, что они делают. Не имея теории
изобразительная ссылка не является оплошностью со стороны философа
Однако. Дело в том, что Гудман заинтересован в расследовании
«маршруты» отсчета (1981а) — как символы могут обозначать
или иллюстрировать или ссылаться более сложными и косвенными способами. Он не
интересуется истоками, или «корнями»,
ссылка — следовательно, в отношении изображений, в том, как определенные знаки
а не другие стали обычно коррелировать с определенными видами
предметы в мире. Это так же верно и в отношении того, что картинки являются ярлыками.
ибо в зависимости от того, какие ярлыки применяются к изображениям, то есть от того, как они
классифицировано. Следовательно, получается, что Гудману тоже нечего сказать по поводу
нереляционный смысл изображения, т. е. с тем, что делает картину
вид изображения (например, изображение человека, изображение единорога или
такая-то картина). Почему изображения относятся к определенным
способами — как изображения единорога, изображения человека и так далее.
Тем не менее, Гудману нечего сказать
о том, почему определенные изображения обозначают то, что они делают. Не имея теории
изобразительная ссылка не является оплошностью со стороны философа
Однако. Дело в том, что Гудман заинтересован в расследовании
«маршруты» отсчета (1981а) — как символы могут обозначать
или иллюстрировать или ссылаться более сложными и косвенными способами. Он не
интересуется истоками, или «корнями»,
ссылка — следовательно, в отношении изображений, в том, как определенные знаки
а не другие стали обычно коррелировать с определенными видами
предметы в мире. Это так же верно и в отношении того, что картинки являются ярлыками.
ибо в зависимости от того, какие ярлыки применяются к изображениям, то есть от того, как они
классифицировано. Следовательно, получается, что Гудману тоже нечего сказать по поводу
нереляционный смысл изображения, т. е. с тем, что делает картину
вид изображения (например, изображение человека, изображение единорога или
такая-то картина). Почему изображения относятся к определенным
способами — как изображения единорога, изображения человека и так далее. на — в конечном счете, это вопрос закрепления определенных предикатов
из многих доступных предикатов. Учитывая реальную историю
использование наших символов, некоторые графические этикетки (например, изображения)
проецируются, а не другие, и некоторые словесные ярлыки проецируются
над этими графическими этикетками. Соответственно, по большей части,
Теория изображения Гудмана лучше видна из-за того, что она должна
расскажи нам по-своему — вообще о том, что отличает
графические символы из символов других видов.
на — в конечном счете, это вопрос закрепления определенных предикатов
из многих доступных предикатов. Учитывая реальную историю
использование наших символов, некоторые графические этикетки (например, изображения)
проецируются, а не другие, и некоторые словесные ярлыки проецируются
над этими графическими этикетками. Соответственно, по большей части,
Теория изображения Гудмана лучше видна из-за того, что она должна
расскажи нам по-своему — вообще о том, что отличает
графические символы из символов других видов.
Изображения отличаются от символов других видов в силу
Отличительные характеристики систем изобразительных символов. В
в частности, системы графических символов синтаксически и семантически плотный . То есть при любых двух отметках нет
независимо от того, насколько мала разница между ними, они могут быть
создание экземпляра двух разных символов и любых двух символов,
независимо от того, насколько мала разница между ними, они могут иметь
разные референты (Гудман 1976, 226–227; Гудман, Элгин, 1988 г. ,
Глава. 7). Следовательно, изображения группируются вместе с такими вещами, как
диаграммы, неградуированные инструменты измерения и карты — с
те символы, то есть для которых, проще говоря, любое различие
может иметь значение: любое различие в отметке может соответствовать
другой характер, и любое различие в характере может обозначать
разное отношение к сфере отсчета. Даже простой
картина, по Гудману, плотная в том смысле, что любая, даже самая маленькая,
знак на холсте может оказаться имеющим отношение к изобразительному смыслу.
Какими бы ни были достоинства или проблемы технического
анализа, понятие плотности, безусловно, является одним из способов объяснения
что другие мыслители, прежде всего Кендалл Уолтон
(1990) — называют «открытостью» в
исследование картинок.
,
Глава. 7). Следовательно, изображения группируются вместе с такими вещами, как
диаграммы, неградуированные инструменты измерения и карты — с
те символы, то есть для которых, проще говоря, любое различие
может иметь значение: любое различие в отметке может соответствовать
другой характер, и любое различие в характере может обозначать
разное отношение к сфере отсчета. Даже простой
картина, по Гудману, плотная в том смысле, что любая, даже самая маленькая,
знак на холсте может оказаться имеющим отношение к изобразительному смыслу.
Какими бы ни были достоинства или проблемы технического
анализа, понятие плотности, безусловно, является одним из способов объяснения
что другие мыслители, прежде всего Кендалл Уолтон
(1990) — называют «открытостью» в
исследование картинок.
Конечно, поскольку изображения уподобляются таким вещам, как диаграммы, они
также необходимо отличать от них. Утверждение Гудмана состоит в том, что
разница между рисунками и диаграммами синтаксическая, т. е. имеет
делать с композицией символов или символов. Живописный
системы символов по сравнению с диаграммными системами, как правило, относительно полно . То есть к интерпретации А.
картина, как правило, большее количество функций имеет отношение, чем к
интерпретация неизобразительной плотной системы. Рисунок Хокусая.
могут быть сделаны из тех же отметок, что и электрокардиограмма. Тем не менее, находясь в
линейная диаграмма как электрокардиограмма только относительные расстояния от
исходная точка линии имеет значение, на чертеже выше
ряд характеристик — цвет, толщина, интенсивность, контрастность,
и т. д. — актуальны (Гудман 1976, 229–230). Диаграммы
обычно являются относительно «аттенюированными». Соответственно,
разница между диаграммами и картинками заключается только в степень : как правило, с изображением меньшего количества
характеристики могут быть отброшены как случайные или нерелевантные.
Живописный
системы символов по сравнению с диаграммными системами, как правило, относительно полно . То есть к интерпретации А.
картина, как правило, большее количество функций имеет отношение, чем к
интерпретация неизобразительной плотной системы. Рисунок Хокусая.
могут быть сделаны из тех же отметок, что и электрокардиограмма. Тем не менее, находясь в
линейная диаграмма как электрокардиограмма только относительные расстояния от
исходная точка линии имеет значение, на чертеже выше
ряд характеристик — цвет, толщина, интенсивность, контрастность,
и т. д. — актуальны (Гудман 1976, 229–230). Диаграммы
обычно являются относительно «аттенюированными». Соответственно,
разница между диаграммами и картинками заключается только в степень : как правило, с изображением меньшего количества
характеристики могут быть отброшены как случайные или нерелевантные.
В Languages of Art можно найти гораздо больше.
относительно изображения и косвенно относительно понятия быть
такая-то картина или такая-то картина. Важная часть
Взгляд Гудмана на изображение — это его критика идеи о том, что
внешнее сходство является отличительной чертой этого вида
символизация. В то время как Гудман может казаться, и обычно
обсуждались как, критикуя теорию сходства живописных
представление — «самый наивный взгляд на
представительство» (1976, 3) — его настоящая цель действительно намного
шире этого. Ведь о сходстве зрения он тоже претендует
что «остатки» его, «с различными уточнениями,
упорно пишут о репрезентации» (1976, 3). какая
в основном касается Гудмана в Языки искусства установить
символическая и, следовательно, в конечном счете конвенциональная природа
изобразительное представление — это провести сходство между
изобразительные и неизобразительные формы символизации. В отношении к
сходство, Languages of Art перекликается с утверждением в Fact,
Вымысел и Прогноз относительно закономерностей: сходство
можно найти где угодно, ибо что-либо похоже на что-либо еще в некотором
уважение или др.
Важная часть
Взгляд Гудмана на изображение — это его критика идеи о том, что
внешнее сходство является отличительной чертой этого вида
символизация. В то время как Гудман может казаться, и обычно
обсуждались как, критикуя теорию сходства живописных
представление — «самый наивный взгляд на
представительство» (1976, 3) — его настоящая цель действительно намного
шире этого. Ведь о сходстве зрения он тоже претендует
что «остатки» его, «с различными уточнениями,
упорно пишут о репрезентации» (1976, 3). какая
в основном касается Гудмана в Языки искусства установить
символическая и, следовательно, в конечном счете конвенциональная природа
изобразительное представление — это провести сходство между
изобразительные и неизобразительные формы символизации. В отношении к
сходство, Languages of Art перекликается с утверждением в Fact,
Вымысел и Прогноз относительно закономерностей: сходство
можно найти где угодно, ибо что-либо похоже на что-либо еще в некотором
уважение или др. Следовательно, Гудмен не отрицает существования
сходства между картиной и ее предметом, скорее он утверждает, что
какое сходство будет замечено, зависит от того, какая система
используемой корреляции делает релевантным. Гудману, живописный
репрезентация всегда соотносится с концептуальной структурой (которую
к системе классификации), в рамках которой изображение должно быть
интерпретируется таким же образом, как видение соотносится с
концептуальные рамки, с которыми человек приближается к визуальному миру. На
восприятие, Languages of Art перекликается с тем, что уже было у Гудмана
утверждал в своем обзоре 1960 года Эрнст Гомбрих искусства и
Иллюзия : «То, что мы знаем, что видим, не более верно, чем то, что мы видим».
что мы знаем. Восприятие сильно зависит от концептуальных схем».
(Гудман 1972, 142). Думая, что видение может когда-либо иметь место
независимо от всякой концептуализации — это опираться на «миф
невинного глаза»: «нет невинного глаза
[…]. Не только то, как, но и то, что [глаз] видит, регулируется потребностью.
Следовательно, Гудмен не отрицает существования
сходства между картиной и ее предметом, скорее он утверждает, что
какое сходство будет замечено, зависит от того, какая система
используемой корреляции делает релевантным. Гудману, живописный
репрезентация всегда соотносится с концептуальной структурой (которую
к системе классификации), в рамках которой изображение должно быть
интерпретируется таким же образом, как видение соотносится с
концептуальные рамки, с которыми человек приближается к визуальному миру. На
восприятие, Languages of Art перекликается с тем, что уже было у Гудмана
утверждал в своем обзоре 1960 года Эрнст Гомбрих искусства и
Иллюзия : «То, что мы знаем, что видим, не более верно, чем то, что мы видим».
что мы знаем. Восприятие сильно зависит от концептуальных схем».
(Гудман 1972, 142). Думая, что видение может когда-либо иметь место
независимо от всякой концептуализации — это опираться на «миф
невинного глаза»: «нет невинного глаза
[…]. Не только то, как, но и то, что [глаз] видит, регулируется потребностью. и предрассудки. [Глаз] выбирает, отвергает, организует, связывает,
классифицирует, анализирует, конструирует» (Гудман 1976, 7–8).
и предрассудки. [Глаз] выбирает, отвергает, организует, связывает,
классифицирует, анализирует, конструирует» (Гудман 1976, 7–8).
Соответственно реализм в живописных изображениях снижен
к делу привычка или знакомство , в отличие от не
только на счет сходства с реализмом, но и на счет с точки зрения
количество или точность передаваемой информации. Реалистичные картинки
могут включать в себя неточности — действительно, те, которые используются в играх типа
«Найди n ошибок на картинке» включает
неточности по определению (Goodman 1984, 127). И количество
информация не изменяется, например, при переключении с
реалистичный способ представления традиционной перспективы
нереалистичный режим, скажем, обратной перспективы (Гудман 1976, 35).
Конвенционализм Гудмана всеобъемлющ и бескомпромиссен: даже
правила перспективы в изображении пространства, утверждает он,
устанавливаются условно и обеспечивают лишь
относительной, т. е. относительно культурно устоявшейся концептуальной
схемы — эталон достоверности (1976, 10–19). Реалистичный
картины, рисунки и т. д. — это те, которые нарисованы или нарисованы в
фамильярным стилем, т. е. по фамильярной системе соотношений.
Образно говоря, для Гудмана всегда нужен ключ, чтобы прочитать
картина — иногда ключ наготове, часть
свой культурный фон, в других случаях его нужно найти и
узнать, как его использовать.
Реалистичный
картины, рисунки и т. д. — это те, которые нарисованы или нарисованы в
фамильярным стилем, т. е. по фамильярной системе соотношений.
Образно говоря, для Гудмана всегда нужен ключ, чтобы прочитать
картина — иногда ключ наготове, часть
свой культурный фон, в других случаях его нужно найти и
узнать, как его использовать.
В рассказе Гудмана об изображении есть претензии, которые
осталось необъяснимым, особенно в отношении снимков с
неопределенная или вымышленная ссылка, то есть с картинками, которые
Гудман классифицировал по таким предикатам, как «человек-картина»,
«изображения единорога» и т. д. Из них Гудман утверждает, что они
имеют «предполагаемое» обозначение (1976, 67), но не говоря
что-нибудь о том, как это должно способствовать изобразительному значению.
Кроме того, по мере того, как анализ продвигается и продолжает сталкиваться с
необходимость учета изображений с неопределенными или вымышленными
ссылка, а также с понятием представление-как (как на картинке, изображающей Уинстона Черчилля в образе бульдога),
несколько загадочное утверждение попадает в рассказ Гудмана:
что изображение в таких случаях действительно вопрос
instanceification — пример ярлыков, таких как
«изображение единорога», «изображение человека» или
«бульдог-картина» (1976, 66). Мотивация такого
претензия может состоять в том, чтобы найти, в конце концов, способ отсчета, способный
объяснить, каким образом такие изображения имеют значение, т.
обращаясь к вышеупомянутому нереляционному смыслу изображения. Пока что,
Гудман не приводит никаких аргументов в поддержку утверждения о том, что изображение
представляющий, скажем, единорога не просто обозначается метками
например, «изображение единорога», но также относится к эти ярлыки. Отсутствие фактической или определенной ссылки не может быть
достаточно, чтобы установить, что элемент, обозначенный ярлыком, относится к
этот ярлык. Кроме того, именно потому, что образцы ссылаются на этикетки
обозначая их выборочно, потребуется аргумент в пользу
что изображения единорогов иллюстрируют такие ярлыки, как
«единорога», а не ярлыки, скажем,
«картина» или даже «нарисованная кем-то» или
«нарисованный холст», которые, в конце концов, являются ярлыками, прикрепляемыми к
такие картинки.
Мотивация такого
претензия может состоять в том, чтобы найти, в конце концов, способ отсчета, способный
объяснить, каким образом такие изображения имеют значение, т.
обращаясь к вышеупомянутому нереляционному смыслу изображения. Пока что,
Гудман не приводит никаких аргументов в поддержку утверждения о том, что изображение
представляющий, скажем, единорога не просто обозначается метками
например, «изображение единорога», но также относится к эти ярлыки. Отсутствие фактической или определенной ссылки не может быть
достаточно, чтобы установить, что элемент, обозначенный ярлыком, относится к
этот ярлык. Кроме того, именно потому, что образцы ссылаются на этикетки
обозначая их выборочно, потребуется аргумент в пользу
что изображения единорогов иллюстрируют такие ярлыки, как
«единорога», а не ярлыки, скажем,
«картина» или даже «нарисованная кем-то» или
«нарисованный холст», которые, в конце концов, являются ярлыками, прикрепляемыми к
такие картинки.
В самом деле, в свете отмеченной выше двусмысленности в понятии
изображения, отсюда и фундаментальное различие между реляционным
и нереляционный смысл «картины», мы должны
подчеркните , сколько осталось вне попытки Гудмана
счет концепции. Обратите внимание, как изображения могут или не могут представлять
нечто, т. е. относительно; тем не менее, насколько они изображали
содержание, все они нереляционно , O-картинки или
P-изображения и т. д., то есть изображения с содержанием O, P и т. д.
Такой нереляционный смысл изображения действительно принадлежит теории
изображение должно исследовать (ср. Бадд 1993) и Гудмана.
общие требования к синтаксическим и семантическим характеристикам
изобразительный (по сравнению со словесным, музыкальным, диаграммным и т. д.) символ
системы, похоже, не в состоянии охватить фундаментальный вопрос о
такое понятие, следовательно, в некотором смысле основной вопрос для любого
теория изобразительного представления (ср. Giovannelli 1997). К
иллюстрируют, отчет Гудмана предлагает предположения о том, что делает
символ изображение собаки, а не словесное описание собаки;
на самом общем уровне отчет также может кое-что сказать о том, что
делает символ изображением собаки, а не ее описанием.
Обратите внимание, как изображения могут или не могут представлять
нечто, т. е. относительно; тем не менее, насколько они изображали
содержание, все они нереляционно , O-картинки или
P-изображения и т. д., то есть изображения с содержанием O, P и т. д.
Такой нереляционный смысл изображения действительно принадлежит теории
изображение должно исследовать (ср. Бадд 1993) и Гудмана.
общие требования к синтаксическим и семантическим характеристикам
изобразительный (по сравнению со словесным, музыкальным, диаграммным и т. д.) символ
системы, похоже, не в состоянии охватить фундаментальный вопрос о
такое понятие, следовательно, в некотором смысле основной вопрос для любого
теория изобразительного представления (ср. Giovannelli 1997). К
иллюстрируют, отчет Гудмана предлагает предположения о том, что делает
символ изображение собаки, а не словесное описание собаки;
на самом общем уровне отчет также может кое-что сказать о том, что
делает символ изображением собаки, а не ее описанием. Тем не менее,
Фундаментальный вопрос теории изображения состоит в том, что это означает, что
картина есть изображение собаки, т. е. изображение с изображением собаки.
содержание, картинка, на которой компетентные зрители видят собаку, а не,
скажем, кошачья картина, т. е. картина, на которой компетентный зритель видит
кошка. Хорошо это или плохо, перцептивные теории изображения предлагают
ответ на тот вопрос; тем не менее, нет реального конкурирующего ответа на
можно найти в Гудмане. Как уже упоминалось, почему некоторые типы меток стали
соотносится с определенным видом изобразительного содержания (отсюда предположительно
побуждая к визуальному восприятию такого контента при взгляде на
картинка) — это вопрос окопов; а это, в свою очередь, вопрос
для антрополога и историка, а не философа,
по Гудману.
Тем не менее,
Фундаментальный вопрос теории изображения состоит в том, что это означает, что
картина есть изображение собаки, т. е. изображение с изображением собаки.
содержание, картинка, на которой компетентные зрители видят собаку, а не,
скажем, кошачья картина, т. е. картина, на которой компетентный зритель видит
кошка. Хорошо это или плохо, перцептивные теории изображения предлагают
ответ на тот вопрос; тем не менее, нет реального конкурирующего ответа на
можно найти в Гудмане. Как уже упоминалось, почему некоторые типы меток стали
соотносится с определенным видом изобразительного содержания (отсюда предположительно
побуждая к визуальному восприятию такого контента при взгляде на
картинка) — это вопрос окопов; а это, в свою очередь, вопрос
для антрополога и историка, а не философа,
по Гудману.
4.2 Выражение и пример в искусстве
Понятие экземплификации позволяет Гудману предложить свою теорию выражение . В более общем плане это позволяет ему указать
важным источником значения в дополнение к денотату. Большинство работ
музыка, танец и архитектура, а также абстрактные картины не
представлять вообще что-либо. Тем не менее, Гудман может показать, как рядом с
репрезентативную силу произведений искусства мы должны признать как
центральную и всепроникающую форму символизации в искусстве, способность
произведений искусства, чтобы привлечь внимание к некоторым их особенностям, т.
иллюстрировать их.
Большинство работ
музыка, танец и архитектура, а также абстрактные картины не
представлять вообще что-либо. Тем не менее, Гудман может показать, как рядом с
репрезентативную силу произведений искусства мы должны признать как
центральную и всепроникающую форму символизации в искусстве, способность
произведений искусства, чтобы привлечь внимание к некоторым их особенностям, т.
иллюстрировать их.
Что касается особенностей, которые, как представляется, иллюстрирует произведение искусства, несмотря на его
не обладая ими в буквальном смысле (как, например, когда картина
утверждал, что выражает печаль, несмотря на то, что картины не могут
буквально грустить) Гудман утверждает, что такие функции метафорически иллюстрирует или выражает . Вкратце,
произведение искусства выражает что-то, когда оно метафорически иллюстрирует
Это. Соответственно, выражение не ограничивается чувствами и эмоциями.
но включает в себя любую особенность, которая может быть метафорически приписана
произведение искусства: в архитектуре, например, здание может выражать
движения, динамичности или «джазового» характера, хотя в буквальном смысле
у него не может быть ни одного из этих свойств (Goodman, Elgin 1988,
40).
К выражению и экземплификации также относится общее правило, по которому отношения между символом и тем, что он символизирует, никогда не «абсолютный, универсальный или неизменный» (1976, 50). Следовательно, как и репрезентация, экземплификация и выражение относительные, в частности, они относятся к устоявшемуся употреблению (Гудман 1976, 48).
Предложения Гудмана о роли экземплификации в искусстве
во многом познавательно. Применительно к искусству это понятие, по-видимому, дает
семантических теорий, таких как теория Гудмана, способных обосновать
внимание, которое мы уделяем не только тому, что символизирует произведение искусства, но и
самого произведения искусства: мы делаем это, потому что мы посвящены в него и
заинтересованы в тех чертах произведения, которые проявляются,
т. е. на примере (ср. van der Berg 2012, 603). Понятие позволяет
расширить количество признаков, которые считаются значимыми в произведении,
при этом все еще объясняя такое значение в референтных терминах. Стихотворение,
например, это не просто репрезентативный символ; как правило, что
поэтическое произведение так же важно для его смысла и художественного
ценность как то, что произведение представляет. Соответственно, цель
переводчику необходимо «максимальное сохранение того, что в оригинале
иллюстрирует так же, как и то, что в нем говорится» (1976, 60). Что касается
выражения, расширяя объем свойств, которые могут быть
метафорически иллюстрируется, помимо строго эмоциональных, добавляет
объяснительную силу теории, позволяющую сказать, например, что
скульптура выражает текучесть (ср. Robinson 2000, 216).
Стихотворение,
например, это не просто репрезентативный символ; как правило, что
поэтическое произведение так же важно для его смысла и художественного
ценность как то, что произведение представляет. Соответственно, цель
переводчику необходимо «максимальное сохранение того, что в оригинале
иллюстрирует так же, как и то, что в нем говорится» (1976, 60). Что касается
выражения, расширяя объем свойств, которые могут быть
метафорически иллюстрируется, помимо строго эмоциональных, добавляет
объяснительную силу теории, позволяющую сказать, например, что
скульптура выражает текучесть (ср. Robinson 2000, 216).
Как и в случае с анализом изображения Гудманом, в отношении
к иллюстрированию и выражению в искусстве тоже возникает вопрос,
Утверждения Гудмана призваны дать исчерпывающий отчет о
таких понятий, а не только очень общий, структурный, анализ
из них. Как бы то ни было, предложение Гудмана гораздо шире.
приемлемым на этом общем уровне. Более конкретные утверждения, такие как
выражение и пример относятся к общепринятому
установленные системы символов в действии, как и аналогичное утверждение относительно
представительство, оперативные вопросы о необходимости для Гудмана
признавать натуралистические ограничения на то, что может быть проиллюстрировано, или
выражено или представлено чем. Что еще более важно, когда мы исследуем
конкретных случаях становится неясным, проводится ли различие между
примерность в целом и выражение в частности хорошо
нарисовано. Поскольку, по Гудмену, не только чувства и эмоции могут быть
выражены, но и такие свойства, как цвет или высота звука, один
задается вопросом, какое понятие «выражение красного» сказано о некрасном
символ, означает: насколько он отличается от понятия, на которое ссылается
«выражающий грусть» о чем-либо (музыкальная соната)
что буквально не грустно? Кроме того, в качестве более общей озабоченности по
Проект Гудмана по учету природы, интерпретация,
и ценности произведений искусства полностью экстенсионалистски (т.
только того, к чему они относятся), возникает вопрос, не играет ли роль собственность обладание не подрывается настойчивостью Гудмана
что иллюстрирует произведение. Безусловно, произведения искусства имеют значительное
черты, которыми они просто обладают, не экземплифицируя их. А
произведение искусства может быть признано, например, спокойным только в том смысле, что
обладание такой чертой (если нужно, метафорически), и такое
признак должен быть признан относящимся к характеру произведения и
ценность — как то, что смотрящий должен
воспринимать — не в том случае, если произведение олицетворяет или выражает спокойствие.
Что еще более важно, когда мы исследуем
конкретных случаях становится неясным, проводится ли различие между
примерность в целом и выражение в частности хорошо
нарисовано. Поскольку, по Гудмену, не только чувства и эмоции могут быть
выражены, но и такие свойства, как цвет или высота звука, один
задается вопросом, какое понятие «выражение красного» сказано о некрасном
символ, означает: насколько он отличается от понятия, на которое ссылается
«выражающий грусть» о чем-либо (музыкальная соната)
что буквально не грустно? Кроме того, в качестве более общей озабоченности по
Проект Гудмана по учету природы, интерпретация,
и ценности произведений искусства полностью экстенсионалистски (т.
только того, к чему они относятся), возникает вопрос, не играет ли роль собственность обладание не подрывается настойчивостью Гудмана
что иллюстрирует произведение. Безусловно, произведения искусства имеют значительное
черты, которыми они просто обладают, не экземплифицируя их. А
произведение искусства может быть признано, например, спокойным только в том смысле, что
обладание такой чертой (если нужно, метафорически), и такое
признак должен быть признан относящимся к характеру произведения и
ценность — как то, что смотрящий должен
воспринимать — не в том случае, если произведение олицетворяет или выражает спокойствие.
Как бы то ни было, безусловно, стоит задуматься над тем, является ли выражение,
следовательно, экземплификация, требуя обладания, требует обладания
что предшествует приобретению экземплифицирующей функции предмета. Это
может случиться так, что наделение произведения экземплификации
функция могла бы сразу же наделить произведение тем свойством, которое оно
примерами, предложение, которое кажется особенно подходящим для произведений искусства
(ср. ван дер Берг 2012). Может ли что-то подобное быть
объяснил, как того хотел бы Гудман, не упоминая ни о
намерения художников или, в более общем смысле, контекст художественного
производства еще предстоит увидеть. Конечно, и забота здесь,
речь идет не только о выражении, но и о метафорической отсылке и
пример в более общем плане — возникает подозрение, что
Подход Гудмана, основанный исключительно на понятии символа.
систему для объяснения ссылки (т. е. для объяснения того, к чему относится символ)
и как он относится к нему), в конечном итоге недостаточно анализирует ключевые понятия
в игре: экземплификация, метафорическая ссылка и, следовательно,
выражение. Собственное понимание Гудманом систем символов
что они возникают, когда кодифицируются определенные правила. Тем не менее, конечно,
художники могут, по-видимому, преуспеть в обеспечении референций и наделении
их произведения с художественно значимыми чертами внутри и благодаря,
определенный контекст производства. Обращение к правилам системы может
недостаточно, чтобы объяснить, как ссылка действительно защищена. То есть,
и возвращаясь к вопросу, упомянутому выше, правила системы могут
никогда не быть достаточно подробным, чтобы предложить полное объяснение того, как работа
искусство экземплифицирует одни свои черты, но не другие, или
успешно сделан, чтобы обладать, метафорически, чертами
выражает.
Собственное понимание Гудманом систем символов
что они возникают, когда кодифицируются определенные правила. Тем не менее, конечно,
художники могут, по-видимому, преуспеть в обеспечении референций и наделении
их произведения с художественно значимыми чертами внутри и благодаря,
определенный контекст производства. Обращение к правилам системы может
недостаточно, чтобы объяснить, как ссылка действительно защищена. То есть,
и возвращаясь к вопросу, упомянутому выше, правила системы могут
никогда не быть достаточно подробным, чтобы предложить полное объяснение того, как работа
искусство экземплифицирует одни свои черты, но не другие, или
успешно сделан, чтобы обладать, метафорически, чертами
выражает.
4.3 Условия идентификации произведений искусства
Теория символьных систем Гудмана, составленная из схем
символы, которые управляются, в зависимости от типа системы,
различные синтаксические правила и коррелируют с их расширениями
в соответствии с различными семантическими правилами, лежит в основе его утверждений
на условиях тождества произведений искусства разного рода. Данный
синтаксические и семантические характеристики нотационных систем,
различные формы искусства могут быть расположены в спектре, составленном из видов
системы, которые стоят между чистой нотацией — там, где есть
идеальное сохранение идентичности между репликами (или исполнениями)
работа — и полностью плотные изобразительные системы — где каждый
работа является оригиналом.
Данный
синтаксические и семантические характеристики нотационных систем,
различные формы искусства могут быть расположены в спектре, составленном из видов
системы, которые стоят между чистой нотацией — там, где есть
идеальное сохранение идентичности между репликами (или исполнениями)
работа — и полностью плотные изобразительные системы — где каждый
работа является оригиналом.
Гудман связывает проблему идентичности произведений с тем, история производства произведения является неотъемлемой частью произведения или
нет. Короче говоря, оказывается, что в живописи и связанных с ней видах искусства такие
как рисунок, акварель и тому подобное (где есть только один экземпляр
произведения), но и в офорте, гравюре на дереве и т. п. (где есть
может быть несколько экземпляров одной и той же работы), аспекты
история производства произведения действительно важна для
идентичность произведения. Только сам холст, написанный
Рафаэль в 1505 году считается Мадонна дель Грандука и только
те отпечатки, которые взяты с оригинальной пластины, которую Рембрандт использовал для
его Автопортрет в бархатной шапке с плюмажем (1638) количество
как оригиналы этого произведения — все остальное является копией, однако
внешне неотличимы от оригинала. Такие формы искусства, как
живопись и офорт по этой причине названы Гудманом
«автографическое» искусство: «произведение искусства является автографическим, если
и только если различие между оригиналом и подделкой
значительный; или лучше, тогда и только тогда, когда даже самое точное дублирование
тем самым не считается подлинным» (1976, 113). Ты
глядя на Мадонну Рафаэля или на Рембрандта Автопортрет только если вы смотрите на определенные предметы
должным образом исторически связаны с художником, который их создал. По
контраст, музыка, танец, театр, литература, архитектура кажутся
допускают, хотя и по-разному, экземпляры работы,
не зависят от истории производства произведения. Вы можете
послушать исполнение Бетховена Пятая симфония даже если он исполняется (как это обычно бывает) с современной
печать партитуры. Такие формы искусства, как музыка, танец и т. д., соответственно,
можно назвать «аллографическим».
Такие формы искусства, как
живопись и офорт по этой причине названы Гудманом
«автографическое» искусство: «произведение искусства является автографическим, если
и только если различие между оригиналом и подделкой
значительный; или лучше, тогда и только тогда, когда даже самое точное дублирование
тем самым не считается подлинным» (1976, 113). Ты
глядя на Мадонну Рафаэля или на Рембрандта Автопортрет только если вы смотрите на определенные предметы
должным образом исторически связаны с художником, который их создал. По
контраст, музыка, танец, театр, литература, архитектура кажутся
допускают, хотя и по-разному, экземпляры работы,
не зависят от истории производства произведения. Вы можете
послушать исполнение Бетховена Пятая симфония даже если он исполняется (как это обычно бывает) с современной
печать партитуры. Такие формы искусства, как музыка, танец и т. д., соответственно,
можно назвать «аллографическим».
Как видно из вышеприведенных примеров, различие между
автографическое и аллографическое искусство не то же самое, что между искусствами
единичные и множественные. Офорт, например,
по-прежнему автографический, хотя и несколько. Кстати, это может позволить
Гудмана для объяснения интересной гипотезы, выдвинутой Грегори
Карри (1989) о суперксероксах, способных воспроизводить картины.
Молекула за молекулой верным образом. Такая техника клонирования,
Гудман мог бы сказать, превратит искусство живописи из единичного
на несколько, и все же не меняя его с автографического на
аллографический.
Офорт, например,
по-прежнему автографический, хотя и несколько. Кстати, это может позволить
Гудмана для объяснения интересной гипотезы, выдвинутой Грегори
Карри (1989) о суперксероксах, способных воспроизводить картины.
Молекула за молекулой верным образом. Такая техника клонирования,
Гудман мог бы сказать, превратит искусство живописи из единичного
на несколько, и все же не меняя его с автографического на
аллографический.
Также не следует путать автографическое/аллографическое различие с что между одно- и двухэтапными формами искусства, различаемыми по требует ли выполнение работы какой-либо формы исполнение. Картина (автографическая) доступна один раз закончена, в то время как театральная пьеса (аллографическая) требует производительность. Однако и аллографические искусства могут быть одноэтапными, например, в в случае романа и собственноручного искусства быть двухэтапным — гравюра на дереве Например.
Более того, Гудман формулирует свою теорию трудовой идентичности следующим образом:
решение вопроса о том, допускает ли данный вид искусства систему обозначений,
т. е. для «счета», который бы «указывал
существенные свойства, которыми должно обладать исполнение, должны принадлежать
работа» (1976, 212). Соответственно, Гудмана тоже можно увидеть
как новый способ объяснить тот факт, что некоторые виды искусства
формы — например, живопись и скульптура — не позволяют представления , в то время как другие формы искусства, такие как музыка и
танцуй — делай. Выдвигался сначала как предварительный подход, и действительно,
представлено как открытое для пересмотра, предложение разработано
несколько систематически, с явным намерением показать свою
возможность стать общей и всеобъемлющей теорией. Музыка,
живопись, литература, театр, танцы и архитектура – все это
обращены к вопросу об их взаимоотношениях с
синтаксические и семантические требования к нотации. Гудмана
фреймворк оказывается довольно техническим, учитывая необходимость ссылаться на
объяснять синтаксические и семантические характеристики нотации
системы. Кроме того, такие термины, как «оценка»,
«сценарий» и «набросок», которые все приобретают
специализированные значения.
е. для «счета», который бы «указывал
существенные свойства, которыми должно обладать исполнение, должны принадлежать
работа» (1976, 212). Соответственно, Гудмана тоже можно увидеть
как новый способ объяснить тот факт, что некоторые виды искусства
формы — например, живопись и скульптура — не позволяют представления , в то время как другие формы искусства, такие как музыка и
танцуй — делай. Выдвигался сначала как предварительный подход, и действительно,
представлено как открытое для пересмотра, предложение разработано
несколько систематически, с явным намерением показать свою
возможность стать общей и всеобъемлющей теорией. Музыка,
живопись, литература, театр, танцы и архитектура – все это
обращены к вопросу об их взаимоотношениях с
синтаксические и семантические требования к нотации. Гудмана
фреймворк оказывается довольно техническим, учитывая необходимость ссылаться на
объяснять синтаксические и семантические характеристики нотации
системы. Кроме того, такие термины, как «оценка»,
«сценарий» и «набросок», которые все приобретают
специализированные значения. Точно так же вопросы не задают
гипотетически или просто как умственное упражнение — в этом смысле
можно было придумать тривиальные обозначения для любая форма искусства (Гудман,
Элгин 1988, гл. 7). Скорее, вопросы решаются с
ссылка на уже существующие системы обозначений, когда они существуют,
и, в более общем плане, с осознанием фактической истории
различные формы искусства.
Точно так же вопросы не задают
гипотетически или просто как умственное упражнение — в этом смысле
можно было придумать тривиальные обозначения для любая форма искусства (Гудман,
Элгин 1988, гл. 7). Скорее, вопросы решаются с
ссылка на уже существующие системы обозначений, когда они существуют,
и, в более общем плане, с осознанием фактической истории
различные формы искусства.
Естественно, музыка и живопись (а с последней, конечно,
скульптура) оказываются на противоположных сторонах спектра,
первый аллографический и допускающий обозначения, второй
автографический и не допускающий никаких обозначений, совместимых с
упражняться. Работа музыка для Гудмана — «класс
исполнений, соответствующих характеру» (1976, 210), где
персонаж – партитура музыкального произведения. Считай, что музыка
написанный в стандартной нотной записи, по большей части — или,
точнее, для «основного корпуса специфически музыкальных
символов» (Гудман 1976, 183), т. е. для флагов, расположенных на
пентаграмма — на языке обозначений. Все и только те
характеристики, которые полностью соответствуют или «соответствуют»
оценка считается исполнением произведения. Даже одна маленькая ошибка в
роль исполнителя, скажем, в замене одной ноты другой,
достаточно, чтобы заявить, что технически это была другая работа.
выполненный. С другой стороны, другие важные аспекты стандарта
ноты вместо в системе обозначений: обозначения
темпа, например, а также условность позволять
исполнитель выбирает каденцию, дает большую свободу исполнителю.
Следовательно, по мнению Гудмана, хотя два выступления, которые звучат
почти одинаковые исполнения одного и того же произведения могут не совпадать,
кардинально по-разному звучащие выступления могут быть. Заметьте, однако,
как вопрос об идентичности здесь резко отличается от
вопрос ценности: «самый жалкий спектакль без
фактические ошибки считаются [подлинным экземпляром произведения], в то время как
самое блестящее исполнение с единственной неправильной нотой делает
нет» (Гудман 1976, 186).
Все и только те
характеристики, которые полностью соответствуют или «соответствуют»
оценка считается исполнением произведения. Даже одна маленькая ошибка в
роль исполнителя, скажем, в замене одной ноты другой,
достаточно, чтобы заявить, что технически это была другая работа.
выполненный. С другой стороны, другие важные аспекты стандарта
ноты вместо в системе обозначений: обозначения
темпа, например, а также условность позволять
исполнитель выбирает каденцию, дает большую свободу исполнителю.
Следовательно, по мнению Гудмана, хотя два выступления, которые звучат
почти одинаковые исполнения одного и того же произведения могут не совпадать,
кардинально по-разному звучащие выступления могут быть. Заметьте, однако,
как вопрос об идентичности здесь резко отличается от
вопрос ценности: «самый жалкий спектакль без
фактические ошибки считаются [подлинным экземпляром произведения], в то время как
самое блестящее исполнение с единственной неправильной нотой делает
нет» (Гудман 1976, 186).
У кого-то может возникнуть соблазн отклонить предложения Гудмана по их
противоречит обычному языку и музыкальной практике. Тем не менее, это
самое главное помнить, что Гудман знает об обычной практике
и не ожидает, что она будет соответствовать философии философа.
технических требований (поскольку «вряд ли можно ожидать химической чистоты
вне лаборатории» [1976, 186]). Его тоже не интересует
реформируя обыденный язык: «Я больше не рекомендую в
в обычном дискурсе мы отказываемся говорить, что пианист, пропустивший ноту,
исполнил полонез Шопена, чем то, что мы отказываемся называть кита
рыба, земля шаровидная, или серовато-розовый человеческий белый»
(Гудман 1976, 187). Действительно, подход Гудмана к вопросу
нотации, в важном смысле, основаны на предшествующей практике,
для системы обозначений приемлем только при проектировании
из предыдущей классификации произведений . Кроме того, история
форма искусства может включать (как и музыка) автографическую сцену, которая
только в более позднее время уступил место для установления обозначения, на
основания прежней практики. И подход Гудмана не
недостает применения к реальным музыкальным случаям, поскольку его обсуждение
альтернативные нотные записи доказывают. Без, опять же, оценки
различных систем нотной записи, Гудман показывает, как
альтернативная система, такая как предложенная Джоном Кейджем, не
обозначение, и действительно в важных отношениях ближе к
«набросок», следовательно, к рисунку, а не к партитуре (Гудман
1976, 187–190).
И подход Гудмана не
недостает применения к реальным музыкальным случаям, поскольку его обсуждение
альтернативные нотные записи доказывают. Без, опять же, оценки
различных систем нотной записи, Гудман показывает, как
альтернативная система, такая как предложенная Джоном Кейджем, не
обозначение, и действительно в важных отношениях ближе к
«набросок», следовательно, к рисунку, а не к партитуре (Гудман
1976, 187–190).
То, что только что было сказано о музыке, также во многом применимо к
Взгляд Гудмана на искусство танца . В то время как танец делает
еще не имеют стандартного обозначения, Гудман находит предварительное обозначение
предложенный Рудольфом Лабаном (которого Лабан действительно предложил для движения в
вообще) быть хорошим кандидатом для системы обозначений, действительно
с меньшим количеством отклонений от нотации, чем стандартные музыкальные
обозначение. И вот одна из многих областей, где результаты
эстетическое исследование, каким бы предварительным оно ни было, может иметь отношение к другим
сферы человеческого познания и деятельности. Гудман указывает, как
успешная запись человеческого движения могла бы оказать большую помощь в
исследования, начиная от психологии и заканчивая промышленным проектированием, в которых
Крайне важно найти критерии для определения того, является ли, скажем,
испытуемый или экспериментатор повторял одно и то же поведение: и
«проблема формулирования таких критериев есть проблема
разработка системы обозначений» (1976, 218).
Гудман указывает, как
успешная запись человеческого движения могла бы оказать большую помощь в
исследования, начиная от психологии и заканчивая промышленным проектированием, в которых
Крайне важно найти критерии для определения того, является ли, скажем,
испытуемый или экспериментатор повторял одно и то же поведение: и
«проблема формулирования таких критериев есть проблема
разработка системы обозначений» (1976, 218).
Вывод, к которому Гудман приходит относительно архитектуры , таков.
также хороший показатель важности, придаваемой в его анализе
реальная история искусства. Гудман утверждает, что архитектура
имеет в планах архитектора что-то весьма близкое к
система обозначений и, следовательно, является аллографическим искусством:
разные здания, построенные в разных местах и даже с
определенные различия в материалах, были бы экземпляры одного и того же
работа при условии, что они соответствуют одному плану. Тем не менее, в курсе
истории художественной формы, а именно ее происхождения как
автографического искусства и определенной зависимости, даже сегодня, от
конкретная история производства конкретного здания, Гудман
приходит к выводу, что на самом деле «архитектура представляет собой смешанное и переходное
дело» (1976, 221).
Как уже было сказано, картина стоит на противоположной крайности от система обозначений, поскольку произведения в этом виде искусства «аналоги», символы в синтаксическом и семантическом отношении плотные системы. Важно подчеркнуть, что это не означает что классификация картин по системе обозначений не может быть найден или даже легко найден: библиотечный например, классификация картин. Что это значит, однако, заключается в том, что, учитывая историю среды и способов классификации произведений живописи, нотация библиотечного типа была бы несовместимы с устоявшейся художественной практикой. Сама картина (или, в случае травления, только отпечатки с оригинальной пластины) считает (или считает) как работает. И что верно для живописи относится и к эскизам, предшествующим картине. Сам эскиз это произведение искусства, причем автографическое, несмотря на то, что оно использоваться в качестве руководства для создания окончательной работы (Гудман 1976, 192–194).
Поскольку вопрос о том, можно ли разработать систему обозначений для
данной формы искусства, в конечном счете, вопрос о возможности
«язык» для этого вида искусства, т. е. по крайней мере
нотная схема, художественные формы, использующие естественный язык
интересные, а иногда и неожиданные результаты. С романом, стихотворением или
сценарий, используемый для пьесы или фильма, текст — это персонаж в
нотная схема. Однако то, что считается произведением в таких формах искусства,
другой. В театр или драма , произведение представляет собой набор
спектакли соответствуют тому, что установлено в сценарии. Как в
В случае с музыкой анализ Гудмана предполагает отход от
обыденное употребление языка: диалог в пьесе действительно работает как
«партитура», в то время как сценические ремарки и тому подобное являются
«сценарий» — первое полностью нотное,
синтаксически и семантически последний не определяет однозначно
производительность, и при этом она не определяется однозначно производительностью
(1976, 210–11). Это «оценочная» часть текста.
что позволяет в театре размещать произведение в наборе
представления. Напротив, с роман или стихотворение ,
где никакая «партитура» не является частью текста, а значит, и текст
является «сценарием», произведение, как утверждает Гудман, является текстом
сам (понимаемый как совокупность надписей, полностью соответствующих, в
орфографии и пунктуации друг с другом).
е. по крайней мере
нотная схема, художественные формы, использующие естественный язык
интересные, а иногда и неожиданные результаты. С романом, стихотворением или
сценарий, используемый для пьесы или фильма, текст — это персонаж в
нотная схема. Однако то, что считается произведением в таких формах искусства,
другой. В театр или драма , произведение представляет собой набор
спектакли соответствуют тому, что установлено в сценарии. Как в
В случае с музыкой анализ Гудмана предполагает отход от
обыденное употребление языка: диалог в пьесе действительно работает как
«партитура», в то время как сценические ремарки и тому подобное являются
«сценарий» — первое полностью нотное,
синтаксически и семантически последний не определяет однозначно
производительность, и при этом она не определяется однозначно производительностью
(1976, 210–11). Это «оценочная» часть текста.
что позволяет в театре размещать произведение в наборе
представления. Напротив, с роман или стихотворение ,
где никакая «партитура» не является частью текста, а значит, и текст
является «сценарием», произведение, как утверждает Гудман, является текстом
сам (понимаемый как совокупность надписей, полностью соответствующих, в
орфографии и пунктуации друг с другом). Даже в более поздних работах Reconceptions , Гудман вновь подчеркивает это утверждение (1988a,
49-65). Поддерживая плюрализм в отношении количества правильных
интерпретаций (т. е. «приложений») текст может
доходность — действительно считая ее часто положительной чертой
художественное использование языка — Гудман настаивает на том, что работа, в
литературное искусство, это текст. Следовательно, в Хорхе Луисе
Знаменитый ящик Борхеса Пьера Менара (вымышленный
Французский писатель, пытающийся написать роман, дословно идентичный Дон Кихота Сервантеса [Борхес 1962]), утверждает Гудман.
что то, что произвел Менар, было еще одной надписью Don
Текст Дон Кихота , следовательно, экземпляр того же произведения, хотя и
своими действиями Менар мог предположить возможную новую
интерпретации этого произведения. Кстати, контраст между
театр и литература в более узком смысле (т.
включая драму) может вызвать вопрос о поэзии. Qua текст с
смысл (или «приложения», поэтическое произведение – это текст
сам; тем не менее, как текст, который должен быть исполнен, например, прочитан вслух для
аудитория, стихотворение, казалось бы, считается персонажем в
система обозначений, «счет» с полем
укажите звуки, которые нужно произнести.
Даже в более поздних работах Reconceptions , Гудман вновь подчеркивает это утверждение (1988a,
49-65). Поддерживая плюрализм в отношении количества правильных
интерпретаций (т. е. «приложений») текст может
доходность — действительно считая ее часто положительной чертой
художественное использование языка — Гудман настаивает на том, что работа, в
литературное искусство, это текст. Следовательно, в Хорхе Луисе
Знаменитый ящик Борхеса Пьера Менара (вымышленный
Французский писатель, пытающийся написать роман, дословно идентичный Дон Кихота Сервантеса [Борхес 1962]), утверждает Гудман.
что то, что произвел Менар, было еще одной надписью Don
Текст Дон Кихота , следовательно, экземпляр того же произведения, хотя и
своими действиями Менар мог предположить возможную новую
интерпретации этого произведения. Кстати, контраст между
театр и литература в более узком смысле (т.
включая драму) может вызвать вопрос о поэзии. Qua текст с
смысл (или «приложения», поэтическое произведение – это текст
сам; тем не менее, как текст, который должен быть исполнен, например, прочитан вслух для
аудитория, стихотворение, казалось бы, считается персонажем в
система обозначений, «счет» с полем
укажите звуки, которые нужно произнести. С другой стороны, в кино , форма искусства Гудман не обращается, опять же, один
мог определить в сценарии «партитуру» в
части, обозначающие диалог, «сценарий» в сцене и
инструкции, при этом онтология самого фильма, однако,
это множественная художественная форма, состоящая из конкретных репродукций
визуальные и аудиозаписи, которые демонстрируются в кинотеатре или
на экране телевизора.
С другой стороны, в кино , форма искусства Гудман не обращается, опять же, один
мог определить в сценарии «партитуру» в
части, обозначающие диалог, «сценарий» в сцене и
инструкции, при этом онтология самого фильма, однако,
это множественная художественная форма, состоящая из конкретных репродукций
визуальные и аудиозаписи, которые демонстрируются в кинотеатре или
на экране телевизора.
Теория нотаций Гудмана и анализ различных способы, которыми различные формы искусства соотносятся с этим понятием, устанавливают почти система для искусств, которая, возможно, еще не получила достаточный кредит от теоретиков, работающих в области эстетики. Вместо этого для большая часть современной дискуссии сосредоточилась на отдельных художественные формы и проблемные примеры.
В рамках онтологии музыки претензия на то, что партитура полностью и
исключительно, отдельные работы привлекли наибольшее внимание.
Отделяя онтологические утверждения от оценочных, как показано выше, Гудман
не мог более четко изложить свою позицию по этому вопросу: «наиболее
жалкое выступление без фактических ошибок» считается
экземпляр произведения, «в то время как самое блестящее исполнение с
одна неправильная нота — нет» (1976, 186). Из двух утверждений, что
соответствие партитуре необходимо для того, чтобы выступление было
считающийся добросовестным экземпляр музыкального произведения поступил
с гораздо большим противоречием, чем тот, для которого полное соответствие
достаточно, чтобы объявить исполнение законным рабочим экземпляром.
прежнее утверждение может показаться естественно проблематичным. Прежде всего, это четко
противоречит реальной практике. Конечно, как уже упоминалось, Гудман
не направлен на реформирование обычного использования. Следовательно, его точка зрения является формой того, что
в искусстве онтологические дискуссии получили название
«ревизионизм» (против «дескриптивизма»; ср.
Dodd 2012) только в том смысле, что он отделяет онтологические утверждения от
актуальные художественные и искусствоведческие практики, что позволяет даже
радикального отхода от такой практики, но опять же без
выступая за их модификацию. Даже если все, что даровано многим,
включая мыслителей, симпатизирующих подходу Гудмана.
Из двух утверждений, что
соответствие партитуре необходимо для того, чтобы выступление было
считающийся добросовестным экземпляр музыкального произведения поступил
с гораздо большим противоречием, чем тот, для которого полное соответствие
достаточно, чтобы объявить исполнение законным рабочим экземпляром.
прежнее утверждение может показаться естественно проблематичным. Прежде всего, это четко
противоречит реальной практике. Конечно, как уже упоминалось, Гудман
не направлен на реформирование обычного использования. Следовательно, его точка зрения является формой того, что
в искусстве онтологические дискуссии получили название
«ревизионизм» (против «дескриптивизма»; ср.
Dodd 2012) только в том смысле, что он отделяет онтологические утверждения от
актуальные художественные и искусствоведческие практики, что позволяет даже
радикального отхода от такой практики, но опять же без
выступая за их модификацию. Даже если все, что даровано многим,
включая мыслителей, симпатизирующих подходу Гудмана. не оставляя места для маневра, чтобы можно было включить выступления
которые откладывают счет только за незначительные ошибки (когда не приветствуются
меняется) проблематично. Действительно, и далее, кажется, есть
концептуальная проблема в осмыслении утверждения о блестящем и в то же время
неправильные выступления. Ибо, конечно, если исполнение неправильное, следовательно,
не может быть экземпляром произведения, как тогда его можно назвать
«блестящее», т. е. блестящее выступление, в конечном счете, из таких работ (Ридли 2013)? Более общий и интересный
вопрос здесь может заключаться в том, есть ли у теории Гудмана ресурсы для
объяснить родством неправильное исполнение Бетховена Пятая симфония имеет к Пятая , какая другая музыкальная
штук (выступления Three Blind Mice использовать
пример Гудмена). Опять же, от имени Гудмана, разделяя,
здесь, может быть, единственный способ победить. Онтологическое утверждение о том, что
индивидуализирует произведение искусства — следовательно, о том, что считается добросовестным
экземпляр или исполнение произведения — само по себе не зависит от
претензии, сами по себе даже не философские, на то, что делает музыкальное
произведение, узнаваемо похожее (или практически идентичное) другому.
не оставляя места для маневра, чтобы можно было включить выступления
которые откладывают счет только за незначительные ошибки (когда не приветствуются
меняется) проблематично. Действительно, и далее, кажется, есть
концептуальная проблема в осмыслении утверждения о блестящем и в то же время
неправильные выступления. Ибо, конечно, если исполнение неправильное, следовательно,
не может быть экземпляром произведения, как тогда его можно назвать
«блестящее», т. е. блестящее выступление, в конечном счете, из таких работ (Ридли 2013)? Более общий и интересный
вопрос здесь может заключаться в том, есть ли у теории Гудмана ресурсы для
объяснить родством неправильное исполнение Бетховена Пятая симфония имеет к Пятая , какая другая музыкальная
штук (выступления Three Blind Mice использовать
пример Гудмена). Опять же, от имени Гудмана, разделяя,
здесь, может быть, единственный способ победить. Онтологическое утверждение о том, что
индивидуализирует произведение искусства — следовательно, о том, что считается добросовестным
экземпляр или исполнение произведения — само по себе не зависит от
претензии, сами по себе даже не философские, на то, что делает музыкальное
произведение, узнаваемо похожее (или практически идентичное) другому. Никто
онтологических утверждений Гудмана необходимо отрицать такие эмпирические факты.
Кроме того, узнаваемость здесь может интересно пересекаться с
символизация. В конце концов, Гудман живо интересуется символическим
отношения между произведениями искусства (включая, например, произведения, которые считаются
вариации на одну и ту же тему; см. 1976, 260–261, и Гудман,
Элгин 1988, гл. 4). Спектакль, нацеленный, скажем, на особо
интенсивное и динамичное исполнение произведения и, как следствие этого,
включает, возможно, неизбежные отклонения от предписанных нот,
можно считать (блестящим) исполнением из такого произведения
в силу ссылки на произведение, включая его иллюстрацию, как
индивидуализированы исходной партитурой, хотя онтологически
считается — как и должно быть, настаивал Гудман —
экземпляр отдельного произведения.
Никто
онтологических утверждений Гудмана необходимо отрицать такие эмпирические факты.
Кроме того, узнаваемость здесь может интересно пересекаться с
символизация. В конце концов, Гудман живо интересуется символическим
отношения между произведениями искусства (включая, например, произведения, которые считаются
вариации на одну и ту же тему; см. 1976, 260–261, и Гудман,
Элгин 1988, гл. 4). Спектакль, нацеленный, скажем, на особо
интенсивное и динамичное исполнение произведения и, как следствие этого,
включает, возможно, неизбежные отклонения от предписанных нот,
можно считать (блестящим) исполнением из такого произведения
в силу ссылки на произведение, включая его иллюстрацию, как
индивидуализированы исходной партитурой, хотя онтологически
считается — как и должно быть, настаивал Гудман —
экземпляр отдельного произведения.
Особенно при концентрации только на одном виде искусства и, следовательно,
возможно, упуская из виду более общий и систематический подход Гудмана.
проект, может остаться незамеченным тот факт, что разделение между
оценочные и онтологические притязания у Гудмана основаны на подходе
для которого все, что характеризует произведение искусства в различных формах искусства
не обязательно индивидуализирует все произведения искусства
свойства, которые нас интересуют с эстетической точки зрения. Какой Гудман
говорит, например, о литературе, относится ко всем видам искусства: «определяя
литературные произведения уже не требуют изложения всех их существенных
эстетические свойства, чем определение металлов, требует изложения всех
их важные химические свойства» (1976, 210). После всего,
в формах искусства, таких как музыка, написанная в соответствии с традиционными западными
обозначения, которые разработали обозначения, мы законно
заинтересованы в различных исполнениях произведения искусства — и в
лучшие из них — именно потому, что определяет их как
исполнения произведения — это не то же самое, что набор эстетических
свойства, которые может предложить работа. С другой стороны, можно было бы
подозрительно относится к степени инклюзивности эстетических свойств
(т. е. свойств, не определяющих работу, которые, тем не менее, могут быть
объект эстетического внимания) Гудман допускает. То есть можно было бы
Интересно, достаточность требование, для которого просто
соответствие «оценке» (в техническом смысле Гудмана
термина) — это все, что необходимо для выявления в формах искусства, которые
есть обозначения, добросовестные рабочие экземпляры.
Какой Гудман
говорит, например, о литературе, относится ко всем видам искусства: «определяя
литературные произведения уже не требуют изложения всех их существенных
эстетические свойства, чем определение металлов, требует изложения всех
их важные химические свойства» (1976, 210). После всего,
в формах искусства, таких как музыка, написанная в соответствии с традиционными западными
обозначения, которые разработали обозначения, мы законно
заинтересованы в различных исполнениях произведения искусства — и в
лучшие из них — именно потому, что определяет их как
исполнения произведения — это не то же самое, что набор эстетических
свойства, которые может предложить работа. С другой стороны, можно было бы
подозрительно относится к степени инклюзивности эстетических свойств
(т. е. свойств, не определяющих работу, которые, тем не менее, могут быть
объект эстетического внимания) Гудман допускает. То есть можно было бы
Интересно, достаточность требование, для которого просто
соответствие «оценке» (в техническом смысле Гудмана
термина) — это все, что необходимо для выявления в формах искусства, которые
есть обозначения, добросовестные рабочие экземпляры. С уважением к
аллографических искусств, Гудман против каких-либо уступок
актуальность исторических свойств для индивидуации
произведений искусства — все зависит от правил обозначения,
синтаксический или, если применимо, семантический уровень. Следовательно, произведение
музыка — это то, что «партитура» семантически индивидуализирует;
а литературное произведение есть сам текст,
«скрипт», определяемый синтаксическими требованиями
обозначения. Тем не менее, в любом случае будет место для модификации
понятие аллографического (исследованное для музыки Левинсоном 1980),
согласно которым «партитура» или «сценарий» являются
лучше всего понимать не только как структуры, но и как спроецированные внутри
заданные контексты. Такой ход позволил бы ограничить диапазон
эстетические свойства, которыми может обладать данное произведение искусства. Выступление
Бетховена Пятый выполнен так, чтобы продержаться год, в течение
такое понятие аллографического можно было бы считать перформансом
производной (и причудливой) работы, а не Пятой .
С уважением к
аллографических искусств, Гудман против каких-либо уступок
актуальность исторических свойств для индивидуации
произведений искусства — все зависит от правил обозначения,
синтаксический или, если применимо, семантический уровень. Следовательно, произведение
музыка — это то, что «партитура» семантически индивидуализирует;
а литературное произведение есть сам текст,
«скрипт», определяемый синтаксическими требованиями
обозначения. Тем не менее, в любом случае будет место для модификации
понятие аллографического (исследованное для музыки Левинсоном 1980),
согласно которым «партитура» или «сценарий» являются
лучше всего понимать не только как структуры, но и как спроецированные внутри
заданные контексты. Такой ход позволил бы ограничить диапазон
эстетические свойства, которыми может обладать данное произведение искусства. Выступление
Бетховена Пятый выполнен так, чтобы продержаться год, в течение
такое понятие аллографического можно было бы считать перформансом
производной (и причудливой) работы, а не Пятой . Точно так же интерпретации романа, противоречащие тому, что
совместим с данной исторически расположенной проекцией (скажем, потому, что
анахронизм или несовместимость с жанром произведения)
можно было бы тогда объявить неприемлемым или допустимым как
интерпретации идентичного текста, но спроецированного в
разный контекст и фактически составляющий другую работу.
Точно так же интерпретации романа, противоречащие тому, что
совместим с данной исторически расположенной проекцией (скажем, потому, что
анахронизм или несовместимость с жанром произведения)
можно было бы тогда объявить неприемлемым или допустимым как
интерпретации идентичного текста, но спроецированного в
разный контекст и фактически составляющий другую работу.
Стоит подчеркнуть, что Гудман, хотя и начинает
исследование с автографическим/аллографическим различием (действительно
введенный в качестве грубого приближения), направлен на развитие учета
нотация роли на синтаксическом или семантическом уровне играет в
одни искусства, но не другие. Результат не просто объяснение
автографичность некоторых искусств и аллографичность
другие. Это гораздо более четкое изложение разнообразия способов
какая нотация, если она присутствует, имеет право идентифицировать
произведений в различных искусствах, следовательно, по-разному определяя
локализация того, что считается произведением искусства. Подводя итог, где
«счет» присутствует, следовательно, синтаксический и семантический
нотативности, как правило, произведение соответствует классу
представления. Там, где присутствует «сценарий»,
обозначения только на синтаксическом уровне, как правило, работа представляет собой класс
надписи, соответствующие такому сценарию. Где обозначения нет
устанавливается либо на семантическом, либо на синтаксическом уровне,
«набросок», которым обычно является само произведение, как конкретное
индивид или ряд конкретных индивидуумов.
Подводя итог, где
«счет» присутствует, следовательно, синтаксический и семантический
нотативности, как правило, произведение соответствует классу
представления. Там, где присутствует «сценарий»,
обозначения только на синтаксическом уровне, как правило, работа представляет собой класс
надписи, соответствующие такому сценарию. Где обозначения нет
устанавливается либо на семантическом, либо на синтаксическом уровне,
«набросок», которым обычно является само произведение, как конкретное
индивид или ряд конкретных индивидуумов.
Сложность подхода требует осторожности при игнорировании
Рассуждение Гудмана на основании предполагаемых контрпримеров.
Совершенно ясно, как Гудман на протяжении всей своей работы считает себя
в основном предлагая «предложения» относительно теории, еще не
полный один. Далее, что он говорит об архитектуре и искусстве
форма является «смешанным и переходным» случаем, или
о драме и ее включении в текст пьесы,
«партитура» и «сценарий» предлагает посмотреть на
способов, которые Гудман, кажется, предвидит, объединения частей его
счет и достижение более детальных результатов, чем просто вердикт
от того, является ли форма искусства аллографической или автографической, нотной или
нет. Следовательно, в дополнение к тому, что было сказано выше о поэзии и
кино, стоит задаться вопросом, что мог бы сказать Гудман об определенных формах
инсталляции и концептуального искусства. Например, когда Сол Левитт дал
инструкции по созданию своего Настенные рисунки (работы, которые были,
затем, реализованный другими людьми), создавал ли он произведения, которые
представляют собой непреодолимый вызов различиям Гудмана
(ср. Подушка 2003)? Одной из возможностей было бы рассмотреть Левитта.
инструкции как «сценарий», который сам по себе может быть
считается произведением искусства (во многом как литературное произведение), но также и как
инструкции по производству отдельных произведений, составленные
чертежи реально реализованы. Такие рисунки, в свою очередь, могут быть
рассматривались вариации на «тему», обозначенную теми
инструкции, а каждая отдельная работа, конкретная
«набросок»; или, возможно, каждый из 9 левиттовских0003 Стена
Чертежи лучше всего рассматривать как работу с необычной мереологией,
соединение, составленное из «набросков» — один за другим или все
вместе — и эти инструкции.
Следовательно, в дополнение к тому, что было сказано выше о поэзии и
кино, стоит задаться вопросом, что мог бы сказать Гудман об определенных формах
инсталляции и концептуального искусства. Например, когда Сол Левитт дал
инструкции по созданию своего Настенные рисунки (работы, которые были,
затем, реализованный другими людьми), создавал ли он произведения, которые
представляют собой непреодолимый вызов различиям Гудмана
(ср. Подушка 2003)? Одной из возможностей было бы рассмотреть Левитта.
инструкции как «сценарий», который сам по себе может быть
считается произведением искусства (во многом как литературное произведение), но также и как
инструкции по производству отдельных произведений, составленные
чертежи реально реализованы. Такие рисунки, в свою очередь, могут быть
рассматривались вариации на «тему», обозначенную теми
инструкции, а каждая отдельная работа, конкретная
«набросок»; или, возможно, каждый из 9 левиттовских0003 Стена
Чертежи лучше всего рассматривать как работу с необычной мереологией,
соединение, составленное из «набросков» — один за другим или все
вместе — и эти инструкции. Каким бы ни был ответ на
вопросы, возникающие в отдельных случаях, рамки Гудмана, с
все его пределы и малоосвоенные районы, явно может предложить целый ряд
возможности и концептуальные пересечения. В некотором роде,
Готовность Гудмана заявить, что есть случаи, как в случае с
класс исполнения произведения Джона Кейджа, воплощенного в
нетрадиционная партитура, которая квалифицируется как «набросок», в
чья работа не может быть установлена (Гудман 1972б, 83-84),
заслуживают дальнейшего рассмотрения, поскольку различные разработки
в искусстве, возможно, придется освободить место для случаев, когда личность
работа неопределенная.
Каким бы ни был ответ на
вопросы, возникающие в отдельных случаях, рамки Гудмана, с
все его пределы и малоосвоенные районы, явно может предложить целый ряд
возможности и концептуальные пересечения. В некотором роде,
Готовность Гудмана заявить, что есть случаи, как в случае с
класс исполнения произведения Джона Кейджа, воплощенного в
нетрадиционная партитура, которая квалифицируется как «набросок», в
чья работа не может быть установлена (Гудман 1972б, 83-84),
заслуживают дальнейшего рассмотрения, поскольку различные разработки
в искусстве, возможно, придется освободить место для случаев, когда личность
работа неопределенная.
4.4 Подлинность
Вопрос, тесно связанный с онтологическим вопросом об идентичности
произведения искусства в различных художественных формах — действительно
проблема, которую Гудман использует в Languages of Art , чтобы представить
его теория обозначений — это теория важности аутентичности в искусстве и эстетической уместности бытия
подделка. (Комментарии Гудмана к вопросу о подлоге побудили
небольшая дискуссия по этому вопросу, в основном представленная в сборнике
под редакцией Дениса Даттона [1983].) Краткий ответ заключается в том, что подлинность
имеет значение только там, где нет нотации. Отсюда, например,
не имеет значения, исполняется ли музыкальное произведение с
оригинальная партитура или копия, совпадающая с ней, поскольку партитура
в нотной схеме. Тем не менее имеет значение, представлен ли один
с подлинником Рембрандта или с его копией, так как картины
аналоги, символы в синтаксически плотных системах.
(Комментарии Гудмана к вопросу о подлоге побудили
небольшая дискуссия по этому вопросу, в основном представленная в сборнике
под редакцией Дениса Даттона [1983].) Краткий ответ заключается в том, что подлинность
имеет значение только там, где нет нотации. Отсюда, например,
не имеет значения, исполняется ли музыкальное произведение с
оригинальная партитура или копия, совпадающая с ней, поскольку партитура
в нотной схеме. Тем не менее имеет значение, представлен ли один
с подлинником Рембрандта или с его копией, так как картины
аналоги, символы в синтаксически плотных системах.
Что касается двух визуально неразличимых картин, оригинала и
копии, Гудман обращается к вопросу о том, существует ли какое-либо эстетическое
разница между двумя картинками (1976, 99–102). Заметь,
если и есть разница, то она не должна зависеть от того, что можно визуально
различить в настоящее время для экс-гипотезы нет
такая визуальная разница, которая может быть обнаружена в настоящее время. Гудмана
Ответ заключается в том, что между ними есть эстетическая разница. картины даже сейчас, когда мы не в состоянии отличить одну картину от
другой, для осознания того, что один оригинал, а другой копия
информирует нас о том, что разница может быть воспринята, и действительно изменяет наши настоящее восприятие двух картин: теперь, например,
мы ищем отличия между двумя картинами, тренируемся
наши глаза и разум различать различия, которые в настоящее время
неразличимый (1976, 103–105). Гудман принимает свои претензии
носить общий характер и как вывод о том, что «эстетическое
К свойствам изображения относятся не только те, которые обнаруживаются при взгляде на него.
но и те, которые определяют, как на это смотреть» (1976, с.
111–112). Следовательно, даже с изображениями, которые не
«идеальные» копии других изображений, действительно с любую картинку , зная как должно быть
классифицированы, включая его классификацию по авторству, как
Рембрандт, Вермеер или Ван Меегерен — разница
как изображение может быть воспринято. Ибо восприятие есть, в конце концов,
определяются ярлыками, которые проецируются на то, что представлено в
перед глазами.
картины даже сейчас, когда мы не в состоянии отличить одну картину от
другой, для осознания того, что один оригинал, а другой копия
информирует нас о том, что разница может быть воспринята, и действительно изменяет наши настоящее восприятие двух картин: теперь, например,
мы ищем отличия между двумя картинами, тренируемся
наши глаза и разум различать различия, которые в настоящее время
неразличимый (1976, 103–105). Гудман принимает свои претензии
носить общий характер и как вывод о том, что «эстетическое
К свойствам изображения относятся не только те, которые обнаруживаются при взгляде на него.
но и те, которые определяют, как на это смотреть» (1976, с.
111–112). Следовательно, даже с изображениями, которые не
«идеальные» копии других изображений, действительно с любую картинку , зная как должно быть
классифицированы, включая его классификацию по авторству, как
Рембрандт, Вермеер или Ван Меегерен — разница
как изображение может быть воспринято. Ибо восприятие есть, в конце концов,
определяются ярлыками, которые проецируются на то, что представлено в
перед глазами. Следует заметить, что это утверждение
все находится в пределах теории восприятия и, утверждая, что
невоспринимаемые признаки имеют отношение к восприятию, следовательно,
отношение к эстетическому опыту, оно не утверждает, что
незаметные черты как таковые относятся к эстетическим
опыт.
Следует заметить, что это утверждение
все находится в пределах теории восприятия и, утверждая, что
невоспринимаемые признаки имеют отношение к восприятию, следовательно,
отношение к эстетическому опыту, оно не утверждает, что
незаметные черты как таковые относятся к эстетическим
опыт.
4.5 Художественный стиль
Представление Гудмана о стиле — хороший пример гудмановского подхода. «реконцепция»: философский подход к проблеме должен не только отказаться от характеристики стиля как связанного с формой и, следовательно, противопоставляется содержанию (ибо, в конце концов, автор пишет, скажем, о социальных проблемах, а не о битвах, должно считаться аспект авторского стиля), но должен, главное, признать роль, которую классификации с точки зрения стиля играют в понимание и оценка произведения.
Гудман предлагает нам распознавать элементы стиля в произведении. содержания , в его форме , а в чувств это выражает. Его предложение состоит в том, что стилистические особенности произведения
составляют подмножество признаков «того, что сказано, того, что
экземплифицируется или выражается» (Гудман 1978а, 32). В
В частности, стилистические особенности – это те символические свойства произведения,
которые позволяют разместить произведение в определенном месте, периоде времени и
творчество художника. То есть свойства стиля помогают в ответе
вопросы «где?», «когда?»,
«кто?» по отношению к произведению — они функционируют,
метафорически, как подпись за работу: «стиль
состоит из тех особенностей символического функционирования произведения, которые
характерны для автора, периода, места или школы» (1978а,
35). Учитывая то, что сказал Гудман, при обсуждении вопроса о
достоверность, относительно эстетической важности исторических
свойства картины, зная стиль произведения искусства
эстетически значимым, поскольку «знание происхождения произведения
[…] информирует о том, как следует смотреть или слушать произведение
или читать, давая основу для открытия неочевидных способов
произведение отличается от других произведений и похоже на них» (19).78а, 38). это
в силу привязки стилистических свойств к символическому
функции произведения искусства, определяющие стиль произведения,
особенно когда сложно и трудно и даже трудно
идентифицировать, является неотъемлемой частью «понимания произведений искусства и
миры, которые они представляют» (1978a, 40).
В
В частности, стилистические особенности – это те символические свойства произведения,
которые позволяют разместить произведение в определенном месте, периоде времени и
творчество художника. То есть свойства стиля помогают в ответе
вопросы «где?», «когда?»,
«кто?» по отношению к произведению — они функционируют,
метафорически, как подпись за работу: «стиль
состоит из тех особенностей символического функционирования произведения, которые
характерны для автора, периода, места или школы» (1978а,
35). Учитывая то, что сказал Гудман, при обсуждении вопроса о
достоверность, относительно эстетической важности исторических
свойства картины, зная стиль произведения искусства
эстетически значимым, поскольку «знание происхождения произведения
[…] информирует о том, как следует смотреть или слушать произведение
или читать, давая основу для открытия неочевидных способов
произведение отличается от других произведений и похоже на них» (19).78а, 38). это
в силу привязки стилистических свойств к символическому
функции произведения искусства, определяющие стиль произведения,
особенно когда сложно и трудно и даже трудно
идентифицировать, является неотъемлемой частью «понимания произведений искусства и
миры, которые они представляют» (1978a, 40).
4.6 Вопрос эстетики и вопрос достоинства
Выводы Гудмана относительно того, что примерно можно считать вопрос о том, что такое искусство, а также о художественной ценности, следуют из его взгляда, что эстетика на самом деле есть ветвь эпистемологии и что, в конечном счете, нет четкого разделения между искусства и других форм человеческого познания.
Цели искусства суть цели символической деятельности вообще, и они
иметь дело с пониманием. ( Понимание для
Гудмана, понятие более широкое, чем знание, такое, которое не связано
буквальную истину, и это, таким образом, применимо и к буквально ложным
и к тому, что не признает истинности: метафоры и картины для
пример.) Художественные символы, как символы вообще, должны оцениваться
за классификации, которые они вызывают, за то, насколько новым и проницательным
эти категории, для того, как они меняют наше восприятие
Мир и отношения к нему. Познавательная ценность искусства определяется как художественная ценность только потому, что используемые символы и
опыт, который они вызывают, принадлежит в некотором смысле к тому, что Гудмен
называют «эстетической». Отсюда вопрос о том, когда
такие символические действия и переживания являются эстетическими или художественными.
важно, хотя для Гудмана больше для того, чтобы признать
сходства между искусством и другими видами человеческой деятельности, в том числе
науки, чем изолировать художественную или эстетическую сферу от других
сферы знаний и опыта.
Отсюда вопрос о том, когда
такие символические действия и переживания являются эстетическими или художественными.
важно, хотя для Гудмана больше для того, чтобы признать
сходства между искусством и другими видами человеческой деятельности, в том числе
науки, чем изолировать художественную или эстетическую сферу от других
сферы знаний и опыта.
Гудман не предлагает определения ни искусства, ни того, что создает опыт.
эстетический. Поскольку быть произведением искусства для Гудмана значит исполнять
определенные референтные функции, вопрос «Что такое искусство?»
следует заменить вопросом «Когда искусство?». Что
заключается в том, что реальная проблема заключается в том, чтобы знать, когда, по крайней мере обычно,
рассматриваемая деятельность имеет черты, которые заставляют нас называть ее
«художественный». Поэтому он предполагает существование симптома эстетического , т. е. системы символов».
характерные черты, присущие искусству. В Языки
Art , они были предварительно представлены как достаточные по совокупности. и дизъюнктивно необходимо для того, чтобы опыт был эстетическим. Там
Гудман указал четыре таких признака: синтаксическая плотность , семантическая плотность , синтаксическая полнота , и образцовость (1976, 252–255). В Способах
Создание мира , список дополнен пятым элементом: множественная и комплексная ссылка (Goodman 1978a, 67–68).
В его более позднем вкладе кажется, что это всего лишь симптомы.
даже более буквально: это подсказки, указывающие, но не
гарантировать наличие произведения искусства; и художественный статус
можно и без них. Другими словами, предварительная оценка Гудмана
претензии по этому вопросу указывают на символическую деятельность и особенности
символическая деятельность, которая создает произведения искусства стремится создать экземпляр. На этих
оснований, Гудман может еще раз заявить, что «[искусство] и наука
не совсем чужды» (1976, 255). Те же черты, что
характерны, например, для численного исчисления, например,
артикулированность — можно найти в музыкальных партитурах, и то же самое
особенности, которые можно было бы назвать эстетическими, такие как
экземплификации — можно найти и в научных гипотезах.
и дизъюнктивно необходимо для того, чтобы опыт был эстетическим. Там
Гудман указал четыре таких признака: синтаксическая плотность , семантическая плотность , синтаксическая полнота , и образцовость (1976, 252–255). В Способах
Создание мира , список дополнен пятым элементом: множественная и комплексная ссылка (Goodman 1978a, 67–68).
В его более позднем вкладе кажется, что это всего лишь симптомы.
даже более буквально: это подсказки, указывающие, но не
гарантировать наличие произведения искусства; и художественный статус
можно и без них. Другими словами, предварительная оценка Гудмана
претензии по этому вопросу указывают на символическую деятельность и особенности
символическая деятельность, которая создает произведения искусства стремится создать экземпляр. На этих
оснований, Гудман может еще раз заявить, что «[искусство] и наука
не совсем чужды» (1976, 255). Те же черты, что
характерны, например, для численного исчисления, например,
артикулированность — можно найти в музыкальных партитурах, и то же самое
особенности, которые можно было бы назвать эстетическими, такие как
экземплификации — можно найти и в научных гипотезах. В более полном изложении: «Разница между искусством и
наука — это не то, что между чувством и фактом, интуицией и умозаключением,
восторг и размышление, синтез и анализ, ощущение и
мышление, конкретность и абстракция, страсть и действие, медиация
и непосредственность, или истина и красота, а скорее различие в
доминирование некоторых специфических характеристик символов»
(Гудман 1976, 264).
В более полном изложении: «Разница между искусством и
наука — это не то, что между чувством и фактом, интуицией и умозаключением,
восторг и размышление, синтез и анализ, ощущение и
мышление, конкретность и абстракция, страсть и действие, медиация
и непосредственность, или истина и красота, а скорее различие в
доминирование некоторых специфических характеристик символов»
(Гудман 1976, 264).
Гудман связывает художественный статус с исполнением определенных символических
функционирует определенным образом. Тем не менее, его акцент на важности
спрашивая , когда искусство , а не , каким должно быть искусство рассматривается как антиэссенциалистское утверждение по отношению к искусству: нет никого
свойство или набор свойств, даже не функцию или набор
функции, присущие предметам искусства. С другой стороны,
не следует подчеркивать, что произведения искусства могут проскальзывать
и лишен художественного статуса только на основании использования. Безусловно,
Гудман стремится утверждать, что что-то может быть произведением искусства. в одно время, а не в другое (1978а, 67). Тем не менее, он также подчеркивает, как
художественный статус несколько постоянен: «Картина Рембрандта
остается произведением искусства, как остается картиной, функционируя при этом
только как одеяло» (1978а, 69).
в одно время, а не в другое (1978а, 67). Тем не менее, он также подчеркивает, как
художественный статус несколько постоянен: «Картина Рембрандта
остается произведением искусства, как остается картиной, функционируя при этом
только как одеяло» (1978а, 69).
Положительные утверждения Гудмана в отношении художественного опыта
безусловно, следует воспринимать всерьез, несмотря на то, что
отрицательные утверждения, предшествующие им, когда-то прочитанные в свете более позднего
развития и применения когнитивной науки в искусстве, может показаться
слишком быстро пренебрежительно. Гудман подчеркивает познавательная роль
эмоций при восприятии художественного произведения (1976, 248). В искусстве
подчеркивает он, испытывая эмоции, как положительные, так и отрицательные,
приятный или неприятный, это способ восприятия работы и мира
через работу. Чувство меланхолии при прослушивании отрывка
музыка, например, может быть способом восприятия музыкальных особенностей
работы, а также воспринимать мир с их точки зрения. Следовательно
эмоции служат пониманию. С другой стороны, такие утверждения, как,
например, что точка зрения, согласно которой «искусство касается
с симулированными эмоциями предполагает, как и теория копирования
представление о том, что искусство — плохая замена реальности».
(1976, 246) в свете последних событий находятся в противоречии с
другие утверждения Гудмана, например, что «актер или
танцор — или зритель — иногда замечает и запоминает
чувство движения, а не его образец, поскольку они могут
выделяться вообще» (1976, 248). Для рода явлений
упомянутое в последнем утверждении, вполне может быть лучше всего объяснено
когнитивные теории, рассматривающие мысленное моделирование и другие формы
мимика занимает центральное место в определенных видах деятельности воображения, а также в
Память.
Следовательно
эмоции служат пониманию. С другой стороны, такие утверждения, как,
например, что точка зрения, согласно которой «искусство касается
с симулированными эмоциями предполагает, как и теория копирования
представление о том, что искусство — плохая замена реальности».
(1976, 246) в свете последних событий находятся в противоречии с
другие утверждения Гудмана, например, что «актер или
танцор — или зритель — иногда замечает и запоминает
чувство движения, а не его образец, поскольку они могут
выделяться вообще» (1976, 248). Для рода явлений
упомянутое в последнем утверждении, вполне может быть лучше всего объяснено
когнитивные теории, рассматривающие мысленное моделирование и другие формы
мимика занимает центральное место в определенных видах деятельности воображения, а также в
Память.
Искусство имеет общее значение для предприятия знаний, которое
с особой ясностью рассматривается в Пути создания миров . А
основной тезис этой работы «заключается в том, что искусство не должно восприниматься
менее серьезно, чем науки как способы открытия, творчества и
расширение знаний в широком смысле прогресса
понимание, и, таким образом, философия искусства должна пониматься
как неотъемлемая часть метафизики и эпистемологии» (1978а,
102). Более общий тезис книги состоит в том, что многочисленные и
конкурирующие «версии» мира, которые человечество
делает — с помощью научных теорий (утверждающих, например, что Солнце
является центром вселенной, или утверждая, что это Земля), но также
через мифологию, искусство, философию и тд и тп
четвертый — буквально — мира; Oни
«сфабриковать» то, что мы называем «фактами». И там — это не просто , всеобъемлющая версия мира:
возможны множественные и несовместимые версии. То есть Гудман
конструктивист и релятивист. Однако его релятивизм не
laissez-faire: версии можно различить между правильными и
неправильно, и действительно попытки построить мир могут потерпеть неудачу. Для
миры, которые постулирует Гудман, не являются возможными мирами, созданными
возможных описаний мира. Вернее, когда версии
правильно, они все являются частью реального мира.
Более общий тезис книги состоит в том, что многочисленные и
конкурирующие «версии» мира, которые человечество
делает — с помощью научных теорий (утверждающих, например, что Солнце
является центром вселенной, или утверждая, что это Земля), но также
через мифологию, искусство, философию и тд и тп
четвертый — буквально — мира; Oни
«сфабриковать» то, что мы называем «фактами». И там — это не просто , всеобъемлющая версия мира:
возможны множественные и несовместимые версии. То есть Гудман
конструктивист и релятивист. Однако его релятивизм не
laissez-faire: версии можно различить между правильными и
неправильно, и действительно попытки построить мир могут потерпеть неудачу. Для
миры, которые постулирует Гудман, не являются возможными мирами, созданными
возможных описаний мира. Вернее, когда версии
правильно, они все являются частью реального мира.
Для такого метафизического и эпистемологического подхода, чтобы включить искусства
среди средств конструирования миров нужно только добавить, что
версии мира включают невербальные версии и небуквальные
версии также. Виды искусства, в которых не используется язык, например живопись.
музыки или архитектуры, могут предложить способы восприятия и
познание мира — на самом деле способы построить
мира, позволяя нам, например, видеть, слышать и воспринимать
вещи новыми и освежающими способами. Произведения искусства могут участвовать в
миротворчество именно потому, что они имеют символические функции (1978а,
102). Поскольку лингвистические ярлыки классифицируют мир (и новые, необычные
ярлыки как «grue» и «bleen» классифицируют его
по-разному), так же и графические этикетки, например, классифицируют его по
количество способов (и некоторые из них действительно по-новому). Посещение
музей может изменить наше мировосприятие, заставляя нас замечать новые
аспекты реальности и позволяет нам столкнуться с другой реальностью.
Буквальное обозначение, метафорическое обозначение, а также
экземплификации и выражения, все они могут способствовать построению
мира. Сервантеса Дон Кихот буквально означает
никто, но метафорически оно обозначает многих из нас.
Виды искусства, в которых не используется язык, например живопись.
музыки или архитектуры, могут предложить способы восприятия и
познание мира — на самом деле способы построить
мира, позволяя нам, например, видеть, слышать и воспринимать
вещи новыми и освежающими способами. Произведения искусства могут участвовать в
миротворчество именно потому, что они имеют символические функции (1978а,
102). Поскольку лингвистические ярлыки классифицируют мир (и новые, необычные
ярлыки как «grue» и «bleen» классифицируют его
по-разному), так же и графические этикетки, например, классифицируют его по
количество способов (и некоторые из них действительно по-новому). Посещение
музей может изменить наше мировосприятие, заставляя нас замечать новые
аспекты реальности и позволяет нам столкнуться с другой реальностью.
Буквальное обозначение, метафорическое обозначение, а также
экземплификации и выражения, все они могут способствовать построению
мира. Сервантеса Дон Кихот буквально означает
никто, но метафорически оно обозначает многих из нас. И произведения искусства, созданные
иллюстрируя формы, цвета, эмоциональные паттерны и т. д., а также
выражая то, чем они буквально не обладают, может вызвать
реорганизация мира обыденного опыта. Это не просто
верно в том смысле, что просмотр картины может изменить наш способ видения
мир. Произведения искусства могут иметь эффекты, выходящие за рамки их среды,
следовательно, музыка может воздействовать на зрение, живопись — на слух и так далее.
Особенно в «эти дни экспериментов с
сочетание медиа в исполнительском искусстве» […] музыка,
картины и танец «все взаимопроникают в создании мира»
(1978а, 106).
И произведения искусства, созданные
иллюстрируя формы, цвета, эмоциональные паттерны и т. д., а также
выражая то, чем они буквально не обладают, может вызвать
реорганизация мира обыденного опыта. Это не просто
верно в том смысле, что просмотр картины может изменить наш способ видения
мир. Произведения искусства могут иметь эффекты, выходящие за рамки их среды,
следовательно, музыка может воздействовать на зрение, живопись — на слух и так далее.
Особенно в «эти дни экспериментов с
сочетание медиа в исполнительском искусстве» […] музыка,
картины и танец «все взаимопроникают в создании мира»
(1978а, 106).
Философия и искусство
| Диалектический материализм (А. Спиркин) | ||
|---|---|---|
| Предыдущая | Глава 1. Философия как мировоззрение и методология | Далее |
Философия, наука и искусство принципиально различаются по
их предмет, а также средства, с помощью которых они отражают,
преобразовать и выразить его. В определенном смысле искусство, как
философии, отражает действительность в ее отношении к человеку, и
изображает человека, его духовный мир и отношения между
человека в его взаимодействии с миром.
В определенном смысле искусство, как
философии, отражает действительность в ее отношении к человеку, и
изображает человека, его духовный мир и отношения между
человека в его взаимодействии с миром.
Мы живем не в первозданно чистом мире, а в мире,
познанный и преображенный, мир, в котором все было,
как бы дан «человеческий ракурс», мир пронизан
с нашим отношением к ней, нашими потребностями, идеями, целями, идеалами,
радостей и страданий, мир, который является частью вихря нашего
существование. Если бы мы убрали этот «человеческий фактор» из
мир, порой невыразимый, глубоко интимный
отношения с человеком, мы должны столкнуться с пустыней
серая бесконечность, где все было безразлично ко всему
еще. Природа, рассматриваемая в отрыве от человека, есть для человека
просто ничто, пустая абстракция, существующая в тени
мир дегуманизированной мысли. Весь бесконечный спектр наших
отношение к миру проистекает из суммы наших
взаимодействия с ним. Мы умеем думать об окружающей среде
рационально через гигантскую историческую призму науки,
философии и искусства, которые способны выразить жизнь как
возникает бурный поток противоречий,
развиваются, разрешаются и отрицаются, чтобы порождать новые
противоречия.
Ни один научно, не говоря уже о художественно мыслящем человеке не может остаться глухим к мудрому голосу истинной философии, может не изучать его как жизненно необходимую сферу культуры, как источник мировоззрения и метода. Столь же верно и то, что ни один мыслящий и эмоционально развитый человек не может оставаться равнодушен к литературе, поэзии, музыке, живописи, скульптуре и архитектура. Очевидно, можно в какой-то степени равнодушен к какой-то узкоспециализированной науке, но невозможно жить интеллектуально полной жизнью, если отвергнуть философии и искусства. Человек, который равнодушен к этим сферах сознательно обрекает себя на депрессивное узость кругозора.
Разве художественное начало в философской мысли не
заслуживают внимания и делают честь мыслящему уму,
наоборот? В некотором обобщенном смысле истинное
философ подобен поэту. Он тоже должен обладать
эстетический дар свободного ассоциативного мышления в интегральном
картинки. И вообще нельзя достичь истинного совершенства
творческое мышление в любой области, не развивая способности
воспринимать реальность с эстетической точки зрения. Без
эта драгоценная интеллектуальная призма, через которую люди смотрят на
миру все, что выходит за рамки эмпирического описания
факты, выходящие за рамки формул и графиков, могут выглядеть тусклыми и нечеткими.
Без
эта драгоценная интеллектуальная призма, через которую люди смотрят на
миру все, что выходит за рамки эмпирического описания
факты, выходящие за рамки формул и графиков, могут выглядеть тусклыми и нечеткими.
Ученые, которым не хватает эстетического элемента в их косметике, сухие как прах педанты и художники, не знающие философия и наука тоже не особо интересные люди, потому что они мало что могут предложить сверх элементарного общего смысл. Истинный художник, напротив, постоянно освежает себя открытиями наук и философия. В то время как философия и наука склонны втягивать нас в «лес абстракций», искусство всему улыбается, наделяя его интегрирующими красочными образами.
Жизнь так устроена, что для того, чтобы человек полностью осознал ему нужны все эти формы интеллектуальной деятельности, которые дополняют друг друга и создают целостное восприятие мир и разносторонняя ориентация в нем.
Биографии многих ученых и философов свидетельствуют
что великие умы, несмотря на их полную приверженность
исследований, глубоко интересовались искусством и сами писали
стихи и романы, рисовали картины, играли на музыкальных инструментах. инструментов и лепной скульптуры. Как жил Эйнштейн?
пример?
Он думал, писал, а также играл на скрипке, начиная с
который
он редко расставался где бы то ни было
он пошел или кто
он
посетил. Норберт Винер, основатель кибернетики, писал
романов, Дарвин глубоко интересовался Шекспиром, Мильтоном
и Шелли. Нильс Бор почитал Гёте и Шекспира;
Гегель провел исчерпывающее исследование мирового искусства и науки о
его день. Становление философского и научного мировоззрения Маркса.
взгляды находились под сильным влиянием литературы. Эсхил,
Шекспир, Данте, Сервантес, Мильтон, Гёте, Бальзак и
Гейне были
его любимые авторы.
Он чутко отреагировал на
появление значительных произведений искусства и
сам написал
стихи и сказки. Сияние широкой культуры сияет
от работы этого гения. Ленин был не только
знакомился с искусством, но и писал специализированные статьи о
Это.
Его философские, социологические и экономические работы
изобилует меткими литературными отсылками. И какое наслаждение
он
занялся музыкой!
инструментов и лепной скульптуры. Как жил Эйнштейн?
пример?
Он думал, писал, а также играл на скрипке, начиная с
который
он редко расставался где бы то ни было
он пошел или кто
он
посетил. Норберт Винер, основатель кибернетики, писал
романов, Дарвин глубоко интересовался Шекспиром, Мильтоном
и Шелли. Нильс Бор почитал Гёте и Шекспира;
Гегель провел исчерпывающее исследование мирового искусства и науки о
его день. Становление философского и научного мировоззрения Маркса.
взгляды находились под сильным влиянием литературы. Эсхил,
Шекспир, Данте, Сервантес, Мильтон, Гёте, Бальзак и
Гейне были
его любимые авторы.
Он чутко отреагировал на
появление значительных произведений искусства и
сам написал
стихи и сказки. Сияние широкой культуры сияет
от работы этого гения. Ленин был не только
знакомился с искусством, но и писал специализированные статьи о
Это.
Его философские, социологические и экономические работы
изобилует меткими литературными отсылками. И какое наслаждение
он
занялся музыкой!
Короче говоря, великий
люди теории ни в коем случае не были сухими
рационалисты. Они были одарены эстетической оценкой
мир. И неудивительно, ведь искусство является мощным катализатором
такие способности, как сила воображения, острая интуиция и
умение ассоциировать, способности, необходимые как ученым, так и
философы.
Они были одарены эстетической оценкой
мир. И неудивительно, ведь искусство является мощным катализатором
такие способности, как сила воображения, острая интуиция и
умение ассоциировать, способности, необходимые как ученым, так и
философы.
Если мы возьмем историю восточной культуры, то обнаружим, что ее характерной чертой является органический синтез художественного постижение мира с его философскими и научное восприятие. Это смешение философского и художественность присуща всем народам, как видно из их поговорки, пословицы, афоризмы, сказки и легенды, которые изобилуют ярко выраженной мудростью.
Если мы хотим развивать эффективное мышление, мы не должны исключать
какая-либо специфически человеческая черта от участия в творческих
Мероприятия. Дар восприятия, проницательного наблюдения за
реальность, математическая и физическая точность, глубина
анализ, свободное, устремленное в будущее воображение, радостная любовь
жизни — все это необходимо, чтобы суметь понять,
понимать и выражать явления, и только так
настоящее произведение искусства может появиться независимо от того, каков его сюжет. быть.
быть.
Можно ли представить нашу культуру без драгоценностей философская мысль, внесенная в нее человеческими гений? Или без его художественной ценности? Можно ли представить себе развитие современной культуры без живительные лучи медитативного искусства, воплощенные в произведениях такие люди, как Данте, Гёте, Лев Толстой, Бальзак, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Чайковский и Бетховен? Культура была бы совсем другая история, если бы не блестящий умы, подарившие нам свои шедевры живописи, музыки, поэзия и проза. Весь мир наших мыслей и чувств было бы иначе и несравненно беднее. И мы, как лиц, также были бы ошибочными. Интеллигент атмосфера, которая окружает нас с детства, стиль мышление, которым пронизаны народные поговорки, сказки и песни, книги, которые мы читали, картины и скульптуры, которые у нас есть восхищение, музыка, которую мы слышали, взгляд на мир и человечество, которое мы поглотили благодаря нашему контакту с сокровища искусства, не способствовало ли все это формирование нашего индивидуального Я? Разве это не научило нас думать философски воспринимать и преобразовывать мир эстетически?
Неотъемлемой чертой искусства является его способность передавать
информацию в оценочном аспекте. Искусство – это сочетание
когнитивно-оценочное отношение человека к действительности, зафиксированное
словами, красками, пластическими формами или мелодически
звуки. Как и философия, искусство также имеет глубоко
коммуникативная функция. Через него люди общаются с одним
другого свои чувства, свои самые сокровенные и бесконечно
разнообразные и острые мысли. Общая черта искусства и
философия — это
они оба содержат познавательное, моральное и социальное богатство.
вещество. Наука несет ответственность перед обществом за истинное
отражение мира и не более. Его функция заключается в
предсказывать события. На основе научных открытий можно
строить различные технические устройства, контролировать производство и социальные
процессы, лечить больных и обучать невежественных. Главный
ответственность искусства перед обществом заключается в формировании взгляда на
мира, правдивая и масштабная оценка событий,
рациональная, рассудочная ориентация человека в окружающем мире
его, истинную оценку самого себя.
Искусство – это сочетание
когнитивно-оценочное отношение человека к действительности, зафиксированное
словами, красками, пластическими формами или мелодически
звуки. Как и философия, искусство также имеет глубоко
коммуникативная функция. Через него люди общаются с одним
другого свои чувства, свои самые сокровенные и бесконечно
разнообразные и острые мысли. Общая черта искусства и
философия — это
они оба содержат познавательное, моральное и социальное богатство.
вещество. Наука несет ответственность перед обществом за истинное
отражение мира и не более. Его функция заключается в
предсказывать события. На основе научных открытий можно
строить различные технические устройства, контролировать производство и социальные
процессы, лечить больных и обучать невежественных. Главный
ответственность искусства перед обществом заключается в формировании взгляда на
мира, правдивая и масштабная оценка событий,
рациональная, рассудочная ориентация человека в окружающем мире
его, истинную оценку самого себя. Но почему искусство
эта функция? Потому что в своих великих произведениях он не только
непревзойденно художественный, но и глубоко философский. Как
глубоко философскими, например, являются стихи Шаке
Копье, Гёте, Лермонтов, Верхарн! И вообще все прекрасно
писатели, поэты, композиторы, скульпторы, архитекторы, живописцы, в
словом, все самые выдающиеся и блестящие представители искусства
были проникнуты чувством исключительной важности
прогрессивной философии и не только не отставали, но и
часто несет ответственность за свои достижения. Насколько глубокими были
Художественно выраженные размышления Толстого о роли
личности и народа в историческом процессе (для
например, Наполеон и Кутузов, или русский народ в
освободительной войны 1812 года, изображенной на 905:30 Война и
мира), о свободе и необходимости, о сознательном
и бессознательное в поведении человека. Рассмотрим
психологическая и философская глубина и художественная сила
которым Бальзак выявлял социальные типы в обществе
свой день во всем их многообразии (идея жадности и
стяжательство в характере Гобсека!).
Но почему искусство
эта функция? Потому что в своих великих произведениях он не только
непревзойденно художественный, но и глубоко философский. Как
глубоко философскими, например, являются стихи Шаке
Копье, Гёте, Лермонтов, Верхарн! И вообще все прекрасно
писатели, поэты, композиторы, скульпторы, архитекторы, живописцы, в
словом, все самые выдающиеся и блестящие представители искусства
были проникнуты чувством исключительной важности
прогрессивной философии и не только не отставали, но и
часто несет ответственность за свои достижения. Насколько глубокими были
Художественно выраженные размышления Толстого о роли
личности и народа в историческом процессе (для
например, Наполеон и Кутузов, или русский народ в
освободительной войны 1812 года, изображенной на 905:30 Война и
мира), о свободе и необходимости, о сознательном
и бессознательное в поведении человека. Рассмотрим
психологическая и философская глубина и художественная сила
которым Бальзак выявлял социальные типы в обществе
свой день во всем их многообразии (идея жадности и
стяжательство в характере Гобсека!). Как
философскими являются художественные и публицистические произведения
Вольтер, Руссо, Дидро, Томас Манн, Гейне, Герцен,
Чернышевский и многие другие. Если мы обратимся к научной фантастике,
мы находим, что он полон научных и философских
размышления о различных представлениях о будущем науки,
техники и человеческого существования в целом. Довольно часто его
сюжет представляет собой серию мысленных экспериментов. Однако ни
ни научное, ни философское содержание, как бы полно
выраженное в произведении искусства, составляет его специфическое
элемент. Мы никогда не говорим ни о каком произведении искусства, каким бы
мощным, как исследование, тогда как творчество в философии есть
изучение, исследование, и характеризуется прежде всего не
своим художественным, но и научными качествами, хотя
художественный аспект высоко ценится и имеет более чем чисто
эстетическое значение. Венец философского исследования
правда и предсказание, тогда как в искусстве это художественная правда, а не
точность воспроизведения, в смысле копия того, что
существует, но реалистичное изображение обычно возможного
явления либо в их развитой, либо в потенциальной форме.
Как
философскими являются художественные и публицистические произведения
Вольтер, Руссо, Дидро, Томас Манн, Гейне, Герцен,
Чернышевский и многие другие. Если мы обратимся к научной фантастике,
мы находим, что он полон научных и философских
размышления о различных представлениях о будущем науки,
техники и человеческого существования в целом. Довольно часто его
сюжет представляет собой серию мысленных экспериментов. Однако ни
ни научное, ни философское содержание, как бы полно
выраженное в произведении искусства, составляет его специфическое
элемент. Мы никогда не говорим ни о каком произведении искусства, каким бы
мощным, как исследование, тогда как творчество в философии есть
изучение, исследование, и характеризуется прежде всего не
своим художественным, но и научными качествами, хотя
художественный аспект высоко ценится и имеет более чем чисто
эстетическое значение. Венец философского исследования
правда и предсказание, тогда как в искусстве это художественная правда, а не
точность воспроизведения, в смысле копия того, что
существует, но реалистичное изображение обычно возможного
явления либо в их развитой, либо в потенциальной форме. Я пукнул
производили только истины, подобные научным истинам,
не быть шедеврами
мировая художественная культура. Бессмертие великих шедевров заключается в
сила их художественного обобщения, обобщения
самое сложное явление в мире — человек и его
отношения со своими ближними.
Я пукнул
производили только истины, подобные научным истинам,
не быть шедеврами
мировая художественная культура. Бессмертие великих шедевров заключается в
сила их художественного обобщения, обобщения
самое сложное явление в мире — человек и его
отношения со своими ближними.
Одни считают, что особенностью искусства является то, что
художник выражает свой собственный интеллектуальный мир, свою
внутренняя индивидуальность. Но это не совсем так. В любой
активное творчество, любое действие, отражающее и преобразующее жизнь,
человек также выражает себя. И чем выше уровень
творчества, в данном случае художественного, тем выше уровень
обобщение, а значит, и всеобщее, несмотря на все
индивидуальность формы.
«Индивидуальность человека или
единичность не есть преграда универсальности воли,
но подчиняется ему. Справедливость или мораль, другими словами,
прекрасное действие, хотя и совершаемое одним человеком,
тем не менее одобрено всеми. Каждый узнает себя или
свою волю в этом поступке. Здесь происходит то же самое, что и
в произведении искусства. Даже те, кто не смог создать такую работу
находят в них свое выражение. Такая работа
поэтому действительно универсальный. Чем больше его индивидуальный создатель
растворяется в ней, тем больше в ней одобрения
зарабатывает.»[1]
Даже те, кто не смог создать такую работу
находят в них свое выражение. Такая работа
поэтому действительно универсальный. Чем больше его индивидуальный создатель
растворяется в ней, тем больше в ней одобрения
зарабатывает.»[1]
Эстетический принцип не является специфическим элементом в
философии, хотя она там присутствует. Естественно, философия
отличается от других наук своей связью
гораздо ближе к эстетическому началу, к искусству. Это
синтезирует повседневный опыт людей и
что-то из других наук, а также что-то из искусства
не ограничиваясь ни одним из них. Эстетический элемент
также присутствует в любой науке. По мнению некоторых ученых, даже
рассматривается как критерий истины: истина элегантна и
очень утонченный по своей структуре. Красота, элегантность
эксперимент или какое-либо теоретическое построение, особенно
если он блещет остроумием, делает честь научной мысли,
вызывает наше законное восхищение и дает нам интеллектуальное
и эстетическое удовольствие. Довольно часто эта элегантность проявляется
осмысленной краткостью, ибо гениальность обычно просто
выражено без лишних слов. Итак, правда и красота
сестры, хотя и не всегда.
Итак, правда и красота
сестры, хотя и не всегда.
В философии этот эстетический принцип выражен более мощно и полно. Он не только более синтетический и интегрирована, чем наука. В самом своем социальном назначении оно является, или должно быть ближе и понятнее массам люди. Она не должна быть отделена от них «колючей проволокой» формализованного, не говоря уже о математизированном язык.
Написано немало философских работ. в поэтической и художественной форме. На самом деле это не стихи, а философские мысли, выраженные в поэзии. Многие блестящие философские произведения изложены таким прекрасным языком, что они читаются как великие произведения науки и искусства. Вдохновленный своим гением великие философы облекали свои глубокие мысли в образах удивительной меткости.
Многие обращают внимание на то, что достижения
науки, какими бы значительными они ни были когда-то, являются
постоянно пересматриваются, тогда как шедевры искусства
пережить века во всем великолепии своего
индивидуальность. Но замечали ли вы, что что-то подобное
бывает и в философии? Работы великих философов
сохраняют свою неповторимую ценность на протяжении веков. Итак, в
философии, как и в искусстве, история занимает особое место.
важность. В то время как произведения классического натуралиста
ученые изложены в учебниках и мало кто их читает
в оригинале классические произведения философии должны быть
читайте в оригинале, чтобы получить полное представление о
философская культура. Каждый великий философ уникален в
его интеллектуальная и моральная ценность; он учит нас воспринимать
мир и самих себя глубоко и в их тончайших
аспекты.
Но замечали ли вы, что что-то подобное
бывает и в философии? Работы великих философов
сохраняют свою неповторимую ценность на протяжении веков. Итак, в
философии, как и в искусстве, история занимает особое место.
важность. В то время как произведения классического натуралиста
ученые изложены в учебниках и мало кто их читает
в оригинале классические произведения философии должны быть
читайте в оригинале, чтобы получить полное представление о
философская культура. Каждый великий философ уникален в
его интеллектуальная и моральная ценность; он учит нас воспринимать
мир и самих себя глубоко и в их тончайших
аспекты.
Сказанное не означает, конечно, что философия
в конечном счете может быть сведена к форме искусства. философский
трактаты не становятся произведениями искусства, даже если они
выражены красочным и глубоко символическим языком
поэзия, как это часто бывало в древности, в
Философия Возрождения и Нового времени. Возьмем Платона, ибо
пример.
У него было красочное мировоззрение, сама его форма вызывает
восхищение. Он эстетичен во всем. Или возьмите
философские взгляды французских материалистов 18 в.
век. Они одновременно великолепные произведения искусства, полные
юмора, сатиры и колючих острот, направленных против религии,
схоластика и др. Их работы до сих пор радуют нас
блеск их формы, которая облачает тонкое и
глубокие мысли. Или опять возьмем философские идеи
Толстой или Достоевский, в которых их шедевры
пропитанный. Мы начали с рассмотрения эстетического принципа в
философия. Но в не меньшей степени можно говорить и о
философское начало в искусстве. Наверное, самое близкое к
философия есть поэзия, которая способна сделать лаконичным, но
глубокие обобщения как социальных, так и индивидуальных
жизнь, нравственные явления и отношения между человеком и
Вселенная.
Он эстетичен во всем. Или возьмите
философские взгляды французских материалистов 18 в.
век. Они одновременно великолепные произведения искусства, полные
юмора, сатиры и колючих острот, направленных против религии,
схоластика и др. Их работы до сих пор радуют нас
блеск их формы, которая облачает тонкое и
глубокие мысли. Или опять возьмем философские идеи
Толстой или Достоевский, в которых их шедевры
пропитанный. Мы начали с рассмотрения эстетического принципа в
философия. Но в не меньшей степени можно говорить и о
философское начало в искусстве. Наверное, самое близкое к
философия есть поэзия, которая способна сделать лаконичным, но
глубокие обобщения как социальных, так и индивидуальных
жизнь, нравственные явления и отношения между человеком и
Вселенная.
Метафорический язык искусства, далеко не чуждый философии и других наук, является необходимым условием для каждый новый шаг в неизвестность.
Сходное и специфическое в философии и искусстве тоже может быть
проявляется в характере обобщения. Философия использует
обобщения и его обобщения чрезвычайно
широкий, практически универсальный характер. Его категории
общее, частное и уникальное взаимосвязаны
и все же отдельные понятия. В искусстве же, наоборот,
общее, частное и единственное сплавляются в самом
ткань художественного образа. Философия теоретична от
от начала до конца, тогда как искусство чувственно и
воображаемый. Философская мысль отражает свой предмет в
понятия в категориях; искусство характеризуется, с другой
рукой, путем эмоционального и воображаемого отражения и путем
преображение реальности. Это не означает, конечно, что
искусства, особенно в его словесной форме, в красавицы
lettres, и уж тем более в интеллектуальном типе
романа, не содержит понятий. Романы Достоевского это
на три четверти философский. То же самое относится и к произведениям
Гёте, например, для которого чувство и философское
понимание природы, выраженное как в художественной форме, так и
научный анализ, были
дело его жизни. научный,
философско-художественные подходы были органичны в
Гете.
Философия использует
обобщения и его обобщения чрезвычайно
широкий, практически универсальный характер. Его категории
общее, частное и уникальное взаимосвязаны
и все же отдельные понятия. В искусстве же, наоборот,
общее, частное и единственное сплавляются в самом
ткань художественного образа. Философия теоретична от
от начала до конца, тогда как искусство чувственно и
воображаемый. Философская мысль отражает свой предмет в
понятия в категориях; искусство характеризуется, с другой
рукой, путем эмоционального и воображаемого отражения и путем
преображение реальности. Это не означает, конечно, что
искусства, особенно в его словесной форме, в красавицы
lettres, и уж тем более в интеллектуальном типе
романа, не содержит понятий. Романы Достоевского это
на три четверти философский. То же самое относится и к произведениям
Гёте, например, для которого чувство и философское
понимание природы, выраженное как в художественной форме, так и
научный анализ, были
дело его жизни. научный,
философско-художественные подходы были органичны в
Гете. Его работа как мыслителя неотделима от работы
художник. При составлении
его произведения искусства,
он в то же самое
время философ.
Он достигает наибольшей эстетической силы
именно в этих работах (Прометей и Фауст) где единство художника и
философ наиболее органичен. Можем ли мы четко различить
между философскими и эстетическими принципами в Фауст? Все, что можно сказать, это то, что нет
гений мог бы создать такое произведение без синтеза
философское, эстетическое и научное.
Его работа как мыслителя неотделима от работы
художник. При составлении
его произведения искусства,
он в то же самое
время философ.
Он достигает наибольшей эстетической силы
именно в этих работах (Прометей и Фауст) где единство художника и
философ наиболее органичен. Можем ли мы четко различить
между философскими и эстетическими принципами в Фауст? Все, что можно сказать, это то, что нет
гений мог бы создать такое произведение без синтеза
философское, эстетическое и научное.
Без определенной степени интеллекта не может быть тонкого
чувства, а из этого следует то искусство, которое
эстетически выражает эмоционально-интеллектуальный мир человека в
его отношение к окружающей среде, обязательно будет чувствовать
Влияние философии и других наук. Мировоззрение может
входить в искусство, но не как его неотъемлемая часть. мы можем говорить
философского содержания искусства, точно так же, как мы можем говорить о
философское содержание науки, когда ученый
начинает рассматривать сущностную природу своей науки, ее
моральная ценность, социальная ответственность и т. д. Это
собственно философские вопросы, и они не являются частью
специфика данной науки. Скорее они являются
самосознание науки, так же, как и у художника
размышления о природе искусства, его общественном значении и т.
на, являются самосознанием искусства. И это на самом деле
философия, категории которой пронизывают все формы мысли,
в том числе и художника. Без них ни один художник не мог
обобщать, выявлять типичное в конкретном факте,
оценить качество его предмета, сохранить пропорции,
самый важный элемент эстетического воображения или понимания
противоречия жизни таким образом, чтобы дать им полное
выражение.
д. Это
собственно философские вопросы, и они не являются частью
специфика данной науки. Скорее они являются
самосознание науки, так же, как и у художника
размышления о природе искусства, его общественном значении и т.
на, являются самосознанием искусства. И это на самом деле
философия, категории которой пронизывают все формы мысли,
в том числе и художника. Без них ни один художник не мог
обобщать, выявлять типичное в конкретном факте,
оценить качество его предмета, сохранить пропорции,
самый важный элемент эстетического воображения или понимания
противоречия жизни таким образом, чтобы дать им полное
выражение.
Работа художника не спонтанна. Это всегда следует
какой-то план, и он наиболее эффективен, когда талант
руководствуясь мировоззрением, когда художнику есть что рассказать
людей, гораздо реже он эффективен, когда речь идет о
в результате случайной ассоциативной игры
воображение, и оно никогда не бывает эффективным, если оно является результатом
слепой инстинкт. Пристальное внимание, которое уделяется
проблемы метода является признаком прогресса как в современной
науки и искусства, признак возрастающего взаимодействия всех
аспектов интеллектуальной жизни — науки, философии и
искусство.
| Предыдущая | Главная | Далее |
| Философия и наука | Вверх | Система категорий в философской мысли |
Мир как воля и представление (Шопенгауэр): Резюме
Содержание
- 1 Резюме и анализ творчества Шопенгауэра: Мир как воля и как представление
- 2 Эпистемология Шопенгауэра:
- 3 Шопенгауэр и идеи:
- 4 Шопенгауэр и эстетика:
- 5 Шопенгауэр и этика:
Резюме и анализ творчества Шопенгауэра: мир как воля и как представление
«Мир как воля и представление», изданный в 1819 году Артуром Шопенгауэром (немецким философом), представляет собой огромный труд, собор, целью которого является синтез концепций онтологии, метафизики, морали или эстетики.
Шопенгауэр, ученик Канта, принимает и трансформирует кантианский идеализм. Для ее чтения требуются некоторые знания кантовской философии.
«Мир как воля и представление» (опубликована в 1818 г.) разделен на четыре книги, последовательно посвященные гносеологии, онтологии, эстетике и, наконец, этике (Шопенгауэр разовьет свою мораль в своих «Афоризмах о мудрости»).
- первая книга описывает мир как идею. Мир рассматривается как объект опыта, в научном смысле, на основе принципа достаточного основания (см. определение).
- вторая книга описывает мир как волю и то, как она проявляется в мире и управляет
- в третьей книге обсуждается платоновская теория искусства, ценности гения и музыки в центре его эстетической теории
- четвертая книга раскрывает этические последствия подтверждения или отрицания воли к жизни.
Эпистемология Шопенгауэра:
Шопенгауэр с самого начала постулирует, что мир есть идея, поскольку он есть объект в сознании субъекта. Отношение субъект/объект — это отношение «все или ничего»: если объект воспринимается, то он находится в субъекте и, таким образом, становится идеей.
Отношение субъект/объект — это отношение «все или ничего»: если объект воспринимается, то он находится в субъекте и, таким образом, становится идеей.
Согласно Шопенгауэру, все объекты восприятия подчиняются четырем принципам достаточного основания: физическая форма, математическая форма, логическая форма и моральная форма. Физической формой принципа достаточного основания является принцип становления. Математическая форма принципа достаточного основания есть принцип бытия. Логической формой принципа достаточного основания является принцип познания. Моральной формой принципа достаточного основания является принцип действия. Шопенгауэр объясняет в своем трактате «О четверном корне достаточного основания» (1813 г.), что каждая форма принципа достаточного основания управляет категорией возможных объектов для субъекта. Принцип становления управляет классом представлений, которые могут конституировать опыт субъекта. Принцип бытия управляет классом абстрактных представлений и понятий. Принцип познания определяет класс априорных созерцаний пространства и времени. Принцип действия управляет классом объектов, состоящих из актов воли. Следовательно, четверной принцип достаточного основания представляет собой набор правил, управляющих всеми объектами и событиями феноменального мира. У всего есть веская причина быть, какова бы ни была его категория принадлежности.
Принцип познания определяет класс априорных созерцаний пространства и времени. Принцип действия управляет классом объектов, состоящих из актов воли. Следовательно, четверной принцип достаточного основания представляет собой набор правил, управляющих всеми объектами и событиями феноменального мира. У всего есть веская причина быть, какова бы ни была его категория принадлежности.
Шопенгауэр и идеи:
Согласно Шопенгауэру, есть два типа идей. Первичными идеями являются восприятия и интуиции. Именно понимание управляет ими. Вторичные идеи включают абстрактные понятия и представления, связанные с разумом. Таким образом, концепты являются «представлениями представлений». Таким образом, все представления являются объектами возможного опыта, а все объекты возможного опыта являются представлениями.
Шопенгауэр утверждает, что разум — это способность производить или сравнивать понятия, а понимание — это способность производить или сравнивать восприятия. Понятия можно мыслить, а не воспринимать. Объектами возможного опыта могут стать только следствия понятий, а не сами понятия. Следствием понятий являются язык, действие и наука.
Объектами возможного опыта могут стать только следствия понятий, а не сами понятия. Следствием понятий являются язык, действие и наука.
Идеализм Шопенгауэра, таким образом, оставляет нетронутым опыт, поскольку он трансцендентальный: опыт есть условие познания, на котором основывается разум.
Согласно Шопенгауэру, мир есть воля в той мере, в какой все идеи есть проявление воли. Воля есть не идея и не представление, а вещь в себе. Воля — это основная реальность мира, от которой зависят все явления. Шопенгауэр утверждает, что воля никогда не является объектом для субъекта, а потому объективно вне поля познания. Воля — это та сила, которая побуждает людей действовать независимо от того, есть ли у них рациональные мотивы. Таким образом, воля является автономной и сдерживающей силой. Индивид осознает только свои собственные представления и идеи, а не волю воли. Таким образом, индивидуум не свободен поступать так, как ему нравится, потому что все его действия диктуются необходимостью. Воля есть бытие-в-себе феноменального мира и не подчиняется принципу достаточного основания или необходимости. Следовательно, воля может быть иррациональной. Поскольку у него нет ни происхождения, ни специального назначения. Воля не зависит от времени, пространства, множественности, причинности, причины или мотива.
Воля есть бытие-в-себе феноменального мира и не подчиняется принципу достаточного основания или необходимости. Следовательно, воля может быть иррациональной. Поскольку у него нет ни происхождения, ни специального назначения. Воля не зависит от времени, пространства, множественности, причинности, причины или мотива.
Шопенгауэр и эстетика:
У Платона искусство есть идея красоты. Идеализм Шопенгауэра отличается от идеализма Платона. По Шопенгауэру, стол или стул — это предмет восприятия, в этом — проявление воли, которая есть высшая реальность. По Платону, стол или стул выражают идею стола или стула, и именно идея стола или стула есть высшая реальность.
Шопенгауэр также поясняет, что искусство есть непосредственная и адекватная объективность воли. Искусство — это способ видеть вещи независимо от принципа достаточного основания. С другой стороны, наука — это способ видения вещей в соответствии с принципом достаточного основания.
Шопенгауэр и этика:
Шопенгауэр описывает удовлетворение желания отрицательно, как приостановку страдания. Счастье отрицательно в том смысле, что оно никогда не приносит длительного удовлетворения. Искусство выполняет эту функцию, по Шопенгауэру, облегчения человеческих страданий.
Счастье отрицательно в том смысле, что оно никогда не приносит длительного удовлетворения. Искусство выполняет эту функцию, по Шопенгауэру, облегчения человеческих страданий.
Шопенгауэр утверждает, что воля стремится к собственному удовлетворению и что она проявляет себя как источник эгоизма. Эгоизм есть заинтересованность каждого человека в его воле. Альтруизм иногда может форсировать эгоизм воли, но временно. Добровольный отказ от эгоизма предполагает отрицание воли к жизни. Таким образом, мораль есть отрицание воли к жизни. Справедливость будет примирением воли к жизни каждого человека.
Нравственный аскетизм, отстаиваемый Шопенгауэром, таким образом, состоит в уменьшении силы воли, источника постоянно неудовлетворенных желаний, у человека. Это представляет собой буддийскую часть моральной теории Шопенгауэра.
О самоубийстве Шопенгауэр утверждает, что оно бесполезно, потому что это отказ от страдания, отказ от жизни, а не воля к жизни. Самоубийство есть даже проявление воли. Воля может быть отвергнута, но никогда не уничтожена, потому что она есть вещь в себе.
Воля может быть отвергнута, но никогда не уничтожена, потому что она есть вещь в себе.
Этика Шопенгауэра в «Мире как воле и представлении» весьма пессимистична, так как он представляет человеческую жизнь как жизнь, обреченную на страдание, рабыню эгоизма и воли к жизни. Следовательно, мораль должна быть построена на жалости, наиболее эмпатической форме эмпатии, позволяющей отрицать волю к жизни. Человек — жалкое существо, потому что им руководит воля, но он должен отрицать ее, чтобы перестать быть несчастным. Но отрицать волю — значит отрицать мир и его представления. Счастье, таким образом, сводится к высвобождению себя из феноменального мира, к превращению в ничто: в этом шопенгауэровская философия заключает, что человеческая жизнь невозможна как жизнь, воплощенная в мире, здесь и сейчас.
Цитируйте эту статью как: Тим, «Мир как воля и представление (Шопенгауэр): Резюме, 23 ноября 2019 г., » в Philosophy & Philosophers , 23 ноября 2019 г., https://www.the-philosophy. com/world-as-will-representation-schopenhauer-summary.
com/world-as-will-representation-schopenhauer-summary.
Локк: познание внешнего мира
Проблема того, как мы можем познать существование и природу внешнего по отношению к нашему разуму мира, является одной из старейших и самых сложных в философии. Обсуждение Джоном Локком (1632-1704) познания внешнего мира оказалось одним из самых запутанных и трудных отрывков во всей его философской работе. Трудности развиваются по нескольким направлениям.
Во-первых, в своей основной работе по эпистемологии, Эссе о человеческом понимании , Локк, кажется, принимает репрезентативную теорию восприятия. Согласно Локку, единственное, что мы воспринимаем (по крайней мере, непосредственно), — это идеи. Многие читатели Локка задавались вопросом, как мы можем познать мир за пределами наших идей, если мы только когда-либо воспринимаем такие идеи?
Во-вторых, эпистемология Локка построена вокруг строгого различия между знанием и просто вероятным мнением или верой. Однако Локк, по-видимому, определяет знание таким образом, чтобы исключить возможность познания внешнего мира. Многим его читателям показалось, что его определение знания как восприятия согласия между идеями ограничивает знание нашими собственными мыслями и идеями. Сам Локк, однако, подчеркивает, что знание внешнего мира не основано ни на умозаключениях или рассуждениях, ни на размышлениях над идеями, которые каким-то образом уже существуют в уме. Наоборот, это достигается через сенсорный опыт. Таким образом, знание внешнего мира, даже в том виде, в каком его описывает сам Локк, явно не сводится к простому знанию фактов о нашем собственном разуме.
Однако Локк, по-видимому, определяет знание таким образом, чтобы исключить возможность познания внешнего мира. Многим его читателям показалось, что его определение знания как восприятия согласия между идеями ограничивает знание нашими собственными мыслями и идеями. Сам Локк, однако, подчеркивает, что знание внешнего мира не основано ни на умозаключениях или рассуждениях, ни на размышлениях над идеями, которые каким-то образом уже существуют в уме. Наоборот, это достигается через сенсорный опыт. Таким образом, знание внешнего мира, даже в том виде, в каком его описывает сам Локк, явно не сводится к простому знанию фактов о нашем собственном разуме.
В-третьих, многие особые трудности понимания того, как возможно познание внешнего мира, проистекают из, казалось бы, разрушительных скептических аргументов против возможности такого знания. Однако подход Локка к скептицизму казался несфокусированным и, возможно, противоречащим самому себе. Локк попеременно предполагает, что скептицизм не может быть опровергнут, даже если у нас есть хотя бы несколько веских оснований полагать, что он ошибочен, что подлинный скептицизм психологически невозможен для человека и что скептицизм непоследователен.
В конечном счете, изучение рассуждений Локка о знании внешнего мира может оказаться одним из самых полезных способов знакомства с теоретической философией Локка. Понимание того, что Локк считает знанием внешнего мира и как оно вписывается в его более широкую эпистемологию и теоретическую философию, требует исследования за пределами его эпистемологии и в глубинах его описаний восприятия, репрезентации и содержания мысли. Правильно оценивая свою позицию по отношению к скептицизм также приводит к проблемам, касающимся взглядов Локка на фундаментальную природу реальности и нашу ограниченную способность ее постичь. Мы можем знать, что существует внешний мир, но почти ничего не знаем о природе самого мира.
Содержание
- Что такое Локковская категория чувствительного знания?
- Содержание чувствительного знания
- Как мы получаем секретные знания
- Ограничения чувствительного знания
- Чувствительные знания и более широкая эпистемология Локка
- Определение знания Локка
- Конфиденциальное знание как несовместимое с определением знания Локка
- Чувствительное знание и теория репрезентации Локка
- Простые идеи рефлексии и показатели когнитивных способностей
- Конфиденциальное знание как уверенность, а не строгое знание
- Анализ знаний, а не определение их предмета
- Чувствительное знание и прямое восприятие
- Чувствительные знания и скептицизм в отношении внешнего мира
- Параллельные причины с конфиденциальными знаниями
- Скептицизм и практические сомнения
- Скептицизм как самоподрыв
- Темы в ответах Локка на скептицизм
- Заключение
- Ссылки и дополнительная литература
- Основные тексты
- Дополнительная литература
- Конфиденциальное знание как несовместимое с определением знания Локка
- Чувствительные знания и семантика идей
- Чувствительное знание как соглашение между идеями
- Локк и прямое восприятие
- Конфиденциальные знания как гарантия
- Представление Локка о знании как анализе
- Чувствительные знания и скептицизм
- Дополнительное чтение
1.
 Что такое Локковская категория чувствительного знания?
Что такое Локковская категория чувствительного знания?Предположим, вы ждете с другом в коридоре, чтобы пойти на встречу. Яростно внося последние коррективы в презентацию, которую вы двое собираетесь провести, она спрашивает: «У меня пересохло в горле, есть ли вокруг какие-нибудь фонтаны?» Вы смотрите вверх и вниз по коридору, видите один в северном конце коридора и отвечаете: «Там есть фонтан». Ваш друг встает, идет к фонтану и делает глоток.
Многим людям и многим философам, включая Джона Локка, кажется, что, когда вы сказали «там есть фонтан», вы выразили некоторое знание своему другу. Она действовала в соответствии с этим знанием и утолила свою жажду. В вашем полезном заявлении выражен парадигматический пример познания внешнего мира. По словам Локка, есть два основных вопроса, которые следует задать о любом виде знания, включая такие случаи, как знание внешнего мира, которым вы поделились со своим другом. Первый, какой ты знаешь? Во-вторых, как вы приобретаете или достигаете таких знаний? В этом разделе будут рассмотрены ответы Локка на вопросы что и как познания внешнего мира.
а. Содержание чувствительного знания
Сейчас мы просто предположим, что у вас есть некоторые знания о внешнем мире, которыми вы можете поделиться со своим другом. В третьем разделе ниже будут рассмотрены ответы Локка на различные скептические опасения по поводу того, что у нас нет таких знаний. Предполагая, что у вас есть какие-то знания, которыми вы можете поделиться, что точно ты знал и поделился с другом? Или, выражаясь более техническими терминами, каково в данном случае содержание ваших знаний? В более общем смысле, что мы знаем в случаях познания внешнего мира?
Согласно Локку, знание внешнего мира — это знание «реального существования». Знание реального существования — это знание того, что что-то действительно существует, а не является просто плодом вашего воображения. Локк утверждает, что мы можем знать, что на самом деле существуют три разных вида вещей. Во-первых, каждый человек может знать о своем собственном существовании в любой момент времени. Теперь я могу знать, что существую в это время. Вы можете знать, когда читаете это, что вы существуете, пока читаете это. Утверждение Локка здесь напоминает утверждение Декарта о том, что мы знаем о нашем собственном существовании в каждом акте мышления — даже когда мы сомневаемся в своем собственном существовании. Во-вторых, Локк считает, что мы можем знать, что Бог существует. Локк предлагает доказательство существования Бога в Книге IV, главе 10 из 9.0003 Эссе . В-третьих, мы можем знать, что другие вещи, отличные от нашего разума, действительно существуют. Когда вы сказали своему другу, что там есть фонтан, знание о реальном существовании, которое вы выразили, было третьего рода. Когда вы смотрели на фонтан, вы знали, что тогда существовало что-то отличное от вашего ума, реально существующее — фонтан. Это не значит, что это была единственная другая вещь, о существовании которой вы знали в то время. Предположительно, вы также знали, что в то время существовало множество других вещей, отличных от вашего разума: пол, на котором вы стояли, коридор, в котором вы ждали, двери в коридоре и т.
Теперь я могу знать, что существую в это время. Вы можете знать, когда читаете это, что вы существуете, пока читаете это. Утверждение Локка здесь напоминает утверждение Декарта о том, что мы знаем о нашем собственном существовании в каждом акте мышления — даже когда мы сомневаемся в своем собственном существовании. Во-вторых, Локк считает, что мы можем знать, что Бог существует. Локк предлагает доказательство существования Бога в Книге IV, главе 10 из 9.0003 Эссе . В-третьих, мы можем знать, что другие вещи, отличные от нашего разума, действительно существуют. Когда вы сказали своему другу, что там есть фонтан, знание о реальном существовании, которое вы выразили, было третьего рода. Когда вы смотрели на фонтан, вы знали, что тогда существовало что-то отличное от вашего ума, реально существующее — фонтан. Это не значит, что это была единственная другая вещь, о существовании которой вы знали в то время. Предположительно, вы также знали, что в то время существовало множество других вещей, отличных от вашего разума: пол, на котором вы стояли, коридор, в котором вы ждали, двери в коридоре и т. д. Однако знание, которым вы поделились со своим другом, касалось наличие фонтана. Вы знали, что источник воды существует отдельно от вашего разума. В общем, знание внешнего мира есть знание существования вещи, отличной от нашего разума.
д. Однако знание, которым вы поделились со своим другом, касалось наличие фонтана. Вы знали, что источник воды существует отдельно от вашего разума. В общем, знание внешнего мира есть знание существования вещи, отличной от нашего разума.
б. Как мы получаем чувствительные знания
Локк дает несколько необычное название знаниям о внешнем мире. Его часто называют «чувственным знанием», но Локк называет такое знание «чувствительным знанием». Он использует эту фразу, чтобы отметить особый способ, которым мы достигаем знания о внешнем мире. Есть что-то особенное, согласно Локку, в том, как достигается знание внешнего мира, что отличает его от того, как достигается знание других предметов, например математическое знание. Познание внешнего мира познается «чувственно», а не «интуитивно» или «демонстративно». Локк называет эти три пути познания тремя способами.0003 степени знаний . Прежде чем исследовать, что имеет в виду Локк, когда говорит, что знание внешнего мира достигается чувственно, полезно рассмотреть другие пути, которыми, по мнению Локка, мы приходим к знанию — другие «степени» знания.
Согласно Локку, знание внешнего мира отличается от того, что он называет интуитивным знанием. Интуитивное знание — это знание, которое мы схватываем сразу и без каких-либо доказательств или объяснений. Например, любой, кто имеет представление о белом и черном цветах и сравнивает эти представления, тотчас же знает, что белое не черное. Это тот вид знания, который мы часто имеем относительно значений слов, по крайней мере, когда словам дается явное определение. Используя один из примеров Локка, если «золото» определяется как желтый металл, то мы можем знать, что золото желтое. Называя знание внешнего мира «чувствительным знанием», Локк снова отмечает, что такое знание отличается от интуитивного знания.
Локк также считает, что знание внешнего мира отличается от знания, которое мы получаем с помощью доказательств или аргументов. Когда кто-то доказывает, что сумма трех внутренних углов треугольника равна сумме двух прямых углов с помощью доказательства, состоящего из нескольких шагов, Локк называет такое знание демонстративным знанием. Локк сказал бы, что такой человек продемонстрировал свое заключение. Демонстративное знание, по Локку, — это знание, полученное с помощью того, что сегодня называют «дедуктивным аргументом». Локк называет знание внешнего мира «чувственным знанием» в знак того, что он не считает его своего рода демонстративным знанием. Познание внешнего мира не достигается никаким таким аргументом или доказательством.
Локк сказал бы, что такой человек продемонстрировал свое заключение. Демонстративное знание, по Локку, — это знание, полученное с помощью того, что сегодня называют «дедуктивным аргументом». Локк называет знание внешнего мира «чувственным знанием» в знак того, что он не считает его своего рода демонстративным знанием. Познание внешнего мира не достигается никаким таким аргументом или доказательством.
Знание внешнего мира не достигается путем обдумывания определений наших терминов или сравнения идей, которые мы уже приобрели. Знание внешнего мира не опирается ни на какие доказательства внешнего мира. Вместо этого познание внешнего мира достигается в чувственном опыте. Именно благодаря проникновению идеи в наш разум через органы чувств мы получаем знание внешнего мира. Локк пишет: «Именно фактическое получение идей извне сообщает нам о существовании других вещей и дает нам знать, что нечто существует в это время вне нас, что вызывает эту идею в нас…» (9).0003 E Книга IV, глава 11, раздел 2). Предположим, что фонтан, который вы видели, был недавно установлен и покрыт свежим слоем малиновой краски. Когда вы смотрели на фонтан и свет, отражавшийся от фонтана к вашим глазам, в вашем уме возникло представление об этом отчетливом малиновом цвете. Согласно Локку, когда ощущение этого цвета проникало в ваш разум, вы знали, что существует нечто багровое, отличное от вашего сознания, поскольку оно каким-то образом вызывает в вас это ощущение.
Предположим, что фонтан, который вы видели, был недавно установлен и покрыт свежим слоем малиновой краски. Когда вы смотрели на фонтан и свет, отражавшийся от фонтана к вашим глазам, в вашем уме возникло представление об этом отчетливом малиновом цвете. Согласно Локку, когда ощущение этого цвета проникало в ваш разум, вы знали, что существует нечто багровое, отличное от вашего сознания, поскольку оно каким-то образом вызывает в вас это ощущение.
Таким образом, ваше знание о существовании чего-то малинового приобретается способом, отличным от интуитивного или демонстративного знания. Оно не зависит от доказательства или от сравнения идей, уже существующих в вашем уме. Такое знание достигается при взгляде на фонтан и влияние фонтана на ваш разум через ваши чувства.
г. Ограничения чувственного знания
До сих пор мы видели как что , так и как познания внешнего мира согласно Локку. То, что мы знаем о , есть реальное существование. Как мы знаем это через ощущение — через восприятие идей в нашем уме. что и как объединяются, чтобы наложить некоторые жесткие ограничения на то, что, по мнению Локка, мы можем знать о внешнем мире.
что и как объединяются, чтобы наложить некоторые жесткие ограничения на то, что, по мнению Локка, мы можем знать о внешнем мире.
Во-первых, наше знание внешнего мира простирается только на текущий сенсорный опыт. Когда вы смотрите на фонтан, вы знаете, что он теперь существует. Когда вы отворачиваетесь от фонтана и поворачиваетесь к своему другу, вы больше не знаете, что он теперь существует. Вы только сейчас знаете, что он существовал, когда вы смотрели на него. Точно так же вы не знаете, что оно существовало до того, как взглянули на него. Локк считает, что для вас весьма вероятно, что фонтан существовал до и после того, как вы на него посмотрите. В самом деле, он думает, что для вас почти невозможно, если не полностью, не верить в то, что фонтан существовал до того, как вы его увидели, и продолжает существовать после того, как вы отвернетесь. По словам Локка, ваша вера в то, что фонтан существует, когда вы на него не смотрите, является одновременно рациональной и психологически убедительной. Наши знания охватывают относительно небольшую часть мира, в существование которого мы обычно верим. Мы знаем о существовании только тех чувственных объектов нашего непосредственного сенсорного окружения, которые в данный момент воздействуют на нас.
Наши знания охватывают относительно небольшую часть мира, в существование которого мы обычно верим. Мы знаем о существовании только тех чувственных объектов нашего непосредственного сенсорного окружения, которые в данный момент воздействуют на нас.
Во-вторых, мы знаем мир только таким, каким он предстает перед нами через наши органы чувств. Мы не знаем его лежащей в основе природы, как она есть сама по себе. Этот момент можно с пользой проиллюстрировать, рассмотрев новый случай. Предположим, например, что вы отправляетесь на экскурсию в золотую страну. Вы и остальные ученики опускаете сито в реку и отсеиваете несколько хлопьев желтоватого металла. Затем класс идет в шахту, откалывает куски породы, измельчает их и отсеивает из щебня новые кусочки желтоватого металла. В конце экскурсии класс раскладывает перед собой все собранные куски желтоватого металла. Наблюдая за распространением кусков желтоватого металла, вы можете узнать, что в настоящее время существует несколько отдельных объектов, которые воздействуют на ваш разум, вызывая в нем определенные идеи — ощущения желтого цвета, твердости и т. д. Чего вы не делаете?0003 знает , что в каждом из этих кусков материи существует какая-то глубинная природа. Кроме того, вы не знаете , что все они имеют одну и ту же основную природу. Иными словами, мы не знаем как об основной природе каждого отдельного объекта, так и о том, имеют ли объекты, которые кажутся нам подобными, сходную основную природу. Могут быть огромные доказательства, подтверждающие теорию, которая описывает микроструктуру, лежащую в основе этих кусков вещества, и даже объясняет, почему микроструктура такого типа создает видимость, которую вы сейчас видите. Однако такая микроструктура или лежащая в основе природа не являются частью того, как вам сейчас представляются куски материала. Таким образом, хотя весьма вероятно, что во всех вещах, разбросанных перед вами, существует какая-то общая природа, вы не знать что эта природа существует перед вами.
д. Чего вы не делаете?0003 знает , что в каждом из этих кусков материи существует какая-то глубинная природа. Кроме того, вы не знаете , что все они имеют одну и ту же основную природу. Иными словами, мы не знаем как об основной природе каждого отдельного объекта, так и о том, имеют ли объекты, которые кажутся нам подобными, сходную основную природу. Могут быть огромные доказательства, подтверждающие теорию, которая описывает микроструктуру, лежащую в основе этих кусков вещества, и даже объясняет, почему микроструктура такого типа создает видимость, которую вы сейчас видите. Однако такая микроструктура или лежащая в основе природа не являются частью того, как вам сейчас представляются куски материала. Таким образом, хотя весьма вероятно, что во всех вещах, разбросанных перед вами, существует какая-то общая природа, вы не знать что эта природа существует перед вами.
Один из способов продемонстрировать резкий характер этого ограничения на знание внешнего мира состоит в том, чтобы рассмотреть различные возможные употребления слова, такого как «золото». лежащей в основе химической или атомной структуры, то, по мнению Локка, мы не знаем, существует ли золото. Вера в то, что золото существует, была бы очень рациональной, если бы она основывалась на всех имеющихся у нас доказательствах, подтверждающих наши лучшие физические и химические теории. Тем не менее такая вера не была бы знанием. Если, с другой стороны, мы используем слово «золото» для выделения категории вещей, которые представляются нам определенным образом, мы можем знать, что золото существует, когда мы его ощущаем. Так, например, если я использую «золото» для обозначения тяжелой, желтоватой, металлической на ощупь вещи, тогда я могу знать, что золото существует, когда я испытываю тяжелую, желтоватую, металлическую на ощупь вещь. Поскольку люди используют слово «золото» в первом смысле, чтобы выделить химический или физический вид, а не во втором смысле, чтобы описать категорию вещей с определенным чувственным внешним видом, тогда мы не знаем, что золото существует. В терминологии Локк развивается в Эссе , один из способов понять этот момент состоит в том, что, хотя мы никогда не можем знать, что существует какая-либо конкретная «реальная сущность», мы можем знать, что существует некий вид вещей с определенной номинальной сущностью.
лежащей в основе химической или атомной структуры, то, по мнению Локка, мы не знаем, существует ли золото. Вера в то, что золото существует, была бы очень рациональной, если бы она основывалась на всех имеющихся у нас доказательствах, подтверждающих наши лучшие физические и химические теории. Тем не менее такая вера не была бы знанием. Если, с другой стороны, мы используем слово «золото» для выделения категории вещей, которые представляются нам определенным образом, мы можем знать, что золото существует, когда мы его ощущаем. Так, например, если я использую «золото» для обозначения тяжелой, желтоватой, металлической на ощупь вещи, тогда я могу знать, что золото существует, когда я испытываю тяжелую, желтоватую, металлическую на ощупь вещь. Поскольку люди используют слово «золото» в первом смысле, чтобы выделить химический или физический вид, а не во втором смысле, чтобы описать категорию вещей с определенным чувственным внешним видом, тогда мы не знаем, что золото существует. В терминологии Локк развивается в Эссе , один из способов понять этот момент состоит в том, что, хотя мы никогда не можем знать, что существует какая-либо конкретная «реальная сущность», мы можем знать, что существует некий вид вещей с определенной номинальной сущностью.
В-третьих, знание внешнего мира не распространяется на другие умы. Напомним, что Локк считает знание внешнего мира чувственным знанием. Чувствительное знание достигается в результате того, что вещи воздействуют на нас через наши органы чувств. Локк не считает, что другие умы воздействуют на нас непосредственно через наши чувства. (Наш собственный разум производит в нас идеи посредством того, что Локк называет рефлексией, своего рода внутренним чувством, направленным на наш собственный разум.) В лучшем случае разум других существ, включая других людей и других людей, влияет на поведение таких существ. тела. Затем эти тела воздействуют на наш разум через наши чувства. В результате никакие другие умы напрямую не производят идеи в нашем уме через наши чувства. Лок считает ли чрезвычайно вероятным, учитывая сходство поведения других людей с собственным поведением, что другие люди, по крайней мере, обладают разумом (см. 4.11.12). Более того, вера в то, что другие люди (или даже другие «низшие» животные) обладают разумом, может быть психологически непреодолимой для нас (то есть солипсизм может не быть для нас реальным психологическим выбором). Таким образом, как и в случае с верой в то, что объекты продолжают существовать, когда мы их не ощущаем, Локк считает веру в другие умы убедительной как с рациональной, так и с психологической точки зрения, но не считает ее знания .
Таким образом, как и в случае с верой в то, что объекты продолжают существовать, когда мы их не ощущаем, Локк считает веру в другие умы убедительной как с рациональной, так и с психологической точки зрения, но не считает ее знания .
Таким образом, в целом мы можем резюмировать изложение Локком того, как и что познания внешнего мира, следующим образом: на наш взгляд. Когда вы видели, например, фонтан, вы знали, что в то время существовала малиновая вещь, способная вызвать в вас определенное ощущение.
Как: в конкретных примерах познания внешнего мира мы знаем о существовании вещи, обладающей различными способностями воздействовать на наш разум, производя идеи в нашем уме благодаря нашему осознанию входа этих идей в наш разум. Когда вы видели, например, фонтан, вы знали, что в это время в вашем уме возникла определенная визуальная идея; что малиновое ощущение тогда входило в ваш разум.
2. Конфиденциальное знание и более широкая эпистемология Локка
В разделе 1 мы исследовали, что такое чувствительное знание : что мы знаем? откуда мы это знаем? каковы некоторые из (возможно, удивительных) ограничений, которые Локк накладывает на конфиденциальное знание? В этом разделе будет рассмотрено то, что многим показалось одним из самых загадочных аспектов локковского обсуждения чувствительного знания — его совместимости с собственным определением знания, данным Локком. Это вопрос о том, как интегрировать локковскую дискуссию о чувствительном знании с его более широкой эпистемологией. Среди исследователей Локка существует широкий диапазон мнений относительно того, совместимо ли локковское определение знания с чувственным знанием, но до недавнего времени большинство из них были крайне пессимистичными. Большинство читателей Локка думали, что чувствительное знание не может соответствовать официальному определению знания Локком и несовместимо с его более широкой эпистемологией. Однако совсем недавно исследователи Локка попытались объяснить, как деликатное знание может быть объяснено в терминах официального определения знания, данного Локком.
Это вопрос о том, как интегрировать локковскую дискуссию о чувствительном знании с его более широкой эпистемологией. Среди исследователей Локка существует широкий диапазон мнений относительно того, совместимо ли локковское определение знания с чувственным знанием, но до недавнего времени большинство из них были крайне пессимистичными. Большинство читателей Локка думали, что чувствительное знание не может соответствовать официальному определению знания Локком и несовместимо с его более широкой эпистемологией. Однако совсем недавно исследователи Локка попытались объяснить, как деликатное знание может быть объяснено в терминах официального определения знания, данного Локком.
После представления локковского определения знания и изложения его prima facie несовместимости с чувствительным знанием в этом разделе кратко объясняются различные попытки, которые были предприняты для интеграции чувствительного знания с эпистемологией Локка.
а. Локковское определение знания
Последняя книга Эссе посвящена знанию и мнению. Локк начинает книгу IV с определения знания. Чтобы оценить потенциальное противоречие между определением знания и конфиденциальным знанием, стоит подробно процитировать определение. Локк пишет:
Локк начинает книгу IV с определения знания. Чтобы оценить потенциальное противоречие между определением знания и конфиденциальным знанием, стоит подробно процитировать определение. Локк пишет:
Знание тогда кажется мне не чем иным, как восприятием связи и согласия или несогласия и отторжения каких-либо наших идей . Только в этом она состоит. Где есть это созерцание, там есть знание, а где его нет, там, хотя мы можем воображать, догадываться или верить, но всегда недостаем знания. E IV.i.2 (курсив оригинала)
Локк и его читатели часто сокращают это определение знания, называя знание восприятием согласия идей. Эта запись примет это соглашение.
Есть важные вопросы об определении знания Локком, которые касаются его совместимости с чувствительным знанием. Прежде всего, как разрешить двусмысленность в определении. Есть два способа прочесть второе «из» в «восприятии соответствия идей». Во-первых, его можно было бы прочитать так, что знание есть восприятие соответствия идей с чем-то другим , не обязательно с другой идеей. Во-вторых, можно прочитать определение как утверждающее, что знание есть восприятие согласия между идеями — восприятие совпадения одной идеи с другой идеей. Как мы увидим ниже в разделе 2.7, один из путей разрешения противоречия между чувствительным знанием и локковским определением знания состоит в том, чтобы принять первую интерпретацию определения. Однако большинство читателей Локка отвергли этот вариант. На полях рядом с абзацем, следующим за определением знания, Локк отметил в своем личном экземпляре Эссе , что знание есть восприятие согласия 9.0003 между две идеи. Следуя этому примеру, почти все читатели Локка приняли второе прочтение, согласно которому Локк определяет знание как восприятие согласия между идеями.
Во-вторых, можно прочитать определение как утверждающее, что знание есть восприятие согласия между идеями — восприятие совпадения одной идеи с другой идеей. Как мы увидим ниже в разделе 2.7, один из путей разрешения противоречия между чувствительным знанием и локковским определением знания состоит в том, чтобы принять первую интерпретацию определения. Однако большинство читателей Локка отвергли этот вариант. На полях рядом с абзацем, следующим за определением знания, Локк отметил в своем личном экземпляре Эссе , что знание есть восприятие согласия 9.0003 между две идеи. Следуя этому примеру, почти все читатели Локка приняли второе прочтение, согласно которому Локк определяет знание как восприятие согласия между идеями.
Зафиксировав интерпретацию локковского определения знания, мы можем теперь обратиться к выявлению противоречий между локковским определением знания и чувственным знанием. Для начала можно задаться вопросом: что соглашение между двумя идеями говорит нам о том, что существует 9?0003 за эти идеи? Знание внешнего мира, по Локку, есть знание о существовании чего-то отличного от нашего разума (и, следовательно, отличного от представлений в нашем уме). Даже сам Локк отмечает, что само существование идеи чего-либо не гарантирует существования того, что эта идея есть идея из . Простое представление о свежевыкрашенном малиновом фонтане не гарантирует, что свежевыкрашенный малиновый фонтан действительно существует. В этот момент, если есть хоть какая-то надежда, мы должны сделать шаг назад и спросить: какие две идеи совпадают в чувствительном знании ? Кажется очевидным, что если я узнаю, что малиновый фонтан существует, то мое представление о нем будет одной из идей. Какова вторая идея?
Даже сам Локк отмечает, что само существование идеи чего-либо не гарантирует существования того, что эта идея есть идея из . Простое представление о свежевыкрашенном малиновом фонтане не гарантирует, что свежевыкрашенный малиновый фонтан действительно существует. В этот момент, если есть хоть какая-то надежда, мы должны сделать шаг назад и спросить: какие две идеи совпадают в чувствительном знании ? Кажется очевидным, что если я узнаю, что малиновый фонтан существует, то мое представление о нем будет одной из идей. Какова вторая идея?
Мы могли бы продвинуться в этом вопросе, рассмотрев содержание чувствительного знания. Как подробно описано в разделе 1 выше, мы знаем, что вещь существует отдельно от нашего разума. Например, когда вы увидели свежевыкрашенный малиновый фонтан в конце коридора, вы поняли, что малиновая штука действительно существует. Возможно, тогда чувственное знание включает в себя восприятие соответствия между идеей вещи и идеей 9.0003 реальное существование . Когда вы смотрите в холл и знаете, что фонтан существует, вы замечаете соответствие между вашим представлением о малиновом фонтане и представлением о реальном существовании.
Когда вы смотрите в холл и знаете, что фонтан существует, вы замечаете соответствие между вашим представлением о малиновом фонтане и представлением о реальном существовании.
Один из трудных вопросов, стоящих перед этой точкой зрения, заключается в том, что неясно, как понять идею реального существования, согласующуюся с идеей чего-либо (за исключением, возможно, идеи Бога). Эту проблему можно сделать более яркой, приняв определенное понимание того, что означает согласование идей. Согласно популярному способу интерпретации локковского представления о знании, восприятие согласия между идеями — это восприятие некоторой связи между идеями. Доказывая, например, что сумма внутренних углов треугольника равна сумме двух прямых углов, через ряд шагов можно увидеть, что идеи связаны отношением равенства. Но какой может быть связь между идеей реального существования и идеей вещи, такой как ваша идея свежевыкрашенного малинового фонтана? Конечно, не может быть, чтобы мысль о свежевыкрашенном багряном фонтане влекла за собой идею реального существования, поскольку существование фонтана необязательно. Опять же, противопоставьте чувствительное знание интуитивному знанию значения термина. Если «золото» определяется как желтый металл, тогда идея желтого влечет за собой идею золота; оно содержится внутри него. Все, что является желтым металлом, является желтым. Но в случае с моей идеей малинового фонтана неправда, что что-либо, являющееся малиновым фонтаном, действительно существует. Малинового фонтана между домиками Деда Мороза и Пасхального кролика, например, на самом деле не существует. Какова же тогда связь между идеями, воспринимаемыми как согласующиеся в чувственном знании, и как такая связь воспринимается посредством чувственного опыта?
Опять же, противопоставьте чувствительное знание интуитивному знанию значения термина. Если «золото» определяется как желтый металл, тогда идея желтого влечет за собой идею золота; оно содержится внутри него. Все, что является желтым металлом, является желтым. Но в случае с моей идеей малинового фонтана неправда, что что-либо, являющееся малиновым фонтаном, действительно существует. Малинового фонтана между домиками Деда Мороза и Пасхального кролика, например, на самом деле не существует. Какова же тогда связь между идеями, воспринимаемыми как согласующиеся в чувственном знании, и как такая связь воспринимается посредством чувственного опыта?
Мы можем попытаться резюмировать проблему, с которой столкнулся Локк, следующим образом. Локковское определение знания, по-видимому, делает все знание априорным. То есть кажется, что все знания зависят от отражения и сравнения наших идей друг с другом в попытке понять отношения между нашими идеями. Но знание внешнего мира заведомо не априори . То, что (по крайней мере, случайно) существует в мире, нельзя узнать о существовании, просто размышляя над нашими собственными мыслями. В оставшейся части этого раздела мы рассмотрим различные подходы к вопросу о том, может ли локковское определение знания приспособиться к чувствительному знанию, и если да, то каким образом. Как мы увидим, вопрос о том, как интегрировать чувственное знание с локковской трактовкой знания, приводит нас к рассмотрению многих центральных аспектов теоретической философии Локка, выходящих за рамки его эпистемологии.
То, что (по крайней мере, случайно) существует в мире, нельзя узнать о существовании, просто размышляя над нашими собственными мыслями. В оставшейся части этого раздела мы рассмотрим различные подходы к вопросу о том, может ли локковское определение знания приспособиться к чувствительному знанию, и если да, то каким образом. Как мы увидим, вопрос о том, как интегрировать чувственное знание с локковской трактовкой знания, приводит нас к рассмотрению многих центральных аспектов теоретической философии Локка, выходящих за рамки его эпистемологии.
б. Чувствительное знание как несовместимое с определением знания Локка
Одна традиция, восходящая к первым читателям Локка, заключается в том, что Локк просто испортил свою эпистемологию. Одним из самых публичных критиков Локка был Эдвард Стиллингфлит, епископ Вустерский. Локк и Стиллингфлит переписывались в серии публичных писем. Одним из самых первых критических замечаний, высказанных Стиллингфлитом Локку, было то, что его определение знания с точки зрения идей делает невозможным знание реального мира, включая даже знание его существования. Эта критика сохранилась даже в двадцатом веке. Локк, утверждают такие читатели, делает все знание априори . Знание внешнего мира не есть априори . Поэтому определение Локка делает невозможным познание внешнего мира. Такие читатели утверждают, что неоднократные утверждения Локка о том, что у нас есть чувствительное знание, несмотря на его несовместимость с его определением, является результатом либо его неспособности распознать проблему, либо догматического утверждения, что у нас есть такое знание. Первый вариант не особенно правдоподобен в свете переписки Локка со Стиллингфлит. На самом деле Локк отвечает на обвинение Стиллингфлита, описывая идеи, воспринимаемые как согласующиеся в чувственном знании. Вскоре у нас будет возможность рассмотреть ответ Локка в разделе 2.4 ниже. А пока достаточно признать, что Локк, конечно же, не просто0003 пропустить явная проблема. Это оставляет нам второй вариант. Локк, с этой точки зрения, с мучительной ясностью выявил напряжение, но не смог его разрешить и вместо этого просто погряз в нем, цепляясь за оба источника напряжения.
Эта критика сохранилась даже в двадцатом веке. Локк, утверждают такие читатели, делает все знание априори . Знание внешнего мира не есть априори . Поэтому определение Локка делает невозможным познание внешнего мира. Такие читатели утверждают, что неоднократные утверждения Локка о том, что у нас есть чувствительное знание, несмотря на его несовместимость с его определением, является результатом либо его неспособности распознать проблему, либо догматического утверждения, что у нас есть такое знание. Первый вариант не особенно правдоподобен в свете переписки Локка со Стиллингфлит. На самом деле Локк отвечает на обвинение Стиллингфлита, описывая идеи, воспринимаемые как согласующиеся в чувственном знании. Вскоре у нас будет возможность рассмотреть ответ Локка в разделе 2.4 ниже. А пока достаточно признать, что Локк, конечно же, не просто0003 пропустить явная проблема. Это оставляет нам второй вариант. Локк, с этой точки зрения, с мучительной ясностью выявил напряжение, но не смог его разрешить и вместо этого просто погряз в нем, цепляясь за оба источника напряжения.
Хотя исторические личности столь же склонны к ошибкам и цеплянию за позиции, которые они не могут адекватно защищать, как и любой из нас, обычно лучше объяснить такую ошибку или догматическую привязанность, а не просто оставить ее как необъяснимую грубую неудачу. Те, кто думает, что Локк просто сломя голову врезался в противоречие между знанием внешнего мира и своим определением знания, не предложив многого в плане разрешения, часто объясняют положение Локка его особым историческим периодом. Локк, опираясь на эти взгляды, оказался между расширяющейся и совершенствующейся новой наукой и ее механистическим мировоззрением, с одной стороны, и старой эпистемологической парадигмой с ее упором на достоверность, с другой. Противоречие между утверждениями Локка о чувствительном знании и его определением знания отражает это более широкое противоречие, существующее в течение всей жизни Локка, между изменяющейся формой и силой эмпирического исследования и отношением к знанию.
г.
 Чувствительное знание и теория репрезентации Локка
Чувствительное знание и теория репрезентации ЛоккаВторой подход к осмыслению утверждения Локка о том, что у нас есть чувствительное знание, несмотря на его явное противоречие с его определением знания, пытается найти решение в локковской философии разума. Основная цель этого подхода — показать, насколько чувствительное знание соответствует более широкому духу философии Локка, даже если оно противоречит букве его эпистемологии. Локк, опираясь на эти взгляды, дополняет свое официальное определение знания молчаливым доверием к знанию, когда речь идет о знании внешнего мира. Основу релайабилизма Локка можно найти в его трактовке значения особого вида идеи. Чтобы оценить этот подход, будет полезно сделать шаг назад и более подробно рассмотреть рассказ Локка о том, как разум приходит к обретению своих идей.
Целью Локка во второй книге Эссе является демонстрация того, как все наши идеи могут быть приобретены посредством опыта. Для этого Локк делит идеи на простые и сложные. Простые идеи пассивно воспринимаются умом и не имеют других идей как частей. Так, например, когда я откусываю ананас, у меня может возникнуть несколько разных простых идей. Одной из таких идей может быть вкус ананаса. Другим может быть чувство прочности или сопротивления, когда я вгрызаюсь в него. Еще одним может быть особая влажная, скользкая текстура фрукта во рту и т. д. После того, как я закончу его жевать, я могу заметить особую липкую текстуру, оставшуюся на моих пальцах, где я держал фрукт. Вкус, разные текстуры, разные оттенки желтого — все это разные простые идеи Локка. Точнее, все это простые идеи ощущения; простые идеи, производимые в уме вещами вне разума, воздействующими на него через органы чувств. Локк также считает, что у нас есть простые идеи отражения. Простые идеи рефлексии — это идеи собственных операций ума. Это идеи, возникающие в уме, когда эти операции активны. Рефлексия, полагает Локк, подобна нашим внешним чувствам, но направлена на деятельность собственного ума, а не на внешний мир.
Простые идеи пассивно воспринимаются умом и не имеют других идей как частей. Так, например, когда я откусываю ананас, у меня может возникнуть несколько разных простых идей. Одной из таких идей может быть вкус ананаса. Другим может быть чувство прочности или сопротивления, когда я вгрызаюсь в него. Еще одним может быть особая влажная, скользкая текстура фрукта во рту и т. д. После того, как я закончу его жевать, я могу заметить особую липкую текстуру, оставшуюся на моих пальцах, где я держал фрукт. Вкус, разные текстуры, разные оттенки желтого — все это разные простые идеи Локка. Точнее, все это простые идеи ощущения; простые идеи, производимые в уме вещами вне разума, воздействующими на него через органы чувств. Локк также считает, что у нас есть простые идеи отражения. Простые идеи рефлексии — это идеи собственных операций ума. Это идеи, возникающие в уме, когда эти операции активны. Рефлексия, полагает Локк, подобна нашим внешним чувствам, но направлена на деятельность собственного ума, а не на внешний мир. Все эти простые идеи отражения и ощущения пассивно воспринимаются умом.
Все эти простые идеи отражения и ощущения пассивно воспринимаются умом.
Сложные идеи — это идеи, создаваемые разумом, оперирующим идеями, которые каким-то образом уже существуют в уме, будь то простые или сложные. Один из способов сформировать сложные идеи — объединить две идеи. Можно, например, соединить внешний вид банана со вкусом ананаса, представив себе «пинеану», или можно сравнить плодовую мушку, ползающую по ананасу, с самим ананасом, чтобы сформировать представление о большем, чем отношение. . Или можно объединить идеи определенных телесных движений, соответствующих определенным формам музыки, чтобы создать идею танца. Все это будут сложные идеи. Наиболее часто Локк обсуждает операции объединения идей, сравнения идей и абстрагирования идей.
Основная мысль локковского описания происхождения наших идей заключается в том, что при наличии определенного набора простых идей и определенного набора мыслительных операций мы можем объяснить, как мы получаем все имеющиеся у нас идеи. Согласно Локку, ощущения, размышления и деятельность разума могут объяснить все идеи, которые есть у людей. То есть все содержание наших мыслей можно проследить до истоков в ощущении или размышлении и некоторой комбинации умственных операций.
Согласно Локку, ощущения, размышления и деятельность разума могут объяснить все идеи, которые есть у людей. То есть все содержание наших мыслей можно проследить до истоков в ощущении или размышлении и некоторой комбинации умственных операций.
Категория простых идей Локка имеет отношение к чувствительному знанию, поскольку занимает особое место в его более широкой теории идей. Простые идеи ощущения уникальны среди всех идей тем, что они представляют как внешний мир, так и свой объект в совершенстве. Некоторые читатели Локка пришли к выводу, что это уникальное место в теории идей Локка позволяет использовать простые идеи ощущений для понимания утверждений Локка о чувственном знании.
Мы можем рассмотреть каждую из этих особенностей простых идей — то, что они представляют внешнюю реальность и что они представляют ее совершенно точно — в сравнении с другими идеями. Простые идеи производятся в нашем уме другими вещами, воздействующими на нас. В результате, утверждает Локк, они представляют собой способность производить эти идеи, то есть объект, который идеально представляет простая идея, является способностью производить эту идею. Однако простые идеи — не единственные идеи, которые представляют независимую от разума реальность. Наши представления о вещах, будь то отдельные лица или виды вещей, также представляют собой независимую от разума реальность. Локк называет этот тип идей идеями субстанций, и это сложные идеи. Например, моя идея конкретной лошади, мистер Эд, — это идея субстанции. Это идея конкретной вещи, которая обладает различными качествами. Таким образом, идеи субстанций — это идеи, которые представляют (или, по крайней мере, претендуют на то, чтобы представлять) внепсихическую реальность.
Однако простые идеи — не единственные идеи, которые представляют независимую от разума реальность. Наши представления о вещах, будь то отдельные лица или виды вещей, также представляют собой независимую от разума реальность. Локк называет этот тип идей идеями субстанций, и это сложные идеи. Например, моя идея конкретной лошади, мистер Эд, — это идея субстанции. Это идея конкретной вещи, которая обладает различными качествами. Таким образом, идеи субстанций — это идеи, которые представляют (или, по крайней мере, претендуют на то, чтобы представлять) внепсихическую реальность.
Однако у нас есть и другие идеи, помимо простых идей и идей субстанций. У нас также есть идеи отношений и модусов. По причинам, выходящим за рамки этой статьи, Локк не считает наши идеи любого рода репрезентацией независимой от разума реальности. Только простые идеи и идеи субстанций среди всех идей представляют внешний мир.
Хотя простые и субстанциональные идеи похожи в представлении внешнего мира, они различаются тем, как хорошо они представляют мир. Только простые идеи, по Локку, представляют внешний мир отлично . Будь то идея конкретной индивидуальной субстанции (мистер Эд) или идея разновидности субстанции (лошади), все наши идеи субстанций в той или иной степени не в состоянии представить то, что они стремятся представить. Чтобы увидеть эту разницу, мы можем сначала рассмотреть, почему простые идеи прекрасно представляют свой объект. Согласно Локку, простые идеи представляют собой способность производить эти идеи в нас. То есть все они представляют. Идеи субстанций, напротив, призваны представлять индивидуума или вид индивидуума. Для этого необходимо представить этого индивидуума или вид как обладающего всеми и только теми качествами, которыми он на самом деле обладает. Если мое представление о мистере Эде не включает в себя представление о цвете его глаз, то мое представление о мистере Эде не соответствует представлению о мистере Эде таким, какой он есть на самом деле. С точки зрения Локка, это неадекватная идея.
Только простые идеи, по Локку, представляют внешний мир отлично . Будь то идея конкретной индивидуальной субстанции (мистер Эд) или идея разновидности субстанции (лошади), все наши идеи субстанций в той или иной степени не в состоянии представить то, что они стремятся представить. Чтобы увидеть эту разницу, мы можем сначала рассмотреть, почему простые идеи прекрасно представляют свой объект. Согласно Локку, простые идеи представляют собой способность производить эти идеи в нас. То есть все они представляют. Идеи субстанций, напротив, призваны представлять индивидуума или вид индивидуума. Для этого необходимо представить этого индивидуума или вид как обладающего всеми и только теми качествами, которыми он на самом деле обладает. Если мое представление о мистере Эде не включает в себя представление о цвете его глаз, то мое представление о мистере Эде не соответствует представлению о мистере Эде таким, какой он есть на самом деле. С точки зрения Локка, это неадекватная идея. Точно так же, если моя идея о мистере Эде представляет его как имеющего темное пятно над хвостом, а у мистера Эда такого пятна нет, моя идея снова неадекватна. Итак, иметь адекватное представление об определенной субстанции или виде субстанции означало бы представлять не только все ее чувственные качества, т. е. идеи всех способов, которыми она может воздействовать на наши чувства, но также иметь идеи все его способности влиять на другие вещи. Кажется ясным — по крайней мере, в представлении Локка, — что никакие человеческие эксперименты не могли или раскрывают эту степень детализации. По крайней мере, мы просто не можем заставить любую данную вещь взаимодействовать с всеми другими вещами во вселенной, чтобы понять, какое влияние она может оказать на них или их на нее.
Точно так же, если моя идея о мистере Эде представляет его как имеющего темное пятно над хвостом, а у мистера Эда такого пятна нет, моя идея снова неадекватна. Итак, иметь адекватное представление об определенной субстанции или виде субстанции означало бы представлять не только все ее чувственные качества, т. е. идеи всех способов, которыми она может воздействовать на наши чувства, но также иметь идеи все его способности влиять на другие вещи. Кажется ясным — по крайней мере, в представлении Локка, — что никакие человеческие эксперименты не могли или раскрывают эту степень детализации. По крайней мере, мы просто не можем заставить любую данную вещь взаимодействовать с всеми другими вещами во вселенной, чтобы понять, какое влияние она может оказать на них или их на нее.
Таким образом, простые идеи ощущений стоят особняком как идеи, которые представляют внешний мир и представляют его в совершенстве. По этой причине некоторым казалось, что простые идеи ощущения подходят для объяснения чувственного знания. А именно, Локк может сочетать этот экстернализм в отношении содержания с экстернализмом в отношении знания. Простые идеи имеют внешнее содержание в том смысле, что они представляют собой свою причину. Такие идеи подходят для познания внешнего мира, потому что выводы от следствий к причинам достаточно надежны, чтобы считаться знанием.
А именно, Локк может сочетать этот экстернализм в отношении содержания с экстернализмом в отношении знания. Простые идеи имеют внешнее содержание в том смысле, что они представляют собой свою причину. Такие идеи подходят для познания внешнего мира, потому что выводы от следствий к причинам достаточно надежны, чтобы считаться знанием.
Даже если допустить такую интерпретацию внешнего содержания простых идей, есть разные способы заполнения деталей. Кроме того, то, как заполняются детали этого содержания, влияет на содержание чувствительного знания.
Одна из возможностей состоит в том, что простые идеи представляют собой то, что М. Р. Айерс называет «пустыми эффектами». Присутствие конкретной простой идеи в вашем уме в определенном случае указывает не что иное, как способность производить эту идею в вас в данный момент. Причины этой идеи в разных случаях могут не иметь ничего общего и не иметь сходства друг с другом, если не считать их способности вызывать эту идею в вашем уме.
Вторая возможность состоит в том, что простые идеи представляют собой что-то вроде их нормальной или обозначенной причины. Причина может быть «обычной» или «нормальной» в любом смысле. Это может быть причиной, которую Бог предназначил для идеи. Это может быть причиной, которая чаще всего порождает идею. Это может быть причиной, которая была естественным образом предназначена для создания идеи. Какое из этих прочтений принимает сторонник этой интерпретации, не особенно важно для целей этой статьи. Важно то, что под способностью производить идею в этом смысле понимается особый вид структуры в мире.
Чтобы проиллюстрировать разницу между этими интерпретациями, рассмотрим следующее сравнение. Возьмите определенный сладкий вкус, скажем, вкус глазури на пончике, и конкретный несладкий вкус, скажем, вкус острого соуса табаско. Теперь рассмотрим эффекты так называемой Чудо-ягоды. Если съесть чудо-ягоду, соус табаско будет на вкус как глазурь для пончиков, а глазурь для пончиков будет на вкус как соус табаско. Рассмотрим эту последовательность.
Рассмотрим эту последовательность.
T0: Попробуйте немного соуса табаско, создав в уме простое представление о вкусе табаско.
T1: Съесть чудо-ягоду
T2: Попробовать соус Табаско, вызывая в уме простое представление о вкусе глазури для пончиков.
При показаниях пустого эффекта способность производить простые идеи полностью зависит от воспринимающего. В результате соус Табаско имеет две разные способности при Т0 и Т2. В Т0 он способен создать представление о вкусе табаско. На уровне T2, из-за эффектов чудо-ягоды, он теперь может создавать представление о вкусе глазури для пончиков и больше не может создавать представление о вкусе Табаско.
Напротив, можно подумать, что простые идеи Локка имеют более сильное, более внешнее содержание. В этом более сильном прочтении «способность производить идею» — это что-то вроде химической структуры, которая обычно является причиной определенной идеи. При таком прочтении соус Табаско имеет одинаковую силу в Т0 и Т2, потому что он имеет одинаковую химическую структуру и будет оказывать такое же воздействие на нормального человека.
Недавние исследователи Локка, такие как М. Р. Айерс и Марта Болтон, объединили экстернализм в отношении содержания простых идей с экстернализмом в отношении знания, которое эти идеи допускают. При чтении пустых эффектов, если вы решите, что причина простой идеи существует на основании того, что у меня есть эта простая идея, вы не можете не ошибиться. Такие суждения вполне надежны и поэтому должны рассматриваться как знание. Если вы с завязанными глазами, неосознанно проглатываете чудо-ягоду, пробуете немного соуса Тобаско, а затем решаете, что попробовали глазурь для пончиков, вы, в некотором смысле, правы и обладаете чувствительным знанием. Вы попробовали что-то, способное вызвать у вас простое представление о вкусе глазури для пончиков. Вот и все, с этой точки зрения, знание внешнего мира, которым мы располагаем: существуют определенные силы, воздействующие на наш ум, производя в нас идеи. В этом прочтении мы познаем мир только по отношению к себе.
При более сильных, более внешних чтениях, если вы решите, что причина простой идеи существует на основе наличия этой простой идеи, вы обычно правы. Согласно этим воззрениям, несмотря на то, что «обычно» обналичивают, будет достаточно, чтобы такие убеждения равнялись знанию, даже если они не вполне надежны, потому что мы можем находиться в необычных перцептивных обстоятельствах. Если вы с завязанными глазами, неосознанно проглатываете чудо-ягоду, пробуете немного соуса Тобаско, а затем решаете, что попробовали глазурь для пончиков, вы ошибаетесь и не обладаете чувствительным знанием. Вы не попробовали обычную причину этой идеи. Однако когда вы пробуете настоящую глазурь для пончиков и на этом основании решаете, что есть что-то, способное вызвать в вас представление о вкусе глазури для пончиков, вы правы и действительно обладаете знаниями. Такое прочтение Локка делает его точку зрения более похожей на точку зрения современных экстерналистских эпистемологов, которые отрицают, что обладание знанием влечет за собой знание.0003 знает , что у него есть знание (так называемый принцип КК). Чтение пустых эффектов, напротив, остается совместимым со знанием того, что человек знает.
Согласно этим воззрениям, несмотря на то, что «обычно» обналичивают, будет достаточно, чтобы такие убеждения равнялись знанию, даже если они не вполне надежны, потому что мы можем находиться в необычных перцептивных обстоятельствах. Если вы с завязанными глазами, неосознанно проглатываете чудо-ягоду, пробуете немного соуса Тобаско, а затем решаете, что попробовали глазурь для пончиков, вы ошибаетесь и не обладаете чувствительным знанием. Вы не попробовали обычную причину этой идеи. Однако когда вы пробуете настоящую глазурь для пончиков и на этом основании решаете, что есть что-то, способное вызвать в вас представление о вкусе глазури для пончиков, вы правы и действительно обладаете знаниями. Такое прочтение Локка делает его точку зрения более похожей на точку зрения современных экстерналистских эпистемологов, которые отрицают, что обладание знанием влечет за собой знание.0003 знает , что у него есть знание (так называемый принцип КК). Чтение пустых эффектов, напротив, остается совместимым со знанием того, что человек знает.
Понимание чувствительного знания в свете его семантики простых идей в конечном счете не согласовывает чувствительное знание с определением знания Локком. Скорее, это подчеркивает, что у Локка есть ресурсы из его философии разума и его описания содержания мысли, чтобы дополнить свое официальное определение знания своего рода релайабилизмом в отношении знания. Подходы под этим зонтиком расходятся в том, насколько надежными они считают такие суждения о существовании причины быть, где надежность зависит от внешнего содержания простых идей Локка.
д. Простые идеи рефлексии и индикаторы когнитивных способностей
Некоторые исследователи Локка пытались согласовать определение знания, данное Локком, с чувствительным знанием. Они пытаются осмыслить чувственное знание как восприятие соответствия между идеями, находя связь между идеей реального существования и идеей чувственного объекта, такого как фонтан из первого раздела. Интерпретации, разработанные Ньюманом, Алленом и Нагелем, пытаются провести эту связь через идею рефлексии.
Чтобы понять этот подход, будет полезно рассмотреть часть теории идей Локка, лишь кратко упомянутую в 2.3. Напомним, что простые идеи мы получаем по двум каналам, согласно теории идей Локка: ощущение и отражение. Простые идеи ощущения производятся внешними по отношению к нашему уму объектами, воздействующими на нас через наши чувства. Идеи отражения, напротив, поступают в разум через своего рода внутреннее чувство — осознание умом своей собственной деятельности. Вышеупомянутые интерпретаторы утверждают, что идеи рефлексии функционируют как своего рода индикатор когнитивных способностей, аналогичный чему-то вроде отметки времени на видео или фотографии. Записывающие устройства часто отмечают время записи. То есть запись, произведенная устройством, включает в себя информацию о времени, когда она была записана. Эти интерпретации приписывают сходный взгляд Локку, когда речь идет об умственной способности, благодаря которой идея возникает в уме. Ум, осознавая свою деятельность, отпечатывает любую данную идею идеей способности, с помощью которой первая возникает в уме в данном случае. Этот показатель познавательной способности обеспечивает связь между представлением о чувственном объекте и представлением о реальном существовании.
Этот показатель познавательной способности обеспечивает связь между представлением о чувственном объекте и представлением о реальном существовании.
Согласно Локку, чувственное восприятие солнца явно отличается от воспоминаний о солнце. Фактически, Локк утверждает, что чувственное восприятие солнца так же отличается от воспоминаний о солнце, как и от чувственного переживания или воспоминаний о луне. По мнению таких людей, как Аллен, Нагель и Ньюман, Локк объясняет это различие тем, что каждый способ мышления о солнце включает различные идеи отражения. Глядя на солнце посреди безоблачного дня, идея солнца «отпечатывается» идеей действительного ощущения. Идея актуального ощущения есть идея рефлексии; идея умственной способности, ответственной за создание идеи солнца в уме в то время. Позже той же ночью, когда мы вспоминаем, как выглядело солнце в полдень, в уме снова возникает идея солнца, но на этот раз она запечатлевается идеей памяти. Идея памяти есть также идея рефлексии; идея умственной способности, активной в создании идеи солнца в моем уме в это более позднее время.
В соответствии с этим направлением интерпретации, есть три идеи, связанные с любым экземпляром чувствительного знания. Во-первых, это идея чувственного объекта — идея солнца или ваша идея фонтана. Во-вторых, есть идея ощущения. Это идея рефлексии. В-третьих, это идея реального существования. Идея ощущения функционирует как посредник, соединяющий идею чувственного объекта с идеей реального существования. Связь между идеей ощущения и идеей реального существования должна быть своего рода априорная связь участвует в интуитивном и демонстративном знании. Если у вас есть ощущение, то причина этого ощущения существует вне вашего ума. Ощущение — это всего лишь влияние внешнего мира. Учитывая, что идея отмечена рефлективной идеей ощущения, мы можем с уверенностью заключить, что причина этой идеи существует вне нашего разума. Связь между идеей ощущения и идеей чувственного объекта не такова — и неясно, в чем именно заключается эта связь по Локку (возможно, совместное возникновение в уме или какой-то особый способ связи). Важно отметить именно то, что согласие между идеей ощущения и идеей реального существования есть согласие иного рода, чем согласие между идеей ощущения и идеей чувственного объекта.
Важно отметить именно то, что согласие между идеей ощущения и идеей реального существования есть согласие иного рода, чем согласие между идеей ощущения и идеей чувственного объекта.
Толкователи расходятся во мнениях относительно того, что делать с этим различием в отношениях между тремя идеями, связанными с чувственным знанием. Ньюмен предполагает, что отношение между идеей актуального ощущения и идеей чувственного объекта (идеей солнца) дает только вероятное мнение, а не строгое знание. Ньюман подчеркивает, что привлечение вероятного мнения как компонента чувствительного знания объясняет утверждение Локка о том, что чувствительное знание является наименее достоверным из всех форм знания. Нагель и Аллен, напротив, считают, что как отношение между идеей актуального ощущения и идеей чувственного объекта, так и связь между идеей актуального ощущения и идеей реального существования являются связями, придающими знание.
Текстовая мотивация этих взглядов исходит из переписки Локка со Стиллингфлит. В разделе 2.2 выше мы видели, что Стиллингфлит настаивал на том, чтобы Локк мог ли его подход к знанию относиться к знанию о существовании внешнего мира. Локк ответил, описав идеи, воспринимаемые как согласующиеся в чувствительном знании. Стоит рассмотреть весь отрывок:
В разделе 2.2 выше мы видели, что Стиллингфлит настаивал на том, чтобы Локк мог ли его подход к знанию относиться к знанию о существовании внешнего мира. Локк ответил, описав идеи, воспринимаемые как согласующиеся в чувствительном знании. Стоит рассмотреть весь отрывок:
Теперь две идеи, которые в этом случае воспринимаются как согласующиеся и тем самым производят знание, суть идея актуального ощущения (которое есть действие, о котором я имею ясное и отчетливое представление) и идея фактического существования чего-то без меня, что вызывает это ощущение. Работы Джона Локка , том. 4, с. 360.
Согласно этим воззрениям, когда Локк говорит, что одной из идей, воспринимаемых как согласованных в чувственном знании, является «идея действительного ощущения», он называет идею рефлексии, идею операции ума. Однако фраза в том виде, в каком она появляется в отрывке, двусмысленна. Локк может иметь в виду, что одна из идей, считающихся согласованными в чувственном знании, — это ощущение — в официальной терминологии Локка из « Эссе» 9. 0004 , простая идея, полученная через ощущение, а не идея определенной операции ума. В самом деле, Локк, кажется, ссылается на эту идею как на ощущение, а не как на идею рефлексии, когда называет вторую идею, воспринимаемую как согласующуюся в чувственном знании. Он называет это идеей чего-то, что вызывает « то ощущение». Идея отражения, такая как идея ощущения или идея памяти, не является ощущением. Сторонники и противники простой идеи рефлексивного подхода приводят этот отрывок и другие подобные отрывки из Эссе и переписке Локка большое внимание.
0004 , простая идея, полученная через ощущение, а не идея определенной операции ума. В самом деле, Локк, кажется, ссылается на эту идею как на ощущение, а не как на идею рефлексии, когда называет вторую идею, воспринимаемую как согласующуюся в чувственном знании. Он называет это идеей чего-то, что вызывает « то ощущение». Идея отражения, такая как идея ощущения или идея памяти, не является ощущением. Сторонники и противники простой идеи рефлексивного подхода приводят этот отрывок и другие подобные отрывки из Эссе и переписке Локка большое внимание.
Помимо текстуальных опасений, у человека могут быть философские опасения по поводу понимания чувствительного знания как зависимого от рефлексивной идеи ощущения. А именно, может показаться, что Локк остается открытым для очевидных скептических возражений. На каком основании мы должны доверять нашему показателю когнитивных способностей? Точно так же, как кто-то может усомниться в том, что чувственная идея действительно порождена чем-то внешним по отношению к нашему разуму, можно опасаться, что наши идеи отражения не точно отслеживают, какие умственные способности были ответственны за создание идеи в нашем уме. Однако такого рода скептическое сомнение не связано с попыткой набросать, как локковское определение знания может сочетаться с чувствительным знанием. В конце концов, можно усомниться и в демонстративном знании, и в интуитивном знании. Мы вернемся к ответам Локка на скептицизм в третьем разделе ниже.
Однако такого рода скептическое сомнение не связано с попыткой набросать, как локковское определение знания может сочетаться с чувствительным знанием. В конце концов, можно усомниться и в демонстративном знании, и в интуитивном знании. Мы вернемся к ответам Локка на скептицизм в третьем разделе ниже.
эл. Конфиденциальное знание как уверенность, а не строгое знание
Сэм Риклесс недавно выдвинул то, что он называет представлением уверенности в чувствительном знании. Как и подходы, обсуждавшиеся в 2.2 и 2.3, Риклесс не считает, что чувствительное знание может быть согласовано с локковской трактовкой знания. Однако Риклесс утверждает, что сам Локк не считал чувствительное знание, строго говоря, знанием . Как показано в 1.2, часть смысла Локковского обсуждения чувствительного знания состоит в том, чтобы обозначить его как отличное от других форм знания. Философская мотивация подхода, основанного на уверенности, заключается в том, чтобы принять локковское определение знания, чтобы придать знанию априори природа. Это просто противоречит такому определению, что мы могли бы знать о существовании случайного, конечного объекта, отличного от нашего разума.
Это просто противоречит такому определению, что мы могли бы знать о существовании случайного, конечного объекта, отличного от нашего разума.
Текстовая основа подхода доверия лежит в некоторых ключевых фразах, которые Локк использует для описания чувствительного знания. Локк называет чувствительное знание своего рода «уверенностью». «Уверенность» — это термин, который Локк позже использует в Книге IV « Эссе » как название простого вероятного мнения, которое не соответствует знанию. Точно так же Локк говорит, что чувствительное знание «проходит» под именем знания, а не прямо называет его знанием. Наконец, как отмечалось выше, Локк считает, что чувствительное знание менее достоверно, чем интуитивное или демонстративное знание. Кажется трудным понять, как чувствительное знание может быть менее определенным, но тем не менее знанием. Риклесс предполагает, что мы можем понять меньшую достоверность чувствительного знания, признав, что это вообще не знание, строго говоря.
ф.
 Анализ знания, а не определение его предмета
Анализ знания, а не определение его предметаЕще один примечательный подход был разработан в конце двадцатого века в работах Рут Маттерн, а затем Дэвида Соулза. Маттерн и Соулс пытаются примирить чувствительное знание с локковским определением знания, развивая утверждение, что локковское определение знания — это просто анализ знания, а не описание предмета знания. Другими словами, когда Локк определяет знание как восприятие соответствия между идеями, он не утверждает, что знание связано с идеями или отношениями между идеями. Скорее, локковское определение знания выражает то, что мы делаем, когда получаем знание о предмете, который нас интересует: о существовании вещи, об отношении между двумя математическими объектами и т. д. Знание — это постижение истинности предложения, видит , что предложение истинно. Локковское определение знания просто говорит то же самое, используя излюбленную терминологию идей из « Эссе ».
Важным следствием этой точки зрения является то, что она опровергает утверждение Локка о том, что все знания имеют априорную природу. Его определение само по себе просто говорит, что знание есть постижение истинности предложения. Может быть много способов «схватить» или воспринять истинность предложения, которые не включают в себя просто размышление о наших собственных идеях. Другими словами, определение Локка оставляет открытыми рамки нашего знания, способы, которыми мы можем воспринимать любую данную истину. Мы можем воспринимать истинность некоторых утверждений с помощью априорных методов, как это происходит в математике. Однако могут быть и другие способы восприятия истинности предложения и, таким образом, прихода к знанию.
Его определение само по себе просто говорит, что знание есть постижение истинности предложения. Может быть много способов «схватить» или воспринять истинность предложения, которые не включают в себя просто размышление о наших собственных идеях. Другими словами, определение Локка оставляет открытыми рамки нашего знания, способы, которыми мы можем воспринимать любую данную истину. Мы можем воспринимать истинность некоторых утверждений с помощью априорных методов, как это происходит в математике. Однако могут быть и другие способы восприятия истинности предложения и, таким образом, прихода к знанию.
Хотя и Маттерн, и Соулс подчеркивают это следствие своей точки зрения, ни один из них не развивает подробно то, как, по мнению Локка, мы воспринимаем истинность тех видов экзистенциальных утверждений, которые известны в чувственном знании. Однако то, что отличает их подход от тех, что упоминались до сих пор, заключается в том, что вместо того, чтобы пытаться подогнать чувствительное знание к более широко принятому пониманию локковского определения знания, Маттерн и Соулз извлекают корень проблемы включения чувствительного знания в эпистемологию Локка. заключается в широко распространенном непонимании локковского определения знания.
заключается в широко распространенном непонимании локковского определения знания.
г. Чувствительное знание и прямое восприятие
Наконец, Джон Йолтон впервые предложил подход к проблеме включения чувствительного знания в эпистемологию Локка, основанный на его более крупном проекте по разработке интерпретации всего Эссе Локка как предложения прямой реалистической теории восприятия. В основе взглядов Йолтона лежит радикальный отход от исследований Локка в отношении природы идей Локка. Идеи, по Йолтону, — это действия, а не объекты. По мнению Йолтона, чувственное знание как раз и есть восприятие согласования идеи с самой вещью. Поэтому он использует интерпретацию локковского определения знания, которая, как отмечалось выше, не пользуется популярностью в современной локковской науке. А именно, что Локковское определение знания трактует знание как восприятие соответствия между идеей и какая-то вещь , не обязательно другая идея. На фоне своей интерпретации прямого восприятия Йолтон может сказать, что чувствительное знание может быть восприятием соответствия между идеей и самой реально существующей вещью. Интерпретация прямого восприятия Йолтона — если не его прочтение локковского определения знания — была развита и защищена в недавней работе Тома Леннона, которая будет отмечена в аннотированной библиографии ниже.
Интерпретация прямого восприятия Йолтона — если не его прочтение локковского определения знания — была развита и защищена в недавней работе Тома Леннона, которая будет отмечена в аннотированной библиографии ниже.
3. Чуткое знание и скептицизм в отношении внешнего мира
Раздел 1 исследовал то, что Локк понимает под знанием внешнего мира, его содержание и средства, с помощью которых оно достигается. Раздел 2 был посвящен взаимосвязи между Локковским обсуждением знания о внешнем мире и его более широкой эпистемологией. Однако знание внешнего мира часто лучше всего известно своей запутанной связью со скептицизмом. В этом разделе будет рассмотрено отношение Локка к скептицизму и его аргументы против него.
Самому Локку хорошо известны скептические опасения по поводу внешнего мира. Каждый раз, когда он поднимает чувствительное знание в Эссе , он следует за введением темы обсуждением скептических опасений. В этом разделе будут рассмотрены три направления ответа Локка скептику. Во-первых, мы рассмотрим то, что Локк называет «совпадающими причинами». Это причины, которые Локк берет для поддержки чувствительного знания, хотя, похоже, он не думает, что какие-либо обычные случаи чувствительного знания основаны на этих причинах. Во-вторых, Локк считает, что чувствительное знание не подлежит практическим сомнениям. Даже если кто-то говорит, что сомневается в существовании внешнего мира, чувственный опыт неизменно руководит человеческими действиями. То есть никто не может действуют так, как будто они сомневаются в том, что их чувства говорят им о внешнем мире. В-третьих, Локк, кажется, считает, что скептик, по крайней мере, в его более сильных формах, ведет к самоподрыву.
Во-первых, мы рассмотрим то, что Локк называет «совпадающими причинами». Это причины, которые Локк берет для поддержки чувствительного знания, хотя, похоже, он не думает, что какие-либо обычные случаи чувствительного знания основаны на этих причинах. Во-вторых, Локк считает, что чувствительное знание не подлежит практическим сомнениям. Даже если кто-то говорит, что сомневается в существовании внешнего мира, чувственный опыт неизменно руководит человеческими действиями. То есть никто не может действуют так, как будто они сомневаются в том, что их чувства говорят им о внешнем мире. В-третьих, Локк, кажется, считает, что скептик, по крайней мере, в его более сильных формах, ведет к самоподрыву.
а. Параллельные причины с чувственным знанием
Локк отмечает, что в дополнение к знанию о существовании вещи, когда мы ее видим, у нас есть четыре «одновременных причины», которые дополнительно поддерживают чувствительное знание. Некоторые из этих причин обычно всплывают в дискуссиях о скептицизме в период раннего Нового времени от Декарта до Юма.
Первая причина, которую предлагает Локк, заключается в том, что ощущения зависят от наличия чувств. Люди без необходимых органов чувств не могут иметь соответствующих идей. Просто иметь органы недостаточно, чтобы иметь идеи — человек с глазами не видит цветов в темноте. Итак, казалось бы, для ощущений необходим внешний объект чувств.
Для скептика это вряд ли будет особенно убедительным. В конце концов, скептик сомневается в самой основе утверждений о том, что у нас есть органы чувств или что самих органов чувств недостаточно для ощущений — чувственных наблюдений. Точка зрения Локка здесь предполагает достоверность наблюдения за органами чувств и случаи отсутствия определенных идей в определенных условиях внешнего мира.
Вторая причина, которую Локк предлагает одновременно с чувственным знанием, заключается в том, что ощущения явно отличаются от других форм мышления, таких как память или воображение. Как мы видели выше в разделе 2.4, Локк считает, что воспоминание о солнце так же отличается от чувственного опыта солнца, как и воспоминание о луне. Один из способов, которым Локк подчеркивает это положение, касается нашей пассивности в чувственном опыте. Мы не можем ни производить чувственный опыт по своей воле, ни запретить себе иметь сенсорный опыт по своей воле. Когда вы смотрите в зал открытыми глазами, от вас не зависит, увидите ли вы малиновый фонтан. На ваш ум просто воздействуют. Напротив, мы часто осуществляем произвольный контроль над воспоминаниями. Мы вспоминаем предыдущие мысли и переживания и по желанию создаем в мыслях новые вещи.
Один из способов, которым Локк подчеркивает это положение, касается нашей пассивности в чувственном опыте. Мы не можем ни производить чувственный опыт по своей воле, ни запретить себе иметь сенсорный опыт по своей воле. Когда вы смотрите в зал открытыми глазами, от вас не зависит, увидите ли вы малиновый фонтан. На ваш ум просто воздействуют. Напротив, мы часто осуществляем произвольный контроль над воспоминаниями. Мы вспоминаем предыдущие мысли и переживания и по желанию создаем в мыслях новые вещи.
Скептик, конечно, мог бы усомниться в силе этой причины. Скептик может указать, что мы можем быть пассивны в чувственном опыте в наших снах и галлюцинациях или потому, что мы бестелесные мозги в чанах. Действительно, может настаивать скептик, мы можем быть полностью нефизическими умами, подчиненными прихотям злонамеренного демона. Тем не менее, даже если наша пассивность по отношению к ощущениям не доказывает существования внешнего мира, Локк может предложить это по крайней мере в качестве аргумента, на котором можно основывать аргумент о том, что лучшим объяснением нашего чувственного опыта является внешний мир.
Третья параллельная причина, которую предлагает Локк, касается особой связи между чувственным опытом, удовольствием и болью. Локк указывает, что удовольствие и боль однозначно связаны с сенсорным опытом. Воспоминание о тепле солнца не приносит такого же удовольствия, как нежиться на нем. Воспоминание об ожогах от огня не приносит такой боли, как попытка спасти заветную игрушку ребенка, случайно брошенную в огонь. Ценность этого ответа и его более точные аргументы против скептиков будут рассмотрены ниже, в разделе 3.2.
Последняя и четвертая параллельная причина, которую предлагает Локк, очень знакома. Наши чувства, указывает Локк, склонны подтверждать и взаимно поддерживать друг друга. Мы можем коснуться того, что видим, чтобы убедиться, что то, что мы видим, действительно существует. Опять же, такое соображение , а не само по себе является решающим против скептика. Ведь злонамеренный демон мог бы устроить такую же консистенцию. Однако такое соображение можно рассматривать как одновременную причину с нашим чувственным знанием, поскольку взаимная поддержка наших чувств является точкой зрения, которая может быть частью более крупного аргумента в пользу существования внешнего мира. Возможно, лучшее объяснение — если не единственное возможное объяснение — как нашей пассивности, так и когерентности наших ощущений состоит в том, что их причиной является внешний мир.
Возможно, лучшее объяснение — если не единственное возможное объяснение — как нашей пассивности, так и когерентности наших ощущений состоит в том, что их причиной является внешний мир.
Один из наиболее интересных аспектов параллельных доводов Локка, однако, состоит в том, что они предлагаются Локком в качестве доводов , поддерживающих истинность чувствительного к содержанию знания. Это поднимает вопрос о чувствительном знании как таковом. Думает ли Локк, что сами случаи чувствительного знания основываются на каких-либо основаниях? Делаем ли мы вывод о существовании чего-то, отличного от нашего разума, на основании какой-то посылки, касающейся идей, которые у нас есть в данный момент? Если Локк и думает, что чувствительное знание основано на каких-то причинах, он никогда четко не формулирует, каковы эти причины и как они приобретаются. Возможно, тогда чувствительное знание не является выводным и не основано ни на каких основаниях. Шелли Вайнберг разработала концепцию чувствительного знания как недедуктивного. В самом деле, недедуктивный взгляд на чувственное знание, по-видимому, хорошо согласуется с наблюдаемым в первом разделе контрастом, который Локк проводит между чувственным и демонстративным знанием. Напоминаем, что демонстративное знание — это знание, полученное путем рассуждений из посылок.
В самом деле, недедуктивный взгляд на чувственное знание, по-видимому, хорошо согласуется с наблюдаемым в первом разделе контрастом, который Локк проводит между чувственным и демонстративным знанием. Напоминаем, что демонстративное знание — это знание, полученное путем рассуждений из посылок.
Следствием принятия чувствительного знания за недедуктивное является то, что скептик не может быть доказан неправым — мы не можем доказать существование внешнего мира даже если мы знаем, что он существует в чувствительном знании. Эти сопутствующие причины в лучшем случае делают вероятным, что внешний мир существует. Параллельные причины, которые предлагает Локк, не предназначены для того, чтобы обеспечить решительное поражение скептика как часть доказательства внешнего мира. Вместо этого они обеспечивают то, что Локк считает самой сильной рациональной поддержкой.
б. Скептицизм и практическое сомнение
Помимо подчеркивания особой связи между чувственным опытом, с одной стороны, и удовольствием и болью, с другой, Локк неоднократно отмечает, что скептицизм можно вылечить огнем. Локк пишет:
Локк пишет:
Ибо тот, кто увидит горящую свечу и испытал силу ее пламени, поместив в нее палец, почти не усомнится в том, что это нечто существующее без него, причиняющее ему вред и причиняющее ему сильную боль: уверенности достаточно, когда никому не требуется большей уверенности, чтобы управлять своими действиями тем, что так же достоверно, как и сами его действия. И если нашему сновидцу будет угодно попробовать, может быть, раскаленное тепло стеклянной печи всего лишь блуждающее воображение в воображении сонливого человека, положив в него свою руку, он, возможно, пробудится с большей уверенностью, чем он мог бы желать, что это нечто большее. чем голое воображение. E IV.xi.8.
В этом и подобных отрывках Локк, по-видимому, считает, что освобождение наших чувств связано с удовольствием и болью таким образом, что невозможно сомневаться в наших чувствах в целях управления нашими действиями. Скептик, например, может отрицать существование стекловаренной печи, но если он сунет руку в печь, то будет неотразимо действовать на освобождение своих чувств. Она уберет руку от того места, где, по ее мнению, находится печь, выдавая, что на самом деле она принимает то, что ее чувства говорят ей о мире. Таким образом, чтобы направлять ее действия, даже скептик принимает освобождение ее чувств за реальность.
Она уберет руку от того места, где, по ее мнению, находится печь, выдавая, что на самом деле она принимает то, что ее чувства говорят ей о мире. Таким образом, чтобы направлять ее действия, даже скептик принимает освобождение ее чувств за реальность.
Не сразу понятно, насколько сильным будет это возражение скептику. Скептик может возразить, что, хотя они вынуждены действовать в определенных случаях, это не означает, что они искренне принимают освобождение чувств. Или, возможно, более решительно, скептик может ответить, что, хотя они вынуждены соглашаться с тем, что сообщают чувства, такое согласие не является рациональным или разумным . Это больше похоже на рефлекс, чем на действие.
Дженнифер Нагель утверждала, что Локк предвидит такую реакцию скептиков. Локк, согласно Нагелю, утверждает, что все, что нужно для того, чтобы рассматривать что-то как реально существующее, — это рассматривать его как руководство к действию. Иными словами, Локк может свести на нет различие между реальным существованием и реальным в практических целях, направляя наши действия по отношению к удовольствию и страданию. Этот шаг Локка связан с одним из самых ранних диагнозов скептицизма Локка: он коренится в чрезмерном требовании к нашим рациональным способностям, которое происходит из-за недостаточного понимания цели наших способностей.
Этот шаг Локка связан с одним из самых ранних диагнозов скептицизма Локка: он коренится в чрезмерном требовании к нашим рациональным способностям, которое происходит из-за недостаточного понимания цели наших способностей.
Цель наших познавательных способностей, как предполагает Локк во введении к Эссе , состоит в том, чтобы обеспечить счастье как в этом мире, так и за его пределами. В той мере, в какой наши чувства помогают нам получать удовольствия и избегать боли, чувства выполняют свои задачи и достигают всех знаний, на которые мы можем разумно надеяться. Таким образом, скептик, который надеется на большее знание, чем руководство в отношении удовольствия и боли, просто требует слишком многого. Даже скептик не может практически отрицать, что наши чувства действительно дают нам знания о том, как направлять наши действия в отношении удовольствия и боли. Это все, что нужно знать о реальном существовании.
В конечном счете, ответ на скептицизм, основанный на крахе реального существования с руководством к действию, настолько силен, насколько силен этот крах. Любая форма скептицизма, считающая знание реального существования чем-то большим, чем знание того, как получать удовольствие и избегать боли, останется непоколебимой. Точка зрения Локка могла бы быть более убедительной, если бы она сопровождалась защитой его взглядов на назначение наших познавательных способностей.
Любая форма скептицизма, считающая знание реального существования чем-то большим, чем знание того, как получать удовольствие и избегать боли, останется непоколебимой. Точка зрения Локка могла бы быть более убедительной, если бы она сопровождалась защитой его взглядов на назначение наших познавательных способностей.
г. Скептицизм как самоподрыв
Последняя линия ответа на скептицизм может быть найдена в рассуждениях Локка о чувствительном знании. Когда Локк упоминает о скептических опасениях, он склонен отмахиваться от них как от недостойных — или, возможно, исключающих — серьезного ответа. Вот два примера:
Если кто-нибудь скажет, что сновидение может сделать то же самое, и все эти идеи могут быть произведены в нас без каких-либо внешних объектов, он может пожелать видеть во сне, что я даю ему такой ответ: 1. что не имеет большого значения, устраняю ли я его сомнения или нет: там, где все лишь сон, рассуждения и доводы бесполезны, истина и знание ничто… существование тех вещей, которые он видит и чувствует. По крайней мере, тот, кто может сомневаться до сих пор (что бы он ни имел со своими собственными Мыслями), никогда не будет спорить со мной; так как он никогда не может быть уверен, что я говорю что-то вопреки его мнению. E IV.xi.3
По крайней мере, тот, кто может сомневаться до сих пор (что бы он ни имел со своими собственными Мыслями), никогда не будет спорить со мной; так как он никогда не может быть уверен, что я говорю что-то вопреки его мнению. E IV.xi.3
В этих пассажах Локк, кажется, предполагает, что скептик в некотором роде самоподрывает себя. Возвышая возможности, они как-то подрывают способность даже связно говорить о познании внешнего мира. Кит Аллен недавно разработал аргумент, который связывает представление о чувствительном знании как восприятии согласия между идеями, обсуждавшееся в разделе 2.4 выше, с этой линией антискептического ответа.
В разделе 2.4 рассматривается подход к согласованию локковского определения знания с чувственным знанием через локковскую категорию идей отражения. Согласно этому подходу, все наши идеи отмечены идеей отражения, которая говорит нам, какая из наших умственных способностей была ответственна за создание идеи в нашем уме в то время. Когда у нас есть чувственное переживание какого-либо объекта, такого как малиновый фонтан в первом разделе, наше представление об этом объекте согласуется с идеей действительного ощущения, которое само по себе согласуется с идеей реального существования.
Как понимает Локк виды скептических сомнений в вышеупомянутых отрывках, скептицизм сводится к сомнению в правдивости наших идей отражения. То есть радикальный скептицизм сводится к сомнению в том, что, когда идея малинового фонтана отпечатывается с идеей действительного ощущения, идея малинового фонтана действительно воспринимается через ощущение. Вместо этого идея может быть произведена в уме самим умом, вспоминающим или воображающим идею (без ведома самого себя). Однако идеи отражения дают нам единственный способ понять наш разум. У нас нет доступа к нашему уму или его деятельности, кроме как через идеи рефлексии. Следовательно, сомневаться в истинности идеи отражения — значит сомневаться в самой возможности даже говорить о такой деятельности разума, как знание. Таким образом, сомневаясь в том, что наши идеи рефлексии действительно говорят нам о деятельности ума, скептик делает бесполезными все разговоры о знании.
Когда Локк говорит, что не имеет значения, отвечает ли он скептику, Аллен утверждает, что он указывает на то, что аргументация скептика является самоподрывной. Цель скептика состоит в том, чтобы бросить вызов тому, обладаем ли мы тем знанием, которым, по нашему мнению, обладаем. Однако, вызывая сомнения в том, что они это делают, скептик подрывает их способность вообще говорить о знании. Не имея возможности говорить о знании, скептик делает те самые сомнения, которые они вызывают в знании, пустыми и бессмысленными.
Цель скептика состоит в том, чтобы бросить вызов тому, обладаем ли мы тем знанием, которым, по нашему мнению, обладаем. Однако, вызывая сомнения в том, что они это делают, скептик подрывает их способность вообще говорить о знании. Не имея возможности говорить о знании, скептик делает те самые сомнения, которые они вызывают в знании, пустыми и бессмысленными.
Сила этого ответа зависит от силы противостоящего скептицизма. Этот ответ адресован только самым радикальным из скептиков — скептикам, сомневающимся в том, что рефлективная идея ощущения вообще что-либо говорит нам о средствах, с помощью которых идея была произведена в уме. Такой скептик сомневается даже в связи между разумом и его мыслью. Менее радикальный скептик может просто предположить, что в каждом конкретном случае, когда вы думаете, что обладаете конфиденциальными знаниями, на самом деле это не так. Умеренный скептик такого рода просто заметил бы, что рефлективная идея ощущения не безошибочна, в лучшем случае надежна. Итак, бывают случаи, когда идея чувственного объекта запечатлевается рефлективной идеей ощущения, но на самом деле идея чувственного объекта не производится в уме через ощущение. Это более умеренное беспокойство не угрожает полностью подорвать нашу способность понимать собственный разум с помощью идей рефлексии, но, похоже, оно подрывает любой конкретный пример чувствительного знания. Не должно быть никакой разницы в идеях в вашем уме, когда вы смотрите в холл и видите малиновый фонтан, и когда вы галлюцинируете его. Вообще, правда, последнее не будет отпечатано рефлективной идеей ощущения, но при случае может быть. Насколько можно судить с собственной субъективной точки зрения, любой конкретный пример чувствительного знания может быть одним из ошибочных случаев. Таким образом, хотя мы не можем быть вообще ошибаемся относительно существования внешнего мира мы можем ошибаться в любом конкретном случае.
Итак, бывают случаи, когда идея чувственного объекта запечатлевается рефлективной идеей ощущения, но на самом деле идея чувственного объекта не производится в уме через ощущение. Это более умеренное беспокойство не угрожает полностью подорвать нашу способность понимать собственный разум с помощью идей рефлексии, но, похоже, оно подрывает любой конкретный пример чувствительного знания. Не должно быть никакой разницы в идеях в вашем уме, когда вы смотрите в холл и видите малиновый фонтан, и когда вы галлюцинируете его. Вообще, правда, последнее не будет отпечатано рефлективной идеей ощущения, но при случае может быть. Насколько можно судить с собственной субъективной точки зрения, любой конкретный пример чувствительного знания может быть одним из ошибочных случаев. Таким образом, хотя мы не можем быть вообще ошибаемся относительно существования внешнего мира мы можем ошибаться в любом конкретном случае.
д. Темы в «Ответах Локка на скептицизм»
Тема, вытекающая из антискептических аргументов Локка, — это то, каким образом локковское объяснение того, что значит иметь знание внешнего мира, отличается от того, как следует заниматься скептическими заботами. Индивидуумы могут обладать конфиденциальными знаниями, даже если они не могут опираться на аргументацию, которую сам Локк развивает в Эссе . Действительно, скептицизм ни в коем случае не опровергается и не оказывается ошибочным. Скорее, скептика оттесняют аргументами, поддерживающими вероятное мнение об ошибочности скептицизма. Локк делает это явным, когда речь заходит о его «одновременных причинах». Это причины, независимые от нашего чувствительного знания, а также неспособные доказать неправоту скептика. Другие линии антискептической аргументации Локка несут ту же тему.
Индивидуумы могут обладать конфиденциальными знаниями, даже если они не могут опираться на аргументацию, которую сам Локк развивает в Эссе . Действительно, скептицизм ни в коем случае не опровергается и не оказывается ошибочным. Скорее, скептика оттесняют аргументами, поддерживающими вероятное мнение об ошибочности скептицизма. Локк делает это явным, когда речь заходит о его «одновременных причинах». Это причины, независимые от нашего чувствительного знания, а также неспособные доказать неправоту скептика. Другие линии антискептической аргументации Локка несут ту же тему.
Утверждение Локка о том, что скептик не может сомневаться в своих чувствах на практике, подчеркивает, что даже тот, кто привержен скептическим сомнениям, обладает чувствительным знанием. Сила этого ответа, однако, основывается на заявлениях о фундаментальной природе и назначении наших познавательных способностей, которые кажутся выходящими за рамки знания. Наконец, заявление о том, что радикальный скептик подрывает сам себя, также отделяет обладание чувствительным знанием от антискептической аргументации. Даже радикальный скептик в этом аргументе не так уж опровергнут через reductio ad absurdum аргумент, поскольку она отброшена как бессвязная или не заслуживающая серьезного внимания.
Даже радикальный скептик в этом аргументе не так уж опровергнут через reductio ad absurdum аргумент, поскольку она отброшена как бессвязная или не заслуживающая серьезного внимания.
Вторая тема в антискептической аргументации Локка заключается в том, что его основной упор делается просто на внешнее или отличное от нашего разума чувственных объектов. Скептик Локк на страницах «Эссе » — это тот, кто предполагает, что то, что кажется чувственным опытом, на самом деле не что иное, как продукт нашего собственного разума в виде сновидения или простого воображения. Таким образом, даже если Локку удастся опровергнуть беспокойство о том, что сам разум несет ответственность за свои сенсорные переживания, неясно, насколько далеко это заведет его по сравнению с другими соседними беспокойствами.
Например, ответы Локка скептику, похоже, не позволяют нам узнать даже о том, что существует отчетливо физический , а не просто внешний мир. Чтобы оценить этот вопрос и ту тонкую грань, которую пытается провести Локк, рассмотрим три утверждения, которых придерживается Локк. Во-первых, мы не можем знать фундаментальную природу любых вещей, даже природу нашего собственного ума. Во-вторых, мы знаем о существовании вещей, отличных от нашего разума. В-третьих, мы познаем существование физических объектов (тел) посредством ощущения. Эти три утверждения заключают в себе неприятие Локком картезианского понимания мира и нашего знания о нем. С картезианской точки зрения мы не только знаем о существовании внешнего мира, но также знаем его фундаментальную природу. Локк, тем не менее, признает, что мы знаем, что тела существуют отдельно от нашего собственного разума как мыслящих вещей. Трудность осмысления взглядов Локка можно подчеркнуть, рассмотрев позицию Локка по отношению к идеалистической метафизике. Неясно, например, каким образом позиция, которую отстаивает Локк, отстаивая эти три утверждения, несовместима с идеалистической метафизикой — такой, как у Беркли, — которая придает отдельным физическим объектам существование, внешнее и независимое от любого конкретного конечного разума.
Во-первых, мы не можем знать фундаментальную природу любых вещей, даже природу нашего собственного ума. Во-вторых, мы знаем о существовании вещей, отличных от нашего разума. В-третьих, мы познаем существование физических объектов (тел) посредством ощущения. Эти три утверждения заключают в себе неприятие Локком картезианского понимания мира и нашего знания о нем. С картезианской точки зрения мы не только знаем о существовании внешнего мира, но также знаем его фундаментальную природу. Локк, тем не менее, признает, что мы знаем, что тела существуют отдельно от нашего собственного разума как мыслящих вещей. Трудность осмысления взглядов Локка можно подчеркнуть, рассмотрев позицию Локка по отношению к идеалистической метафизике. Неясно, например, каким образом позиция, которую отстаивает Локк, отстаивая эти три утверждения, несовместима с идеалистической метафизикой — такой, как у Беркли, — которая придает отдельным физическим объектам существование, внешнее и независимое от любого конкретного конечного разума. Позиция Декарта, напротив, резко контрастирует с метафизикой Беркли. Таким образом, хотя ответ Локка скептику может иметь вес против того, кто отрицает существование внешнего мира, гораздо труднее понять, как Локк может утверждать, что мы знаем физических объектов для существования. Удовлетворительное решение этого вопроса для Локка выводит нас за рамки этой статьи и приводит к распутыванию отношений между тем, что Локк называет номинальными сущностями, реальными сущностями и субстанцией.
Позиция Декарта, напротив, резко контрастирует с метафизикой Беркли. Таким образом, хотя ответ Локка скептику может иметь вес против того, кто отрицает существование внешнего мира, гораздо труднее понять, как Локк может утверждать, что мы знаем физических объектов для существования. Удовлетворительное решение этого вопроса для Локка выводит нас за рамки этой статьи и приводит к распутыванию отношений между тем, что Локк называет номинальными сущностями, реальными сущностями и субстанцией.
4. Заключение
Обсуждение Локком познания внешнего мира приводит нас к столкновению со многими центральными темами философии Локка. Локк мыслит знание внешнего мира как чувственное знание реального существования. То есть это знание того, что некий объект существует отдельно от нашего ума и воздействует на наш ум, производя в нем определенные идеи. Это знание достигается через чувственный опыт. Это не результат размышлений над идеями, которые уже есть в нашем уме, и не результат дедуктивных рассуждений, исходящих из каких-то предпосылок.
Объединение чувствительного знания с более широкой эпистемологией Локка — непростая задача. Локковское определение знания, по-видимому, делает все знание априорным , но знание внешнего мира явно , а не априорное знание, как знание математических истин — даже с точки зрения самого Локка. Это эмпирическое знание, полученное на опыте. Тем не менее Локк настаивает на том, что у нас есть чувствительное знание. Попытки понять место чувствительного знания в эпистемологии Локка в целом приводят к исследованию не только важных вопросов, касающихся его определения знания, например, действительно ли оно делает все знание а априори — но также и его философия разума и объяснения репрезентации и ментального содержания. Действительно, усилия по этим вопросам привели к очень радикальному переосмыслению всей философии Локка, например к попытке Йолтона понять локковскую теорию восприятия в терминах непосредственного восприятия.
Наконец, описание чувствительного знания Локком тесно связано с его ответом на скептицизм, но существенно отличается от него. Локк не считает, что конкретные случаи чувствительного знания — например, когда вы знаете, что бумага (или экран), с которой вы читаете, — зависят от способности победить скептические сомнения. В самом деле, Локк, кажется, не думает, что скептика можно полностью победить или демонстративно доказать его неправоту. Скорее, скептические опасения можно отбросить, используя вероятные аргументы, воплощенные в доводах Локка, параллельных чувствительным знаниям. Наша пассивность в ощущении и когерентность нашего ощущения, кажется, требуют объяснения. Лучшим объяснением, по-видимому, считает Локк, хотя он и не приводит явных аргументов в пользу этого, является существование внешнего мира. Локк отвергает другие формы скептицизма либо как основанные на неприемлемых предположениях, либо как содержащие семена собственной непоследовательности. В конечном счете, ни один из антискептических аргументов Локка вряд ли убедит закоренелого скептика. Но в этой неудаче Локк, конечно, не одинок даже среди других канонических фигур в истории философии.
Локк не считает, что конкретные случаи чувствительного знания — например, когда вы знаете, что бумага (или экран), с которой вы читаете, — зависят от способности победить скептические сомнения. В самом деле, Локк, кажется, не думает, что скептика можно полностью победить или демонстративно доказать его неправоту. Скорее, скептические опасения можно отбросить, используя вероятные аргументы, воплощенные в доводах Локка, параллельных чувствительным знаниям. Наша пассивность в ощущении и когерентность нашего ощущения, кажется, требуют объяснения. Лучшим объяснением, по-видимому, считает Локк, хотя он и не приводит явных аргументов в пользу этого, является существование внешнего мира. Локк отвергает другие формы скептицизма либо как основанные на неприемлемых предположениях, либо как содержащие семена собственной непоследовательности. В конечном счете, ни один из антискептических аргументов Локка вряд ли убедит закоренелого скептика. Но в этой неудаче Локк, конечно, не одинок даже среди других канонических фигур в истории философии.
5. Ссылки и дополнительная литература
a. Первичные тексты
- Локк, Джон. Эссе о человеческом понимании (изд. Питер Ниддич). Издательство Оксфордского университета, 1975.
- Это стандартное научное издание Эссе . Он включает в себя редакционную систему, чтобы отметить исправления, внесенные в Эссе с первого по шестое издания Эссе , а также ссылки на перевод Эссе на французском языке Пьера Косте .
- Локк, Джон. Работы Джона Локка (изд. Томас Тегг), 1823 г.
- Коллекция состоит из девяти томов и включает письма и переписку Локка по многим темам, от философии до экономики и религии. Наиболее важным для этой записи является переписка Локка со Стиллингфлитом в четвертом томе.
б. Дополнительная литература
Записи упорядочены по темам, включая контекст их упоминания в этой записи.
и. Чувствительное знание как несовместимое с определением знания Локка
- Woolhouse, Roger. «Теория познания Локка», The Cambridge Companion to Locke , изд. Вер Чаппелл, с. 146-171. Издательство Кембриджского университета, 1994.
- Это очень доступная статья об эпистемологии Локка . Вулхаус тратит время на вступление, развивая явную несовместимость между конфиденциальным знанием и определением знания.
- Джолли, Николас. Локк . Издательство Оксфордского университета, 1999.
- Книга Джолли представляет собой краткое и доступное введение ко всей мысли Локка . В книге Джолли не только развивает аргумент о том, что чувствительное знание несовместимо с теорией познания Локка , но и более широкий тезис о том, что эпистемология, которую Локк развивает в Книге IV Эссе , несовместима с эмпирической философией разума и языка. развита в первых трех книгах Эссе.

- Книга Джолли представляет собой краткое и доступное введение ко всей мысли Локка . В книге Джолли не только развивает аргумент о том, что чувствительное знание несовместимо с теорией познания Локка , но и более широкий тезис о том, что эпистемология, которую Локк развивает в Книге IV Эссе , несовместима с эмпирической философией разума и языка. развита в первых трех книгах Эссе.
ii. Чувствительные знания и семантика идей
- Айерс, Майкл. Локк: эпистемология и онтология . Рутледж. 1993 г.
- Книга Айерса — одна из самых влиятельных книг в недавних исследованиях Локка и охватывает всю метафизику и эпистемологию Локка . Во многих местах Айерс пытается провести связь между взглядами Локка и современными взглядами и проблемами философии. Это обязательная книга для всех, кто интересуется Locke 9.Теоретическая философия 0004 . Он также содержит формирование представления о пустом эффекте семантики простых идей и объяснение того, как представление о пустом эффекте может помочь понять утверждения Локка о чувствительном знании.
- Болтон, Марта. «Локк о семантической и эпистемической роли простых идей ощущения», Pacific Philosophical Quarterly , Vol. 85, вып. 3, с. 301-321. 2004.
- Болтон 9Статья 0003 является очень ясным развитием связи между эпистемическими и семантическими особенностями простых идей ощущения, упомянутых в разделе 2.
 3. Она также напрямую затрагивает и обсуждает «пустой эффект » точку зрения Айерс.
3. Она также напрямую затрагивает и обсуждает «пустой эффект » точку зрения Айерс.
- Болтон 9Статья 0003 является очень ясным развитием связи между эпистемическими и семантическими особенностями простых идей ощущения, упомянутых в разделе 2.
- Отт, Уолтер. «Что такое теория репрезентации Локка?» British Journal for the History of Philosophy , Vol. 20, вып. 6, с.1077-1095. 2012.
- Отт — ведущий исследователь Локка 9.Теория репрезентации 0004 как в уме, так и в языке. Эта статья 2012 года является хорошим введением высокого уровня в вопросы, связанные с теорией репрезентации Локка , и подробно описывает некоторые из возможных способов понимания экстерналистского содержания идей Локка .
iii. Чувствительное знание как соглашение между идеями
- Аллен, Кит. «Локк и чувствительное знание», Journal of the History of Philosophy , Том. 51, вып.2, с.249-266. 2013.
- Статья Аллена примечательна не только четким объяснением того, каким образом конфиденциальное знание может быть совместимо с определением знания, данным Локком , но также очень глубоким обсуждением того, как это объяснение знания дает Локку мощный ответ радикальному скептику.

- Статья Аллена примечательна не только четким объяснением того, каким образом конфиденциальное знание может быть совместимо с определением знания, данным Локком , но также очень глубоким обсуждением того, как это объяснение знания дает Локку мощный ответ радикальному скептику.
- Нагель, Дженнифер. «Чувствительное знание: Локк о скептицизме и ощущении».
- Статья Нагеля уже некоторое время находится в Интернете. После разработки описания чувствительного знания, аналогичного описанию Аллена , Нагель дает подробный отчет о том, как Локк развивает мысль о том, что скептик не может сомневаться в своих чувствах на практике. Нагель также предоставляет полезный исторический контекст, объясняющий, почему Локк счел такой ответ скептику могущественным в свете того скептицизма, который был популярен в конце 17 века.
- Ньюман, Лекс. «Локк о чувственном знании и завесе восприятия — четыре заблуждения», Pacific Philosophical Quarterly , Vol. 85, выпуск 3, 273-300. 2004.
- Статья Ньюмана о чувствительном знании представляет собой тщательный и методичный взгляд на то, как чувствительное знание совместимо не только с определением знания, данным Локком , но и с приписыванием Локку репрезентативной (а не прямой) теории восприятие.
 Ньюман 9Статья 0004 также содержит очень подробный аргумент в пользу «между идеями » формулировки Локка определения знания, упомянутого выше в разделе 2.1.
Ньюман 9Статья 0004 также содержит очень подробный аргумент в пользу «между идеями » формулировки Локка определения знания, упомянутого выше в разделе 2.1.
- Статья Ньюмана о чувствительном знании представляет собой тщательный и методичный взгляд на то, как чувствительное знание совместимо не только с определением знания, данным Локком , но и с приписыванием Локку репрезентативной (а не прямой) теории восприятие.
- Ньюман, Лекс. «Локк о знании», The Cambridge Companion to Locke s «Эссе о человеческом понимании», ‘ ed. Лекс Ньюман, 313–351. Издательство Кембриджского университета, 2007.
- Ньюман 9Общая статья 0004 о знании является очень доступной точкой входа в более широкую эпистемологию Локка . Он завершается более коротким и легко усваиваемым изложением точки зрения на конфиденциальное знание, разработанной в статье 2004 г. выше.
iv. Локк и прямое восприятие
- Йолтон, Джон. Локк и компас человеческого понимания. Издательство Кембриджского университета, 1970.
- Книга Йолтона содержит некоторые из самых ранних и ясных попыток разработать интерпретацию Эссе, основанную на прямом восприятии.
 Йолтон также в этой книге развивает интерпретацию Локка определяет знание как согласие между идеей и чем-то еще, не обязательно идеей. Соединяя эти два пункта вместе, Йолтон утверждает, что секретные знания идеально вписываются в определение Локка знания .
Йолтон также в этой книге развивает интерпретацию Локка определяет знание как согласие между идеей и чем-то еще, не обязательно идеей. Соединяя эти два пункта вместе, Йолтон утверждает, что секретные знания идеально вписываются в определение Локка знания .
- Книга Йолтона содержит некоторые из самых ранних и ясных попыток разработать интерпретацию Эссе, основанную на прямом восприятии.
- Леннон, Томас. «Сквозь темное стекло: больше о логике идей Локка», Pacific Philosophical Quarterly , Vol. 85, вып. 3, с. 301-321. 2004.
- Леннон, Томас. «Логика идей и логика вещей: ответ Чаппеллу», Pacific Philosophical Quarterly , Vol. 85, вып. 3, с. 356-360. 2004.
- Леннон, Томас. «Локк об идеях и репрезентации», Cambridge Companion to Locke «Эссе о человеческом понимании», изд. Лекс Ньюман, 231–257. Издательство Кембриджского университета, 2007.
- Все три статьи Леннона очень подробно разрабатывают как текстовые, так и философские случаи интерпретации Локка прямым восприятием 9Теория идей 0004 .
 Статья 2007 года из Cambridge Companion является наиболее доступной из всех и содержит некоторые из самых прямых возражений против теории.
Статья 2007 года из Cambridge Companion является наиболее доступной из всех и содержит некоторые из самых прямых возражений против теории.
- Все три статьи Леннона очень подробно разрабатывают как текстовые, так и философские случаи интерпретации Локка прямым восприятием 9Теория идей 0004 .
v. Конфиденциальное знание как гарантия
- Риклесс, Сэмюэл. «Является ли теория познания Локка непоследовательной?» Философия и феноменологические исследования , Vol. 7, вып. 1, с. 83-104. 2008.
- Риклесс, Сэмюэл. «Чувствительное знание» Локка: знание или уверенность?0003 Оксфордские исследования философии раннего Нового времени , Vol. 7. Готовится.
- Риклесс ’ статьи обеспечивают устойчивый, тщательный и творческий аргумент в пользу того, что Локк на самом деле не считает чувствительное знание разновидностью знания. Риклесс обеспечивает как текстовую, так и философскую мотивацию своей интерпретации. Вторая, готовящаяся к публикации статья посвящена некоторым критическим замечаниям, высказанным в адрес его точки зрения Алленом, Нагелем и Оуэном.

- Риклесс ’ статьи обеспечивают устойчивый, тщательный и творческий аргумент в пользу того, что Локк на самом деле не считает чувствительное знание разновидностью знания. Риклесс обеспечивает как текстовую, так и философскую мотивацию своей интерпретации. Вторая, готовящаяся к публикации статья посвящена некоторым критическим замечаниям, высказанным в адрес его точки зрения Алленом, Нагелем и Оуэном.
- Оуэн, Дэвид. «Локк о чувствительном знании».
- Это неопубликованная рукопись Дэвида Оуэна, ведущего исследователя философии раннего Нового времени. Эта статья является доступным аргументом против толкования гарантии Rickless .
VI. Представление Локка о знании как анализе
- Маттерн, Рут. «Локк: «Наше знание, которое все состоит в предположениях». Canadian Journal of Philosophy , Том 8, 677-695. 1978. Перепечатано в Locke , изд. Вер Чаппелл, с. 266-241. Издательство Оксфордского университета, 1998.
- Статья Маттерна знаменует собой важную первую попытку понять определение Локка как совместимое с чувственным знанием на том основании, что определение знания — это просто утверждение, что знание — это постижение истинности предложения в Терминология идей Essay .
- Подошвы, Дэвид. «Локк о знании и предложениях», Philosophical Topics , Vol.
 13, вып. 2, с.19-29. 1985.
13, вып. 2, с.19-29. 1985. - Подошвы, Дэвид. «Эмпиризм Локка и постулирование ненаблюдаемых», Journal of the History of Philosophy , Vol. 23, вып. 3, с. 339-369. 1985.
- Обе статьи Soles ’, но особенно первая из перечисленных выше, очень четко артикулируют разницу между предложением анализа знания и определением знания посредством описания предмета знания. Соулс четко формулирует различие и то, как понимание Локка 9Определение знания как анализа в 0004 делает его явно совместимым с секретным знанием.
vii. Чувствительные знания и скептицизм
- Вайнберг, Шелли. «Ответ Локка скептику», Pacific Philosophical Quarterly , Vol. 94, вып.3, с.389-420. 2013.
- Статья Вайнберга развивает особый способ, которым чувствительное знание не является выводным. В свете невыводимости чувствительного знания Вайнберг продолжает обсуждение путей ответа, открытых Локку.
viii.
 Дополнительная литература
Дополнительная литератураТем, кто еще интересуется темами Локка о восприятии или чувствительных знаниях, стоит прочитать специальный выпуск Pacific Philosophical Quarterly под редакцией Вера Чаппелла на тему локковской завесы восприятия. Несколько статей выше взяты из этого издания — том 85, выпуск 3. Какой год? В дополнение к статьям, перечисленным выше, есть введение в том и комментарий к каждой статье Вера Чаппелла.
- Болтон, Марта, «Таксономия идей в эссе Локка », The Cambridge Companion to Locke s «Эссе о человеческом понимании», ’ ed. Лекс Ньюман, 67–100 лет. Издательство Кембриджского университета, 2007.
- Доступное общее введение в теорию идей Локка. При обсуждении локковского описания репрезентативного содержания идей было отмечено, что Локк считает модусы и отношения зависимыми от сознания. Чтобы узнать больше о различии между простыми идеями и идеями-субстанциями, с одной стороны, и идеями модусов и отношений, с другой, полезно взглянуть на обсуждение Локком того, что он называет реальностью, адекватностью и истинностью идей.

- Доступное общее введение в теорию идей Локка. При обсуждении локковского описания репрезентативного содержания идей было отмечено, что Локк считает модусы и отношения зависимыми от сознания. Чтобы узнать больше о различии между простыми идеями и идеями-субстанциями, с одной стороны, и идеями модусов и отношений, с другой, полезно взглянуть на обсуждение Локком того, что он называет реальностью, адекватностью и истинностью идей.
- Стюарт, Мэтью. Локк Метафизика . Издательство Оксфордского университета, 2013.
- Для тех, кто интересуется метафизикой Локка, включая зависимость модусов и отношений от разума, недавняя работа с исключительной способностью привносить современные аналитические инструменты в философию Локка.
- Ньюман, Лекс (редактор). The Cambridge Companion to Locke «Эссе о человеческом понимании». ’ Издательство Кембриджского университета, 2007.
- Общий обзор нескольких тем теоретической философии Локка, включая несколько статей, относящихся к локковскому обсуждению номинальной сущности, реальной сущности и субстанции. Статьи Эда Макканна, Маргарет Атертон, Майкла Лосонски и Лизы Даунинг особенно актуальны для вопросов о том, как Локк может осмыслить утверждение о том, что существует физический мир, внешний по отношению к нашему разуму и отличный от него.
Информация об авторе
Мэтью Приселак
Электронная почта: mdpriselac@ou. edu
edu
Университет Оклахомы
США
Locke, John | Интернет-энциклопедия философии
Джон Локк был одним из самых известных философов и политических теоретиков 17 го века. Его часто считают основателем школы мысли, известной как британский эмпиризм, и он внес фундаментальный вклад в современные теории ограниченного либерального правительства. Он также оказал влияние в области теологии, религиозной терпимости и теории образования. В своей наиболее важной работе Эссе о человеческом понимании Локк намеревался предложить анализ человеческого разума и приобретения им знаний. Он предложил эмпирическую теорию, согласно которой мы приобретаем идеи через наше восприятие мира. Затем разум способен исследовать, сравнивать и комбинировать эти идеи множеством различных способов. Знание состоит из особого рода отношений между различными идеями. Акцент, сделанный Локком на философском исследовании человеческого разума как на предварительном этапе философского исследования мира и его содержания, представляет собой новый подход к философии, который быстро завоевал ряд новообращенных, особенно в Великобритании. Помимо этого более широкого проекта, Эссе содержит серию более сфокусированных дискуссий по важным и широко расходящимся философским темам. В политике Локк наиболее известен как сторонник ограниченного правительства. Он использует теорию естественных прав, чтобы доказать, что правительства имеют обязательства перед своими гражданами, имеют лишь ограниченную власть над своими гражданами и в конечном итоге могут быть свергнуты гражданами при определенных обстоятельствах. Он также привел убедительные аргументы в пользу религиозной терпимости. В этой статье делается попытка дать общий обзор всех ключевых направлений мысли Локка.
Помимо этого более широкого проекта, Эссе содержит серию более сфокусированных дискуссий по важным и широко расходящимся философским темам. В политике Локк наиболее известен как сторонник ограниченного правительства. Он использует теорию естественных прав, чтобы доказать, что правительства имеют обязательства перед своими гражданами, имеют лишь ограниченную власть над своими гражданами и в конечном итоге могут быть свергнуты гражданами при определенных обстоятельствах. Он также привел убедительные аргументы в пользу религиозной терпимости. В этой статье делается попытка дать общий обзор всех ключевых направлений мысли Локка.
Содержание
- Жизнь и творчество
- Основной проект Эссе
- Идеи
- Критика нативизма
- Приобретение идеи
- Язык
- Отчет о знаниях
- Специальные темы в эссе
- Первичные и вторичные качества
- Механизм
- Воля и Агентство
- Личность и личность
- Настоящие и номинальные эссенции
- Религиозная эпистемология
- Политическая философия
- Два трактата
- Свойство
- Терпимость
- Богословие
- Образование
- Влияние Локка
- Ссылки и дополнительная литература
- Работы Локка
- Рекомендуемое чтение
1.
 Жизнь и творчество
Жизнь и творчествоДжон Локк родился в 1632 году в Рингтоне, маленькой деревушке на юго-западе Англии. Его отец, которого также звали Джон, был судебным клерком и служил в парламентских силах во время Гражданской войны в Англии. Его семья была зажиточной, но не имела особенно высокого социального или экономического положения. Локк провел свое детство в Вест-Кантри, а подростком был отправлен в Вестминстерскую школу в Лондоне.
Локк был успешным в Вестминстере и получил место в Крайст-Черч, Оксфорд. Он должен был оставаться в Оксфорде с 1652 по 1667 год. Хотя он мало ценил традиционную схоластическую философию, которую изучал там, Локк был успешным студентом и после получения степени бакалавра занимал ряд административных и академических должностей в колледже. В некоторые обязанности Локка входило обучение студентов. Одна из его самых ранних существенных работ, 90 530 Очерков о Законе Природы , был разработан в ходе его преподавательской деятельности. Большая часть интеллектуальных усилий и энергии Локка во время его пребывания в Оксфорде, особенно в последние годы его пребывания там, была посвящена изучению медицины и натурфилософии (то, что мы сейчас назвали бы наукой). Локк много читал в этих областях, участвовал в различных экспериментах и познакомился с Робертом Бойлем и многими другими известными естествоиспытателями. Он также прошел обычный курс обучения и подготовки, чтобы стать врачом.
Локк много читал в этих областях, участвовал в различных экспериментах и познакомился с Робертом Бойлем и многими другими известными естествоиспытателями. Он также прошел обычный курс обучения и подготовки, чтобы стать врачом.
Локк уехал из Оксфорда в Лондон в 1667 году, где он привязался к семье Энтони Эшли Купера (тогда лорда Эшли, позже графа Шефтсбери). Локк, возможно, играл несколько ролей в домашнем хозяйстве, скорее всего, он был наставником сына Эшли. В Лондоне Локк продолжал заниматься медициной и натурфилософией. Он установил тесные рабочие отношения с Томасом Сиденхамом, который впоследствии стал одним из самых известных врачей того времени. Он установил ряд контактов в недавно созданном Королевском обществе и стал его членом в 1668 году. Он также был личным врачом лорда Эшли. Действительно, однажды Локк участвовал в очень деликатной хирургической операции, которая, по мнению Эшли, спасла ему жизнь. Эшли был одним из самых видных английских политиков того времени. Благодаря его покровительству Локк смог занять ряд государственных постов. Большая часть его работы связана с политикой в американских и карибских колониях Англии. Что наиболее важно, это был период в жизни Локка, когда он начал проект, кульминацией которого стала его самая известная работа, Эссе о человеческом понимании . Два самых ранних наброска этой работы датируются 1671 годом. Он должен был продолжать работу над этим проектом с перерывами в течение почти двадцати лет.
Благодаря его покровительству Локк смог занять ряд государственных постов. Большая часть его работы связана с политикой в американских и карибских колониях Англии. Что наиболее важно, это был период в жизни Локка, когда он начал проект, кульминацией которого стала его самая известная работа, Эссе о человеческом понимании . Два самых ранних наброска этой работы датируются 1671 годом. Он должен был продолжать работу над этим проектом с перерывами в течение почти двадцати лет.
Локк несколько лет путешествовал по Франции, начиная с 1675 года. Когда он вернулся в Англию, это было всего на несколько лет. Политическая сцена сильно изменилась за время отсутствия Локка. Шефтсбери (так теперь называли Эшли) был в немилости, и связь Локка с ним стала обузой. Примерно в это же время Локк написал свою самую известную политическую работу «9-й век».0530 Два трактата о правительстве . Хотя Два трактата не будут опубликованы до 1689 года, они показывают, что он уже укрепил свои взгляды на природу и правильную форму правления. После смерти Шефтсбери Локк бежал в Нидерланды, спасаясь от политических преследований. Находясь там, Локк много путешествовал (иногда в целях собственной безопасности) и работал над двумя проектами. Сначала он продолжил работу над Эссе . Во-вторых, он написал работу под названием Epistola de Tolerantia , который был опубликован анонимно в 1689 году. Опыт Локка в Англии, Франции и Нидерландах убедил его в том, что правительства должны быть гораздо более терпимыми к религиозному разнообразию, чем это было принято в то время.
После смерти Шефтсбери Локк бежал в Нидерланды, спасаясь от политических преследований. Находясь там, Локк много путешествовал (иногда в целях собственной безопасности) и работал над двумя проектами. Сначала он продолжил работу над Эссе . Во-вторых, он написал работу под названием Epistola de Tolerantia , который был опубликован анонимно в 1689 году. Опыт Локка в Англии, Франции и Нидерландах убедил его в том, что правительства должны быть гораздо более терпимыми к религиозному разнообразию, чем это было принято в то время.
После Славной революции 1688-1689 годов Локк смог вернуться в Англию. Он опубликовал как Эссе , так и Два трактата (второй анонимно) вскоре после своего возвращения. Сначала он остался в Лондоне, но вскоре переехал в дом Фрэнсиса и Дамарис Машам в небольшой деревне Оутс, Эссекс. Дамарис Машам, дочь известного философа по имени Ральф Кадворт, познакомилась с Локком за несколько лет до этого. У них сложилась очень близкая дружба, которая продлилась до смерти Локка. В этот период Локк был занят работой над политикой, терпимостью, философией, экономикой и теорией образования.
В этот период Локк был занят работой над политикой, терпимостью, философией, экономикой и теорией образования.
В течение своей жизни Локк участвовал в ряде споров, в том числе в известном конфликте с Джонасом Проастом по поводу терпимости. Но самая известная и философски важная полемика Локка была с Эдвардом Стиллингфлитом, епископом Вустера. Стиллингфлит, помимо того, что он был влиятельной политической и теологической фигурой, был проницательным и сильным критиком. Двое мужчин обсудили ряд позиций в эссе в серии опубликованных писем.
В последние годы своей жизни Локк много внимания уделял богословию. Его основная работа в этой области была Разумность христианства , опубликованная (опять же анонимно) в 1695 году. Эта работа вызвала споры, поскольку Локк утверждал, что многие верования, которые традиционно считались обязательными для христиан, не нужны. Локк выступал за в высшей степени экуменическую форму христианства. Ближе ко времени своей смерти Локк написал работу о Посланиях Павла. Работа была незаконченной, но опубликована посмертно. К этому времени относится и небольшой труд о чудесах, опубликованный посмертно.
Работа была незаконченной, но опубликована посмертно. К этому времени относится и небольшой труд о чудесах, опубликованный посмертно.
Локк страдал от проблем со здоровьем большую часть своей взрослой жизни. В частности, у него были респираторные заболевания, которые усугубились его визитами в Лондон, где качество воздуха было очень плохим. В 1704 году его здоровье ухудшилось, и он становился все более слабым. Он умер 28 октября 1704 года, когда Дамарис Машам читал ему псалмы. Он был похоронен в Хай-Лейвере, недалеко от Оутса. Он написал свою собственную эпитафию, скромную и откровенную.
2. Основной проект 9-го0003 Эссе
Согласно собственному рассказу Локка, мотивация для написания Эссе пришла к нему во время обсуждения не относящейся к делу темы с друзьями. Он сообщает, что им удалось немного продвинуться в этом вопросе и что они очень быстро столкнулись с рядом недоразумений и трудностей. Локк понял, что для достижения прогресса в этой теме необходимо сначала изучить нечто более фундаментальное: человеческое понимание. Было «необходимо изучить наши собственные Способности и увидеть, с какими объектами наше понимание было или не было приспособлено иметь дело». ( Послание , 7).
Было «необходимо изучить наши собственные Способности и увидеть, с какими объектами наше понимание было или не было приспособлено иметь дело». ( Послание , 7).
Локк пришел к выводу, что прежде чем мы сможем анализировать мир и свой доступ к нему, мы должны кое-что узнать о себе. Нам нужно знать, как мы приобретаем знания. Нам также необходимо знать, к каким областям исследования мы хорошо подходим, а какие эпистемически закрыты для нас, то есть какие области таковы, что мы не могли бы их знать даже в принципе. Нам также необходимо знать, в чем состоит знание.0531 Локк пишет, что это его « Цель исследовать Исходность, Достоверность и Объем человеческого Знания; вместе с Основаниями и Степенями Веры, Мнения и Согласия». (1.1.2, 42). Локк считает, что только когда мы понимаем свои когнитивные способности, мы можем надлежащим образом направлять наши исследования в мире. Возможно, именно это имел в виду Локк, когда заявлял, что частью его амбиций в Эссе было стать «младшим рабочим», расчищающим землю и закладывающим основы для работ известных ученых, таких как Роберт Бойль и Исаак. Ньютон.
Ньютон.
Эссе состоит из четырех книг, каждая из которых способствует достижению общей цели Локка по изучению человеческого разума в отношении его содержимого и операций. В Книге I Локк исключает один из возможных источников нашего знания. Он утверждает, что наши знания не могут быть врожденными. Так начинается Книга II, в которой Локк утверждает, что все наши идеи исходят из опыта. В этой книге он пытается объяснить, как даже такие идеи, как Бог, бесконечность и пространство, могли быть получены благодаря нашему перцептивному доступу к миру и нашим умственным операциям. Книга III представляет собой своего рода отступление, поскольку Локк обращает свое внимание на язык и на роль, которую он играет в нашем теоретизировании. Основная цель Локка здесь — предостеречь, он считает, что язык часто является препятствием для понимания, и предлагает некоторые рекомендации, чтобы избежать путаницы. Наконец, в Книге IV обсуждаются знания, убеждения и мнения. Локк утверждает, что знание состоит из особых видов отношений между идеями и что мы должны соответствующим образом регулировать наши убеждения.
а. Идеи
Первая глава Эссе содержит извинения за частое использование слова «идея» в книге. Согласно Локку, идеи являются фундаментальными единицами ментального содержания и поэтому играют неотъемлемую роль в его объяснении человеческого разума и его описании нашего знания. Локк был не первым философом, отводившим идеям центральную роль; Декарт, например, в значительной степени полагался на них при объяснении человеческого разума. Но выяснение того, что именно Локк имеет в виду под «идеей», привело к спорам среди комментаторов.
Начать можно с собственного определения Локка. Он утверждает, что под «идеей» он понимает «все, что является объектом понимания, когда человек думает… все, что подразумевается под Фантазмом, понятием, видом или чем бы то ни было, о чем можно использовать Разум, размышляя». ». (1.1.8, 47). Это определение полезно, поскольку оно вновь подтверждает центральную роль, которую идеи играют в трактовке понимания Локком. Идеи — это единственные сущности, над которыми работает наш разум. Однако определение Локка бесполезно, поскольку оно содержит двусмысленность. При одном чтении идеи являются умственными объектов . Мысль состоит в том, что когда агент воспринимает объект внешнего мира, например яблоко, в его сознании присутствует некая вещь , представляющая это яблоко. Итак, когда агент рассматривает яблоко, на самом деле он думает об идее об этом яблоке. В другом прочтении идеи — это умственные 90 530 действия 90 531. Мысль здесь состоит в том, что когда агент воспринимает яблоко, он на самом деле воспринимает яблоко прямым, неопосредованным образом. Идея — это умственный акт установления перцептивного контакта с объектом внешнего мира. В последние годы большинство комментаторов приняли первое из этих двух прочтений. Но эта дискуссия будет важна при обсуждении знания ниже.
Идеи — это единственные сущности, над которыми работает наш разум. Однако определение Локка бесполезно, поскольку оно содержит двусмысленность. При одном чтении идеи являются умственными объектов . Мысль состоит в том, что когда агент воспринимает объект внешнего мира, например яблоко, в его сознании присутствует некая вещь , представляющая это яблоко. Итак, когда агент рассматривает яблоко, на самом деле он думает об идее об этом яблоке. В другом прочтении идеи — это умственные 90 530 действия 90 531. Мысль здесь состоит в том, что когда агент воспринимает яблоко, он на самом деле воспринимает яблоко прямым, неопосредованным образом. Идея — это умственный акт установления перцептивного контакта с объектом внешнего мира. В последние годы большинство комментаторов приняли первое из этих двух прочтений. Но эта дискуссия будет важна при обсуждении знания ниже.
б. Критика нативизма
Первая из четырех книг Эссе посвящена критике нативизма, доктрины, согласно которой некоторые идеи врождены человеческому разуму, а не получены в результате опыта. Точно неясно, кто является целью Локка в этой книге, хотя Локк цитирует Герберта Черберийского и других вероятных кандидатов, включая Рене Декарта, кембриджских платоников и ряд менее известных англиканских теологов. Однако поиск конкретных целей может быть не таким уж важным, учитывая, что многое из того, что Локк пытается сделать в Книге I, — это мотивировать и сделать правдоподобным альтернативное описание приобретения идей, которое он предлагает в Книге II.
Точно неясно, кто является целью Локка в этой книге, хотя Локк цитирует Герберта Черберийского и других вероятных кандидатов, включая Рене Декарта, кембриджских платоников и ряд менее известных англиканских теологов. Однако поиск конкретных целей может быть не таким уж важным, учитывая, что многое из того, что Локк пытается сделать в Книге I, — это мотивировать и сделать правдоподобным альтернативное описание приобретения идей, которое он предлагает в Книге II.
Нативистская точка зрения, на которую Локк нападает в Книге I, утверждает, что у людей есть ментальное содержание, которое является врожденным для разума. Это означает, что существуют определенные идеи (единицы психического содержания), которые не были ни приобретены через опыт, ни построены разумом из идей, полученных в опыте. Самая популярная версия этой позиции гласит, что существуют определенные идеи, которые Бог вложил в умы всех людей в момент их создания.
Локк нападает как на точку зрения, что у нас есть какие-то врожденные принципы (например, целое больше, чем часть, поступай с другими так, как ты поступил бы с собой и т. д.), так и на точку зрения, что существуют какие-то врожденные единичные принципы. идеи (например, Бог, личность, субстанция и т. д.). Суть аргумента Локка заключается в указании на то, что ни одно из ментальных содержаний, считающихся врожденными, не является универсально общим для всех людей. Он отмечает, что дети и умственно отсталые, например, не имеют в своем сознании якобы врожденной сложной мысли типа «равные, отнятые от равных, оставляют равных». Он также использует данные из литературы о путешествиях, чтобы указать, что многие неевропейцы отрицают то, что считалось врожденными моральными принципами, и что некоторым группам даже не хватает идеи Бога. Локк принимает тот факт, что не у всех людей есть эти идеи, как свидетельство того, что они не были имплантированы Богом в человеческий разум и, следовательно, являются приобретенными, а не врожденными.
д.), так и на точку зрения, что существуют какие-то врожденные единичные принципы. идеи (например, Бог, личность, субстанция и т. д.). Суть аргумента Локка заключается в указании на то, что ни одно из ментальных содержаний, считающихся врожденными, не является универсально общим для всех людей. Он отмечает, что дети и умственно отсталые, например, не имеют в своем сознании якобы врожденной сложной мысли типа «равные, отнятые от равных, оставляют равных». Он также использует данные из литературы о путешествиях, чтобы указать, что многие неевропейцы отрицают то, что считалось врожденными моральными принципами, и что некоторым группам даже не хватает идеи Бога. Локк принимает тот факт, что не у всех людей есть эти идеи, как свидетельство того, что они не были имплантированы Богом в человеческий разум и, следовательно, являются приобретенными, а не врожденными.
Существует одно недоразумение, которого важно избегать при рассмотрении антинативизма Локка. Непонимание частично вызвано утверждением Локка о том, что разум подобен tabula rasa (чистому листу), предшествующему чувственному опыту. Это звучит так, как будто разум есть 90 530 ничто 90 531 до появления идей. На самом деле позиция Локка гораздо более тонкая. Он ясно дает понять, что у ума есть множество врожденных способностей, предрасположенностей и наклонностей, прежде чем он получит какие-либо идеи из ощущений. Его антинативистская точка зрения состоит в том, что ни один из них не запускается и не осуществляется до тех пор, пока разум не получит идеи из ощущений.
Это звучит так, как будто разум есть 90 530 ничто 90 531 до появления идей. На самом деле позиция Локка гораздо более тонкая. Он ясно дает понять, что у ума есть множество врожденных способностей, предрасположенностей и наклонностей, прежде чем он получит какие-либо идеи из ощущений. Его антинативистская точка зрения состоит в том, что ни один из них не запускается и не осуществляется до тех пор, пока разум не получит идеи из ощущений.
г. Приобретение идей
В Книге II Локк предлагает свою альтернативную теорию того, как человеческий разум снабжается идеями, которые у него есть. Каждый день мы думаем о сложных вещах, таких как апельсиновый сок, замки, справедливость, числа и движение. Локк утверждает, что первоисточник всех этих идей лежит в опыте: « Опыт : На нем основано все наше Знание; и из этого она в конечном счете проистекает. Наше наблюдение использовало около 90 530 внешних, чувственных объектов ; или о внутренних Операциях нашего ума, воспринятых и отраженных нами самими, есть то, что снабжает наши рассудки всем материалом для мышления . Эти два являются Фонтанами Знания, из которых берут начало все 90 530 Идеи 90 531, которые у нас есть или которые мы можем естественным образом иметь». (2.1.2, 104).
Эти два являются Фонтанами Знания, из которых берут начало все 90 530 Идеи 90 531, которые у нас есть или которые мы можем естественным образом иметь». (2.1.2, 104).
В приведенном выше отрывке Локк допускает два различных типа опыта. Внешний опыт, или ощущение, дает нам представление о традиционных пяти чувствах. Зрение дает нам представления о цветах, слух дает нам представления о звуках и так далее. Таким образом, мое представление об определенном оттенке зеленого является результатом наблюдения за папоротником. И мое представление об определенном тоне является результатом того, что я находился рядом с фортепиано, когда на нем играли. Внутренний опыт, или размышление, немного сложнее. Локк считает, что человеческий разум невероятно активен; он постоянно выполняет то, что он называет операциями. Например, я часто помнить прошлые дни рождения, представить что я был в отпуске, желание кусок пиццы или сомнение что Англия выиграет чемпионат мира. Локк считает, что мы можем замечать или ощущать, как наш разум выполняет эти действия, и когда мы это делаем, мы получаем идеи отражения. Это такие идеи, как память, воображение, желание, сомнение, суждение и выбор.
Локк считает, что мы можем замечать или ощущать, как наш разум выполняет эти действия, и когда мы это делаем, мы получаем идеи отражения. Это такие идеи, как память, воображение, желание, сомнение, суждение и выбор.
Локк считает, что опыт (ощущение и размышление) дает нам простые идеи. Это минимальные единицы ментального содержания; каждая простая идея «сама по себе несложена, [и] не содержит в себе ничего, кроме одно единообразное Явление , или Концепция в уме, и не различимо на разные Идеи ». (2.2.1, 119). Но многие из моих идей не являются простыми идеями. Мое представление о стакане апельсинового сока или о нью-йоркском метро, например, нельзя отнести к простым идеям. Локк называет такие идеи сложными идеями. Его точка зрения состоит в том, что сложные идеи являются продуктом объединения наших простых идей различными способами. Например, мое сложное представление о стакане апельсинового сока состоит из различных простых представлений (оранжевого цвета, ощущения прохлады, определенного сладкого вкуса, определенного кислого вкуса и т. д.), объединенных вместе в один объект. Таким образом, Локк считает, что наши идеи композиционны. Простые идеи объединяются, чтобы сформировать сложные идеи. И эти сложные идеи можно комбинировать, чтобы сформировать еще более сложные идеи.
д.), объединенных вместе в один объект. Таким образом, Локк считает, что наши идеи композиционны. Простые идеи объединяются, чтобы сформировать сложные идеи. И эти сложные идеи можно комбинировать, чтобы сформировать еще более сложные идеи.
Теперь мы можем понять характер эмпиризма Локка. Он придерживается мнения, что все наши идеи, все, о чем мы только можем подумать, можно разбить на простые идеи, полученные в результате опыта. Основная часть Книги II посвящена тому, чтобы сделать этот эмпиризм правдоподобным. Локк делает это, проводя исследование различных способностей, которыми обладает человеческий разум (память, абстракция, воля и т. д.), и предлагая объяснение того, как могут быть построены даже такие непонятные идеи, как пространство, бесконечность, Бог и причинность. используя только простые идеи, полученные в опыте.
Наши сложные идеи подразделяются на три разные группы: субстанции, модусы и отношения. Идеи субстанций — это идеи вещей, которые считаются существующими независимо. В эту группу попадают обычные предметы, такие как столы, овцы и горы. Но есть также идеи коллективных субстанций, состоящих из индивидуальных субстанций, рассматриваемых как образующие целое. Группа отдельных зданий может считаться городом. А группу отдельных мужчин и женщин можно рассматривать вместе как армию. В дополнение к описанию того, как мы думаем об отдельных субстанциях, у Локка также есть интересное обсуждение субстанции вообще. Из чего сделаны определенные вещества, такие как обувь и ложки? Можно предположить, что они сделаны из кожи и металла. Но можно было бы повторить вопрос, из чего сделаны кожа и металл? Мы могли бы ответить, что они сделаны из материи. Но даже здесь, по мнению Локка, мы можем спросить, из чего состоит материя. Чем обусловлены свойства материи? Локк утверждает, что здесь у нас нет очень ясного представления. Таким образом, наше представление о субстанциях всегда будет несколько запутанным, потому что мы на самом деле не знаем, что стоит под, поддерживает или порождает наблюдаемые свойства, такие как протяженность и плотность.
В эту группу попадают обычные предметы, такие как столы, овцы и горы. Но есть также идеи коллективных субстанций, состоящих из индивидуальных субстанций, рассматриваемых как образующие целое. Группа отдельных зданий может считаться городом. А группу отдельных мужчин и женщин можно рассматривать вместе как армию. В дополнение к описанию того, как мы думаем об отдельных субстанциях, у Локка также есть интересное обсуждение субстанции вообще. Из чего сделаны определенные вещества, такие как обувь и ложки? Можно предположить, что они сделаны из кожи и металла. Но можно было бы повторить вопрос, из чего сделаны кожа и металл? Мы могли бы ответить, что они сделаны из материи. Но даже здесь, по мнению Локка, мы можем спросить, из чего состоит материя. Чем обусловлены свойства материи? Локк утверждает, что здесь у нас нет очень ясного представления. Таким образом, наше представление о субстанциях всегда будет несколько запутанным, потому что мы на самом деле не знаем, что стоит под, поддерживает или порождает наблюдаемые свойства, такие как протяженность и плотность.
Идеи модусов — это идеи вещей, которые каким-то образом зависят от субстанций. В целом, эта таксономическая категория может быть несколько сложной. Похоже, что в современной метафизике у него нет четкой параллели, и иногда его считают просто всеобъемлющей категорией для вещей, которые не являются ни субстанциями, ни отношениями. Но полезно думать о модусах как о свойствах субстанций; Модусы суть «такие сложные Идеи , которые, как бы они ни смешивались, не содержат в себе предположения о существовании сами по себе, но рассматриваются как зависимости от субстанций или аффекты субстанций». (2.12.4, 165). Режимы бывают двух типов: простые и смешанные. Простые модусы строятся путем объединения большого количества простых идей одного типа вместе. Например, Локк считает, что существует простая идея единства. Наша сложная идея числа семь, например, является простым модусом и строится путем соединения вместе семи простых идей единства. Локк использует эту категорию, чтобы объяснить, как мы думаем о ряде тем, касающихся числа, пространства, времени, удовольствия и боли, а также познания. Смешанные способы, с другой стороны, включают объединение простых идей более чем одного вида. В эту категорию попадает очень много идей. Но самые важные из них моральных идей. Наши представления о краже, убийстве, обещании, долге и т. п. считаются смешанными модусами.
Смешанные способы, с другой стороны, включают объединение простых идей более чем одного вида. В эту категорию попадает очень много идей. Но самые важные из них моральных идей. Наши представления о краже, убийстве, обещании, долге и т. п. считаются смешанными модусами.
Идеи отношений — это идеи, включающие более одной субстанции. Мое представление о муже, например, больше, чем представление об отдельном мужчине. Оно также должно включать идею другой субстанции, а именно идею супруги этого мужчины. Локк подчеркивает, что наши мысли гораздо больше связаны с отношениями, чем мы могли думать раньше. Например, когда я думаю о Елизавете II как о королеве Англии, мое мышление на самом деле включает в себя отношения, потому что я не могу по-настоящему думать о Елизавете как о королеве, не представляя ее как имеющую определенные отношения суверенитета с некоторыми субъектами (индивидуальными субстанциями, такими как Дэвид Бекхэм). и Дж. К. Роулинг). Затем Локк продолжает исследовать роль, которую отношения играют в нашем мышлении о причинности, пространстве, времени, морали и (очень известно) идентичности.
На протяжении всего обсуждения различных видов сложных идей Локк стремится подчеркнуть, что все наши идеи в конечном счете могут быть разбиты на простые идеи, получаемые в ощущении и размышлении. Иными словами, Локк прекрасно осознает, что успех его эмпирической теории сознания зависит от ее способности объяснить все содержимое нашего разума. Успех Локка или нет, является предметом споров. В некоторых случаях анализ, который он дает о том, как очень сложная идея может быть построена с использованием только простых идей, является расплывчатым и требует от читателя заполнения некоторых пробелов. И комментаторы также предположили, что некоторые из простых идей, к которым обращается Локк, например простые идеи силы и единства, не кажутся очевидными компонентами нашего феноменологического опыта.
Книга II завершается рядом глав, призванных помочь нам оценить качество наших идей. Наши идеи лучше, по Локку, в той мере, в какой они ясны, отчетливы, реальны, адекватны и верны. Наши идеи хуже, поскольку они неясны, путаны, фантастичны, неадекватны и ложны. Ясность и неясность объясняются по аналогии со зрением. Четкие идеи, как и ясные образы, четкие и свежие, они не тускнеют и не тускнеют, как неясные идеи (или образы). Различение и смешение связаны с индивидуализацией идей. Идеи различны, когда им соответствует только одно слово. Запутанные идеи — это те, к которым может быть правильно применено более одного слова, или те, которым не хватает четкой и последовательной корреляции с одним конкретным словом. Если использовать один из примеров Локка, представление о леопарде как о пятнистом звере было бы запутанным. Он не отличается, потому что слово «рысь» может относиться к этой идее так же легко, как и слово «леопард». Реальные идеи — это те, которые имеют «основу в природе», тогда как фантастические идеи — это идеи, созданные воображением. Например, наше представление о лошади было бы реальной идеей, а представление о единороге — фантастической. Адекватность и неадекватность связаны с тем, насколько хорошо идеи соответствуют шаблонам, согласно которым они были созданы.
Ясность и неясность объясняются по аналогии со зрением. Четкие идеи, как и ясные образы, четкие и свежие, они не тускнеют и не тускнеют, как неясные идеи (или образы). Различение и смешение связаны с индивидуализацией идей. Идеи различны, когда им соответствует только одно слово. Запутанные идеи — это те, к которым может быть правильно применено более одного слова, или те, которым не хватает четкой и последовательной корреляции с одним конкретным словом. Если использовать один из примеров Локка, представление о леопарде как о пятнистом звере было бы запутанным. Он не отличается, потому что слово «рысь» может относиться к этой идее так же легко, как и слово «леопард». Реальные идеи — это те, которые имеют «основу в природе», тогда как фантастические идеи — это идеи, созданные воображением. Например, наше представление о лошади было бы реальной идеей, а представление о единороге — фантастической. Адекватность и неадекватность связаны с тем, насколько хорошо идеи соответствуют шаблонам, согласно которым они были созданы. Адекватные идеи прекрасно представляют то, что они должны изображать; неадекватные идеи не в состоянии сделать это. Идеи истинны, когда разум понимает их так, как это правильно в соответствии с лингвистической практикой и тем, как устроен мир. Они ложны, когда ум неправильно понимает их в этом смысле.
Адекватные идеи прекрасно представляют то, что они должны изображать; неадекватные идеи не в состоянии сделать это. Идеи истинны, когда разум понимает их так, как это правильно в соответствии с лингвистической практикой и тем, как устроен мир. Они ложны, когда ум неправильно понимает их в этом смысле.
В этих главах Локк также объясняет, какие категории идей лучше или хуже в соответствии с этой оценочной системой. Простые идеи работают очень хорошо. Поскольку объекты непосредственно производят их в уме, они имеют тенденцию быть ясными, отчетливыми и так далее. Идеи модусов и отношений также имеют тенденцию к успеху, но по другой причине. Локк считает, что архетипы этих идей находятся в уме, а не в мире. Таким образом, этим идеям легко быть хорошими, потому что разум имеет четкое представление о том, какими должны быть идеи, когда он их конструирует. Напротив, представления о субстанциях, как правило, обстоят очень плохо. Архетипами этих идей являются объекты внешнего мира. Поскольку наш перцептивный доступ к этим объектам во многих отношениях ограничен и поскольку эти объекты очень сложны, представления о субстанциях имеют тенденцию быть запутанными, неадекватными, ложными и так далее.
д. Язык
Книга III Эссе посвящена языку. Локк признает, что эта тема является чем-то вроде отступления. Первоначально он не планировал, что язык займет всю книгу Эссе . Но вскоре он начал понимать, что язык играет важную роль в нашей познавательной жизни. Книга III начинается с того, что отмечает это и обсуждает природу и надлежащую роль языка. Но большая часть Книги III посвящена борьбе со злоупотреблением языком. Локк считает, что неправильное использование языка является одним из величайших препятствий на пути к знаниям и ясному мышлению. Он предлагает диагностику проблем, вызванных языком, и рекомендации, как избежать этих проблем.
Локк считает, что язык — это инструмент для общения с другими людьми. В частности, Локк считает, что мы хотим сообщать о наших идеях, о содержании нашего разума. Отсюда недалеко до точки зрения, согласно которой: «90 530 слов в их первичном или непосредственном значении ничего не стоят, кроме 90 531 идей 90 530 в уме того, кто их использует 90 531». (3.2.2, 405). Когда агент произносит слово «золото», он имеет в виду свое представление о блестящем, желтоватом, податливом веществе, имеющем большую ценность. Когда она произносит слово «морковь», она имеет в виду свое представление о длинном, тонком, оранжевом овоще, который растет под землей. Локк, конечно, осознает, что имена, которые мы выбираем для этих идей, произвольны и являются просто вопросом социальной условности.
(3.2.2, 405). Когда агент произносит слово «золото», он имеет в виду свое представление о блестящем, желтоватом, податливом веществе, имеющем большую ценность. Когда она произносит слово «морковь», она имеет в виду свое представление о длинном, тонком, оранжевом овоще, который растет под землей. Локк, конечно, осознает, что имена, которые мы выбираем для этих идей, произвольны и являются просто вопросом социальной условности.
Хотя основное использование слов состоит в том, чтобы ссылаться на идеи в уме говорящего, Локк также допускает, что слова делают то, что он называет «тайной ссылкой», на две другие вещи. Во-первых, люди также хотят, чтобы их слова относились к соответствующим идеям в умах других людей. Когда Смит произносит «морковь» в пределах слышимости Джонса, она надеется, что у Джонса тоже есть представление о длинном и тонком овоще, и что слово «морковь» принесет Джонсу это представление. Ведь коммуникация была бы невозможна без предположения, что наши слова соответствуют идеям в умах других. Во-вторых, люди предполагают, что их слова обозначают объекты в мире. Когда Смит говорит «морковь», она имеет в виду не только свою идею, но и сами длинные тонкие предметы. Но Локк с подозрением относится к этим двум другим способам понимания значения. Последнее, в частности, он считает незаконным.
Во-вторых, люди предполагают, что их слова обозначают объекты в мире. Когда Смит говорит «морковь», она имеет в виду не только свою идею, но и сами длинные тонкие предметы. Но Локк с подозрением относится к этим двум другим способам понимания значения. Последнее, в частности, он считает незаконным.
После обсуждения этих основных характеристик языка и референции Локк переходит к обсуждению конкретных случаев отношения между идеями и словами: слова, используемые для обозначения простых идей, слова, используемые для модусов, слова, используемые для субстанций, способ, которым одно слово может относятся к множеству идей и так далее. Есть также интересная глава о «частицах». Это слова, которые не относятся к идее, а вместо этого относятся к определенной связи, которая существует между идеями. Например, если я говорю «Секретариат коричневый», слово «Секретариат» относится к моему представлению об определенной скаковой лошади, а «коричневый» относится к моему представлению об определенном цвете, но слово «есть» делает нечто иное. Это слово является частицей и указывает на то, что я выражаю что-то об отношениях между моими представлениями о Секретариате и Брауне и предполагаю, что они определенным образом связаны. Другие частицы включают такие слова, как «и», «но», «следовательно» и так далее.
Это слово является частицей и указывает на то, что я выражаю что-то об отношениях между моими представлениями о Секретариате и Брауне и предполагаю, что они определенным образом связаны. Другие частицы включают такие слова, как «и», «но», «следовательно» и так далее.
Как упоминалось выше, языковые проблемы являются главной заботой Книги III. Локк считает, что язык может привести к путанице и непониманию по ряду причин. Значение слов является произвольным, а не естественным, и это означает, что может быть трудно понять, какие слова относятся к каким идеям. Многие из наших слов обозначают идеи, которые сложны, труднодоступны или и то, и другое. Так много людей будут изо всех сил пытаться использовать эти слова должным образом. А в некоторых случаях люди будут даже использовать слова, когда у них нет соответствующей идеи или есть только очень запутанная и неадекватная соответствующая идея. Локк утверждает, что это усугубляется тем фактом, что нас часто учат словам до того, как мы понимаем, что это слово означает. Ребенка, например, в раннем возрасте можно научить слову «правительство», но потребуются годы, чтобы сформировать четкое представление о том, что такое правительство и как оно действует. Люди также часто используют слова непоследовательно или двусмысленно в отношении их значения. Наконец, некоторые люди вводятся в заблуждение, потому что считают, что их слова идеально отражают реальность. Напомним выше, что люди тайно и неправильно используют свои слова для обозначения объектов во внешнем мире. Проблема в том, что люди могут ошибаться в том, на что похожи эти объекты.
Ребенка, например, в раннем возрасте можно научить слову «правительство», но потребуются годы, чтобы сформировать четкое представление о том, что такое правительство и как оно действует. Люди также часто используют слова непоследовательно или двусмысленно в отношении их значения. Наконец, некоторые люди вводятся в заблуждение, потому что считают, что их слова идеально отражают реальность. Напомним выше, что люди тайно и неправильно используют свои слова для обозначения объектов во внешнем мире. Проблема в том, что люди могут ошибаться в том, на что похожи эти объекты.
Локк считает, что результатом всего этого является то, что люди серьезно злоупотребляют языком и что многие дебаты и дискуссии в таких важных областях, как наука, политика и философия, запутаны или состоят просто из словесных споров. Локк приводит ряд примеров того, как язык вызывает проблемы: картезианцы используют термины «тело» и «расширение» взаимозаменяемо, хотя эти две идеи различны; физиологи, согласные во всех фактах, но долго спорят, потому что по-разному понимают слово «алкоголь»; Философы-схоласты используют термин «первичная материя», когда они не могут на самом деле сформулировать идею такой вещи, и так далее.
Средства, которые Локк рекомендует для решения этих проблем, созданных языком, в некоторой степени предсказуемы. Но Лок сразу же отмечает, что, хотя они и кажутся простыми решениями, на самом деле их довольно сложно реализовать. Первый и самый важный шаг — использовать слова только тогда, когда у нас есть четкие идеи, связанные с ними. (Опять же, это звучит просто, но многим из нас может быть трудно придумать четкую идею, соответствующую даже повседневным терминам, таким как «слава» или «фашист».) Мы также должны стремиться к тому, чтобы идеи, связанные с терминами, как можно полнее. Мы должны стремиться к тому, чтобы использовать слова последовательно и не двусмысленно; каждый раз, когда мы произносим слово, мы должны использовать его для обозначения одной и той же идеи. Наконец, мы должны сообщать другим наши определения слов.
эл. Отчет о знании
В Книге IV, уже объяснив, как разум снабжается имеющимися у него идеями, Локк переходит к обсуждению знания и веры. Хорошо бы начать с цитаты из начала Книги IV: « Знание тогда кажется мне не чем иным, как восприятием связи и согласия или несогласия и отторжения какой-либо из наших Идей . Где есть это Восприятие, там есть Знание, а где его нет, там, хотя мы можем воображать, догадываться или верить, все же нам всегда не хватает Знания». (4.2.2, 525). Локк посвящает первую часть Книги IV разъяснению и исследованию этой концепции знания. Вторая часть фокусируется на том, как мы должны распределять убеждения в тех случаях, когда нам не хватает знаний.
Хорошо бы начать с цитаты из начала Книги IV: « Знание тогда кажется мне не чем иным, как восприятием связи и согласия или несогласия и отторжения какой-либо из наших Идей . Где есть это Восприятие, там есть Знание, а где его нет, там, хотя мы можем воображать, догадываться или верить, все же нам всегда не хватает Знания». (4.2.2, 525). Локк посвящает первую часть Книги IV разъяснению и исследованию этой концепции знания. Вторая часть фокусируется на том, как мы должны распределять убеждения в тех случаях, когда нам не хватает знаний.
Что имеет в виду Локк под «связью и согласием» и «несогласием и противоречием» наших идей? Некоторые примеры могут помочь. Вспомните свое представление о белом и свое представление о черном. Локк думает, что, сделав это, вы сразу заметите, что они разные, они «не согласны». Когда вы осознаете это несогласие, вы узнаете тот факт, что белое не черное. Те, кто знаком с американской географией, знают, что Бойсе находится в Айдахо. С точки зрения Локка, это означает, что они способны уловить определенную связь между их идеей Айдахо и их идеей Бойсе. Локк перечисляет четыре измерения, по которым может существовать такого рода согласие или несогласие между идеями. Во-первых, мы можем воспринимать, когда две идеи идентичны или нет. Например, знание того, что сладость не есть горечь, состоит в том, чтобы понять, что идея сладости не тождественна идее горечи. Во-вторых, мы можем воспринимать отношения, возникающие между идеями. Например, знание того, что 7 больше 3, состоит в восприятии того, что между двумя идеями существует размерное отношение большего и меньшего. В-третьих, мы можем воспринимать, когда наше представление об определенной особенности сопровождает наше представление об определенной вещи. Если я знаю, что лед холоден, то это потому, что я вижу, что мое представление о холоде всегда сопровождает мое представление о льде. В-четвертых, мы можем воспринимать, когда существование согласуется с какой-либо идеей. Я могу иметь знание этого четвертого рода, когда, например, я совершаю cogito и узнаю особое отношение между моим представлением о себе и моим представлением о существовании.
Локк перечисляет четыре измерения, по которым может существовать такого рода согласие или несогласие между идеями. Во-первых, мы можем воспринимать, когда две идеи идентичны или нет. Например, знание того, что сладость не есть горечь, состоит в том, чтобы понять, что идея сладости не тождественна идее горечи. Во-вторых, мы можем воспринимать отношения, возникающие между идеями. Например, знание того, что 7 больше 3, состоит в восприятии того, что между двумя идеями существует размерное отношение большего и меньшего. В-третьих, мы можем воспринимать, когда наше представление об определенной особенности сопровождает наше представление об определенной вещи. Если я знаю, что лед холоден, то это потому, что я вижу, что мое представление о холоде всегда сопровождает мое представление о льде. В-четвертых, мы можем воспринимать, когда существование согласуется с какой-либо идеей. Я могу иметь знание этого четвертого рода, когда, например, я совершаю cogito и узнаю особое отношение между моим представлением о себе и моим представлением о существовании. Локк считает, что все наши знания состоят из соглашений или разногласий одного из этих типов.
Локк считает, что все наши знания состоят из соглашений или разногласий одного из этих типов.
После подробного описания типов отношений между идеями, составляющими знание, Локк продолжает обсуждение трех «степеней» знания в 4.2. Эти степени, по-видимому, заключаются в различных способах познания чего-либо. Первую степень Локк называет интуитивным знанием. Агент обладает интуитивным знанием, когда он непосредственно воспринимает связь между двумя идеями. Это лучший вид знания, как говорит Локк: «Такого рода Истины Ум постигает при первом взгляде на Идеи 9».0531 вместе, голым Интуиция , без вмешательства любого другого Идея ; и такое знание — самое ясное и достоверное, на что способна человеческая Слабость. (4.2.1, 531). Вторая степень познания называется демонстративной. Часто невозможно усмотреть непосредственную связь между двумя идеями. Например, большинство из нас не могут сказать, что три внутренних угла треугольника равны двум прямым углам, просто взглянув на них. Но большинство из нас с помощью учителя математики могут убедиться в их равенстве с помощью геометрического доказательства или демонстрации. Это модель демонстративного знания. Даже если человек не в состоянии непосредственно воспринять отношение между идеей-X и идеей-Y, он может воспринять отношение косвенно посредством идеи-A и идеи-B. Это будет возможно, если у агента есть интуитивное знание о связи между X и A, между A и B, а затем между B и Y. Таким образом, демонстративное знание состоит из цепочки отношений, каждое из которых известно интуитивно.
Но большинство из нас с помощью учителя математики могут убедиться в их равенстве с помощью геометрического доказательства или демонстрации. Это модель демонстративного знания. Даже если человек не в состоянии непосредственно воспринять отношение между идеей-X и идеей-Y, он может воспринять отношение косвенно посредством идеи-A и идеи-B. Это будет возможно, если у агента есть интуитивное знание о связи между X и A, между A и B, а затем между B и Y. Таким образом, демонстративное знание состоит из цепочки отношений, каждое из которых известно интуитивно.
Третья степень знания называется чувствительным знанием и является источником серьезных споров и путаницы среди комментаторов Локка. Во-первых, Локку неясно, считается ли чувствительное знание знанием. Он пишет, что интуитивное и демонстративное знание являются, собственно говоря, единственными формами знания, но что «действительно существует другое восприятие ума… степеней достоверности, проходит под именем Знания». (4. 2.14, 537). Чувственное знание связано с отношениями между нашими идеями и объектами внешнего мира, которые их производят. Локк утверждает, что мы можем быть уверены, что когда мы что-то воспринимаем, например апельсин, во внешнем мире существует объект, ответственный за эти ощущения. Часть утверждения Локка состоит в том, что существует серьезная качественная разница между откусыванием апельсина и вспоминает, как кусал апельсин. В феноменологическом опыте первого есть что-то, что убеждает нас в наличии соответствующего объекта во внешнем мире.
2.14, 537). Чувственное знание связано с отношениями между нашими идеями и объектами внешнего мира, которые их производят. Локк утверждает, что мы можем быть уверены, что когда мы что-то воспринимаем, например апельсин, во внешнем мире существует объект, ответственный за эти ощущения. Часть утверждения Локка состоит в том, что существует серьезная качественная разница между откусыванием апельсина и вспоминает, как кусал апельсин. В феноменологическом опыте первого есть что-то, что убеждает нас в наличии соответствующего объекта во внешнем мире.
В Книге IV Локк уделяет изрядное количество времени ответам на опасения, что он скептик или что его описание знания, с его упором на идеи, не отвечает внешнему миру. Общее беспокойство Локка довольно простое. Утверждая, что идеи — это единственные вещи, к которым люди имеют эпистемологический доступ, и утверждая, что знание относится только к нашим идеям, Локк, кажется, исключает утверждение о том, что мы когда-либо можем знать о внешнем мире. Агенты Локка оказались в ловушке за «завесой идей». Таким образом, мы не можем быть уверены, что наши идеи дают нам достоверную информацию о внешнем мире. Мы не можем знать, что было бы, если бы идея напоминала объект или представляла его. И мы не можем сказать, не имея возможности выйти за пределы собственного разума, надежно ли это сделали наши идеи. Исторически считалось, что эта критика ставит под угрозу весь проект Локка. Запомнившаяся оценка Гилберта Райла состоит в том, что «почти каждый молодой студент, изучающий философию, может и опровергает в своем втором эссе всю теорию познания Локка». Недавняя стипендия была гораздо более благотворительной для Локка. Но главная проблема по-прежнему актуальна.
Агенты Локка оказались в ловушке за «завесой идей». Таким образом, мы не можем быть уверены, что наши идеи дают нам достоверную информацию о внешнем мире. Мы не можем знать, что было бы, если бы идея напоминала объект или представляла его. И мы не можем сказать, не имея возможности выйти за пределы собственного разума, надежно ли это сделали наши идеи. Исторически считалось, что эта критика ставит под угрозу весь проект Локка. Запомнившаяся оценка Гилберта Райла состоит в том, что «почти каждый молодой студент, изучающий философию, может и опровергает в своем втором эссе всю теорию познания Локка». Недавняя стипендия была гораздо более благотворительной для Локка. Но главная проблема по-прежнему актуальна.
Дебаты о правильном понимании чувствительного знания, безусловно, важны при рассмотрении этих вопросов. На первый взгляд отношение, связанное с чувственным знанием, кажется отношением между идеей и физическим объектом в мире. Но если это прочтение верно, то становится трудно понять многие отрывки, в которых Локк настаивает на том, что знание есть отношение, которое существует только между идеями. Актуальны также споры о том, как правильно понимать идеи Локка. Напомним вышесказанное, хотя многие понимают идеи как ментальные объекты, некоторые понимают их как ментальные действия. Хотя большая часть текста, кажется, поддерживает первую интерпретацию, кажется, что вторая интерпретация имеет значительное преимущество в ответ на эти скептические опасения. Причина в том, что связь между идеями и объектами внешнего мира встроена прямо в определение идеи. Идея всего — это восприятие объекта внешнего мира.
Актуальны также споры о том, как правильно понимать идеи Локка. Напомним вышесказанное, хотя многие понимают идеи как ментальные объекты, некоторые понимают их как ментальные действия. Хотя большая часть текста, кажется, поддерживает первую интерпретацию, кажется, что вторая интерпретация имеет значительное преимущество в ответ на эти скептические опасения. Причина в том, что связь между идеями и объектами внешнего мира встроена прямо в определение идеи. Идея всего — это восприятие объекта внешнего мира.
Как бы ни разрешились споры, обсужденные в предыдущем абзаце, среди комментаторов существует консенсус в отношении того, что, по мнению Локка, возможности человеческого понимания очень узки. Люди не способны к очень большому знанию. Локк обсуждает это в 4.3, главе, озаглавленной «Объем человеческого знания». Тот факт, что наши знания настолько ограничены, не должен вызывать удивления. Мы уже обсуждали, в чем проблематичны наши представления о субстанциях. И мы только что увидели, что у нас нет реального понимания связи между нашими идеями и объектами, которые их производят.
Хорошая новость заключается в том, что, хотя наши знания могут быть не очень обширными, их достаточно для наших нужд. Запоминающаяся морская метафора Локка гласит: «Мореходу очень полезно знать длину своей Линии, хотя он не может с ее помощью постичь все глубины Океана. «Хорошо он знает, что достаточно долго, чтобы достичь дна в таких местах, которые необходимы, чтобы направить его путешествие и предостеречь его от наезда на отмели, которые могут его погубить. Наше дело здесь не в том, чтобы знать все, а в том, что касается нашего поведения». (1.1.6, 46). Локк считает, что у нас достаточно знаний, чтобы жить комфортной жизнью на Земле, осознать, что Бог есть, понять мораль и вести себя соответствующим образом, а также обрести спасение. Наши знания морали, в частности, очень хороши. Локк даже предполагает, что мы могли бы разработать доказуемую систему морали, подобную доказуемой системе геометрии Евклида. Это возможно потому, что наши моральные идеи суть идеи модусов, а не субстанций. И наши представления о модусах гораздо лучше соответствуют оценочной схеме Локка, чем наши представления о субстанциях. Наконец, хотя ограничения наших знаний могут разочаровать, Локк отмечает, что признание этих ограничений важно и полезно, поскольку это поможет нам лучше организовать наше интеллектуальное исследование. Мы будем избавлены от исследования вопросов, на которые никогда не узнаем ответов, и сможем сосредоточить свои усилия на тех областях, где возможен прогресс.
И наши представления о модусах гораздо лучше соответствуют оценочной схеме Локка, чем наши представления о субстанциях. Наконец, хотя ограничения наших знаний могут разочаровать, Локк отмечает, что признание этих ограничений важно и полезно, поскольку это поможет нам лучше организовать наше интеллектуальное исследование. Мы будем избавлены от исследования вопросов, на которые никогда не узнаем ответов, и сможем сосредоточить свои усилия на тех областях, где возможен прогресс.
Одним из преимуществ довольно мрачной оценки Локком объема наших знаний было то, что она заставила его сосредоточиться на области, недооцененной многими его современниками. Это была арена суждений или мнений, состояний веры, которые не соответствуют знанию. Учитывая, что у нас так мало знаний (что мы можем быть уверены в столь малом), область вероятности становится очень важной. Вспомним, что знание состоит в воспринимаемом согласии или несоответствии двух идей. Вера, которая не соответствует знанию (суждению или мнению), состоит в предполагал согласие или несогласие между двумя идеями. Рассмотрим пример: я не совсем уверен, кто является премьер-министром Канады, но я в некоторой степени уверен, что это Стивен Харпер. Локк утверждает, что, полагая, что премьер-министром Канады является Стивен Харпер, я действую так, как будто между этими двумя идеями существует связь. Я не вижу прямой связи между моим представлением о Стивене Харпере и моим представлением о канадском премьер-министре, но предполагаю, что она существует.
Рассмотрим пример: я не совсем уверен, кто является премьер-министром Канады, но я в некоторой степени уверен, что это Стивен Харпер. Локк утверждает, что, полагая, что премьер-министром Канады является Стивен Харпер, я действую так, как будто между этими двумя идеями существует связь. Я не вижу прямой связи между моим представлением о Стивене Харпере и моим представлением о канадском премьер-министре, но предполагаю, что она существует.
Предложив это описание того, что такое суждение, Локк предлагает анализ того, как и почему мы формируем свое мнение, и предлагает некоторые рекомендации по ответственному формированию нашего мнения. Это включает в себя диагностику ошибок, которые люди допускают при суждениях, обсуждение различных степеней согласия и интересное обсуждение эпистемологической ценности свидетельских показаний.
3. Специальные темы в эссе
Как обсуждалось выше, основной проект эссе — это исследование человеческого понимания и анализ знаний. Но Эссе — это довольно объемная работа, в которой обсуждаются многие другие темы, представляющие философский интерес. Некоторые из них будут рассмотрены ниже. Однако прежде чем продолжить, необходимо сделать предупреждение. Иногда бывает трудно сказать, считает ли Локк себя предлагающим метафизическую теорию или он просто описывает компонент человеческой психологии. Например, мы можем задаться вопросом, предназначено ли его объяснение личной идентичности для предоставления необходимых и достаточных условий для метафизического описания личности или же оно предназначено просто для того, чтобы сообщить нам, какие типы атрибуций идентичности мы делаем и должны делать и почему. Далее мы можем задаться вопросом, предлагает ли Локк, обсуждая первичные и вторичные качества, теорию о том, как на самом деле работает восприятие, или это обсуждение является простым отступлением, используемым для иллюстрации одного момента, касающегося природы наших идей. Таким образом, хотя многим из этих тем уделялось большое внимание, их точное отношение к основному проекту Эссе может быть трудно найти.
Но Эссе — это довольно объемная работа, в которой обсуждаются многие другие темы, представляющие философский интерес. Некоторые из них будут рассмотрены ниже. Однако прежде чем продолжить, необходимо сделать предупреждение. Иногда бывает трудно сказать, считает ли Локк себя предлагающим метафизическую теорию или он просто описывает компонент человеческой психологии. Например, мы можем задаться вопросом, предназначено ли его объяснение личной идентичности для предоставления необходимых и достаточных условий для метафизического описания личности или же оно предназначено просто для того, чтобы сообщить нам, какие типы атрибуций идентичности мы делаем и должны делать и почему. Далее мы можем задаться вопросом, предлагает ли Локк, обсуждая первичные и вторичные качества, теорию о том, как на самом деле работает восприятие, или это обсуждение является простым отступлением, используемым для иллюстрации одного момента, касающегося природы наших идей. Таким образом, хотя многим из этих тем уделялось большое внимание, их точное отношение к основному проекту Эссе может быть трудно найти.
а. Первичные и вторичные качества
Книга 2, глава 8 Эссе содержит расширенное обсуждение различий между первичными и вторичными качествами. Локк вряд ли был оригинален в проведении этого различия. К тому времени, когда Эссе было опубликовано, оно было сделано многими другими и даже было несколько обычным явлением. Тем не менее, формулировка Локком этого различия и его анализ связанных вопросов оказали огромное влияние и обеспечили основу для большей части последующего обсуждения этой темы.
Локк определяет качество как способность тела производить в нас идеи. Таким образом, простой объект, такой как печеный картофель, который может вызывать идеи коричневого цвета, тепла, яйцевидной формы, плотности и определенного размера, должен обладать рядом соответствующих качеств. В картофеле должно быть что-то, что дает нам представление о коричневом цвете, что-то в картофеле, что дает нам представление о форме яйцеклетки, и так далее. Различие между первичными и вторичными качествами утверждает, что некоторые из этих качеств сильно отличаются от других.
Локк мотивирует различие между двумя типами качеств, обсуждая, как тело может производить в нас идею. Теория восприятия, одобренная Локком, в высшей степени механична. Все восприятие происходит в результате движения и столкновения. Если я чувствую запах печеной картошки, это должны быть маленькие материальные частицы, которые отлетают от картофеля и натыкаются на нервы в моем носу. мой мозг и я переживаем идею определенного запаха. Если я вижу печеную картошку, значит, от картофелины отлетают мелкие частицы материала и ударяются о мою сетчатку. Это столкновение вызывает аналогичную цепную реакцию, которая заканчивается тем, что я ощущаю некую округлую форму.
Из этого Локк заключает, что для того, чтобы объект мог производить в нас идеи, он должен действительно обладать некоторыми свойствами, но может полностью отсутствовать другие свойства. Эта механическая теория восприятия требует, чтобы объекты, производящие в нас идеи, имели форму, протяженность, подвижность и плотность. Но для этого не требуется, чтобы эти объекты имели цвет, вкус, звук или температуру. Таким образом, первичные качества — это качества, которыми на самом деле обладают тела. Это особенности, без которых тело не может быть. Второстепенные качества, напротив, не действительно имели тел. Это всего лишь способ говорить об идеях, которые могут быть произведены в нас телами в силу их первичных качеств. Поэтому, когда мы утверждаем, что печеный картофель твердый, это означает, что твердость является одним из его основных свойств. Но когда я утверждаю, что он пахнет каким-то землистым образом, это просто означает, что его основные черты способны вызвать в моем уме идею землистого запаха.
Но для этого не требуется, чтобы эти объекты имели цвет, вкус, звук или температуру. Таким образом, первичные качества — это качества, которыми на самом деле обладают тела. Это особенности, без которых тело не может быть. Второстепенные качества, напротив, не действительно имели тел. Это всего лишь способ говорить об идеях, которые могут быть произведены в нас телами в силу их первичных качеств. Поэтому, когда мы утверждаем, что печеный картофель твердый, это означает, что твердость является одним из его основных свойств. Но когда я утверждаю, что он пахнет каким-то землистым образом, это просто означает, что его основные черты способны вызвать в моем уме идею землистого запаха.
Эти утверждения ведут к заявлениям Локка о сходстве: «Откуда, я думаю, легко вывести это Наблюдение, что Идеи первичных Качеств Тел, являются Подобиями их, и их Образцы действительно существуют в самих Телах; но 90 530 Идеи, произведенные 90 531 в нас 90 530 посредством 90 531 этих 90 530 Вторичных Качеств, вовсе не имеют никакого сходства с ними». (2.8.14, 137). Поскольку мое представление о картофеле есть что-то твердое, протяженное, подвижное и имеющее определенную форму, мое представление точно схватывает кое-что о реальной природе картофеля. Но поскольку мое представление о картофеле — это что-то с определенным запахом, температурой и вкусом, мои представления не точно отражают независимые от разума факты о картофеле.
(2.8.14, 137). Поскольку мое представление о картофеле есть что-то твердое, протяженное, подвижное и имеющее определенную форму, мое представление точно схватывает кое-что о реальной природе картофеля. Но поскольку мое представление о картофеле — это что-то с определенным запахом, температурой и вкусом, мои представления не точно отражают независимые от разума факты о картофеле.
б. Механизм
Примерно во время Эссе механическая философия стала преобладающей теорией физического мира. Философия механики считала, что основными объектами физического мира являются маленькие индивидуальные тела, называемые корпускулами. Каждое тельце было твердым, вытянутым и имело определенную форму. Эти частицы могут объединяться вместе, образуя обычные объекты, такие как камни, столы и растения. Философия механики утверждала, что все свойства тел и все явления природы можно объяснить обращением к этим корпускулам и их основным свойствам (в частности, размеру, форме и движению).
Локк познакомился с философией механики во время учебы в Оксфорде и познакомился с трудами ее наиболее выдающихся сторонников. В целом Локк, похоже, стал сторонником механической философии. Он пишет, что механизм — это наилучшая доступная гипотеза для объяснения природы. Мы уже видели часть пояснительной работы, проделанной механизмом в Эссе . Различие между первичными и вторичными качествами было отличительной чертой механической философии и четко увязывалось с механистскими представлениями о восприятии. Локк вновь подтверждает свою приверженность этому описанию восприятия в ряде других моментов Эссе . И при обсуждении материальных объектов Локк очень часто с удовольствием допускает, что они состоят из материальных корпускул. Что интересно, однако, так это то, что, хотя в «Опыте » , по-видимому, есть ряд отрывков, в которых Локк поддерживает механические объяснения и высоко отзывается о механизме, оно также содержит некоторые крайне критические замечания о механизме и обсуждение пределов механического понимания. философия.
В целом Локк, похоже, стал сторонником механической философии. Он пишет, что механизм — это наилучшая доступная гипотеза для объяснения природы. Мы уже видели часть пояснительной работы, проделанной механизмом в Эссе . Различие между первичными и вторичными качествами было отличительной чертой механической философии и четко увязывалось с механистскими представлениями о восприятии. Локк вновь подтверждает свою приверженность этому описанию восприятия в ряде других моментов Эссе . И при обсуждении материальных объектов Локк очень часто с удовольствием допускает, что они состоят из материальных корпускул. Что интересно, однако, так это то, что, хотя в «Опыте » , по-видимому, есть ряд отрывков, в которых Локк поддерживает механические объяснения и высоко отзывается о механизме, оно также содержит некоторые крайне критические замечания о механизме и обсуждение пределов механического понимания. философия.
Локковскую критику механизма можно разделить на два направления. Во-первых, он признал, что существует ряд наблюдаемых явлений, механизм которых трудно объяснить. Механизм предлагал точное объяснение некоторых наблюдаемых явлений. Например, тот факт, что объекты можно было видеть, но не чувствовать через стекло, можно было бы объяснить, постулируя, что корпускулы, взаимодействующие с нашей сетчаткой, меньше, чем те, которые взаимодействуют с нашими ноздрями. Таким образом, тельца зрения могли пройти через промежутки между стеклянными тельцами, а тельца обоняния были бы отвернуты. Но другие явления объяснить было труднее. Магнетизм и различные химические и биологические процессы (например, ферментация) менее поддавались такого рода объяснениям. И всеобщее тяготение, существование которого Локк считал Ньютоном доказанным в Principia было особенно трудно объяснить. Локк предполагает, что Бог мог «супердобавлять» различные немеханические силы материальным телам и что это могло объяснить гравитацию. (Действительно, в некоторых моментах он даже предполагает, что Бог, возможно, добавил силу мысли к материи и что люди могут быть чисто материальными существами.
Во-первых, он признал, что существует ряд наблюдаемых явлений, механизм которых трудно объяснить. Механизм предлагал точное объяснение некоторых наблюдаемых явлений. Например, тот факт, что объекты можно было видеть, но не чувствовать через стекло, можно было бы объяснить, постулируя, что корпускулы, взаимодействующие с нашей сетчаткой, меньше, чем те, которые взаимодействуют с нашими ноздрями. Таким образом, тельца зрения могли пройти через промежутки между стеклянными тельцами, а тельца обоняния были бы отвернуты. Но другие явления объяснить было труднее. Магнетизм и различные химические и биологические процессы (например, ферментация) менее поддавались такого рода объяснениям. И всеобщее тяготение, существование которого Локк считал Ньютоном доказанным в Principia было особенно трудно объяснить. Локк предполагает, что Бог мог «супердобавлять» различные немеханические силы материальным телам и что это могло объяснить гравитацию. (Действительно, в некоторых моментах он даже предполагает, что Бог, возможно, добавил силу мысли к материи и что люди могут быть чисто материальными существами. )
)
Вторая группа критических замечаний Локка относится к теоретическим проблемам механической философии. Одна из проблем заключалась в том, что у механизма не было удовлетворительного способа объяснить сплоченность. Почему тельца иногда слипаются? Если такие предметы, как столы и стулья, представляют собой просто набор маленьких частиц, то их должно быть очень легко разбить на части, точно так же, как я могу легко отделить одну группу шариков от другой. Далее, почему какая-то конкретная корпускула должна оставаться слипшейся как твердое тело? Что составляет его сплоченность? Опять же, кажется, что механизму трудно дать ответ. Наконец, Локк допускает, что мы не вполне понимаем перенос движения ударом. Когда одна корпускула сталкивается с другой, у нас фактически нет удовлетворительного объяснения того, почему вторая частица удаляется под действием силы удара.
Локк проводит эту критику с некоторым мастерством и в серьезной манере. Тем не менее, в конечном счете, он сдержанно оптимистичен в отношении механизма. Это несколько неоднозначное отношение со стороны Локка привело комментаторов к обсуждению вопросов о его точном отношении к механистической философии и его мотивах для ее обсуждения.
Это несколько неоднозначное отношение со стороны Локка привело комментаторов к обсуждению вопросов о его точном отношении к механистической философии и его мотивах для ее обсуждения.
г. Воля и свобода действий
В Книге 2, Глава 21 Эссе Локк исследует тему воли. Одна из вещей, которая отличает людей от камней и бильярдных шаров, — это наша способность принимать решения и контролировать свои действия. Мы чувствуем, что свободны в определенных отношениях и имеем право выбирать определенные мысли и действия. Локк называет эту силу волей. Но есть каверзные вопросы о том, в чем состоит эта сила и что нужно для того, чтобы свободно (или добровольно) что-то выбрать. 2.21 содержит деликатное и продолжительное обсуждение этих каверзных вопросов.
Локк сначала начинает с вопросов свободы, а затем переходит к обсуждению воли. Согласно анализу Локка, мы свободны делать то, что хотим и на что способны физически. Например, если я хочу прыгнуть в озеро и у меня нет никаких физических недугов, препятствующих этому, то я свободен прыгнуть в озеро. Напротив, если я не хочу прыгать в озеро, но друг толкает меня туда, я не действовал свободно, когда входил в воду. Или, если я хочу прыгнуть в озеро, но у меня травма позвоночника и я не могу двигаться, то я не действую свободно, когда остаюсь на берегу. Пока все хорошо, Локк предложил нам полезный способ отличить наши произвольные действия от наших непроизвольных. Но остается еще насущный вопрос о свободе и воле: вопрос о том, свободна ли сама воля. Когда я решаю, прыгнуть в воду или нет, определяется ли воля внешними факторами, чтобы выбрать одно или другое? Или может, так сказать, принять решение и выбрать любой вариант?
Напротив, если я не хочу прыгать в озеро, но друг толкает меня туда, я не действовал свободно, когда входил в воду. Или, если я хочу прыгнуть в озеро, но у меня травма позвоночника и я не могу двигаться, то я не действую свободно, когда остаюсь на берегу. Пока все хорошо, Локк предложил нам полезный способ отличить наши произвольные действия от наших непроизвольных. Но остается еще насущный вопрос о свободе и воле: вопрос о том, свободна ли сама воля. Когда я решаю, прыгнуть в воду или нет, определяется ли воля внешними факторами, чтобы выбрать одно или другое? Или может, так сказать, принять решение и выбрать любой вариант?
Исходная позиция Локка в этой главе состоит в том, что воля определена. Но в более поздних разделах он предлагает своего рода квалификацию. В нормальных обстоятельствах воля определяется тем, что Локк называет беспокойством: « Что определяет Волю в отношении наших Действий? …некоторая (и по большей части самая насущная) беспокойство Человек находится в настоящее время под. Это то, что последовательно определяет Волю и направляет нас на те Действия, которые мы совершаем». (2.21.31, 250-1). Беспокойство вызвано отсутствием чего-то, что воспринимается как хорошее. Восприятие вещи как хорошей порождает желание этой вещи. Предположим, я решил съесть кусок пиццы. Локк сказал бы, что я, должно быть, сделал этот выбор, потому что отсутствие пиццы меня как-то беспокоило (я чувствовал голодные боли или жажду чего-нибудь вкусненького), и этот дискомфорт вызывал желание есть. Это желание, в свою очередь, определило мое желание съесть пиццу.
Это то, что последовательно определяет Волю и направляет нас на те Действия, которые мы совершаем». (2.21.31, 250-1). Беспокойство вызвано отсутствием чего-то, что воспринимается как хорошее. Восприятие вещи как хорошей порождает желание этой вещи. Предположим, я решил съесть кусок пиццы. Локк сказал бы, что я, должно быть, сделал этот выбор, потому что отсутствие пиццы меня как-то беспокоило (я чувствовал голодные боли или жажду чего-нибудь вкусненького), и этот дискомфорт вызывал желание есть. Это желание, в свою очередь, определило мое желание съесть пиццу.
Квалификация Локка в отношении воли, определяемой беспокойством, связана с тем, что он называет приостановкой. Начиная со второго издания «Опыта », Локк стал доказывать, что наиболее насущное желание по большей части определяет волю, но не всегда: «Ибо разум, имеющий в большинстве случаев, как это видно из Опыта, способность приостанавливает выполнение и удовлетворение любых своих желаний, и поэтому все, одно за другим, волен рассматривать их объекты; осмотрите их со всех сторон и взвесьте их с другими». (2.21.47, 263). Поэтому, даже если в данный момент мое желание пиццы является самым сильным желанием, Локк считает, что я могу сделать паузу, прежде чем решить съесть пиццу и обдумать решение. Я могу рассматривать другие пункты в моем наборе желаний: мое желание похудеть, или оставить пиццу моему другу, или придерживаться веганской диеты. Тщательное рассмотрение этих других возможностей может привести к изменению моего набора желаний. Если я действительно сосредоточусь на том, как важно оставаться в форме и быть здоровым, питаясь питательной пищей, мое желание отказаться от пиццы может стать сильнее, чем мое желание съесть ее, и моя воля может быть полна решимости не есть пиццу. Но, конечно, мы всегда можем спросить, есть ли у человека выбор, воздерживаться от суждения или нет, или же отсрочка суждения сама по себе определяется сильнейшим желанием ума. В этом вопросе Локк несколько расплывчат. В то время как большинство толкователей считают, что наши желания определяют, когда решение приостанавливается, некоторые другие не согласны и утверждают, что приостановление решения предлагает агентам Локка надежную форму свободы воли.
(2.21.47, 263). Поэтому, даже если в данный момент мое желание пиццы является самым сильным желанием, Локк считает, что я могу сделать паузу, прежде чем решить съесть пиццу и обдумать решение. Я могу рассматривать другие пункты в моем наборе желаний: мое желание похудеть, или оставить пиццу моему другу, или придерживаться веганской диеты. Тщательное рассмотрение этих других возможностей может привести к изменению моего набора желаний. Если я действительно сосредоточусь на том, как важно оставаться в форме и быть здоровым, питаясь питательной пищей, мое желание отказаться от пиццы может стать сильнее, чем мое желание съесть ее, и моя воля может быть полна решимости не есть пиццу. Но, конечно, мы всегда можем спросить, есть ли у человека выбор, воздерживаться от суждения или нет, или же отсрочка суждения сама по себе определяется сильнейшим желанием ума. В этом вопросе Локк несколько расплывчат. В то время как большинство толкователей считают, что наши желания определяют, когда решение приостанавливается, некоторые другие не согласны и утверждают, что приостановление решения предлагает агентам Локка надежную форму свободы воли.
д. Индивидуальность и личностная идентичность
Локк был одним из первых философов, уделивших серьезное внимание вопросу личностной идентичности. И его обсуждение этого вопроса оказало влияние как исторически, так и в наши дни. Обсуждение происходит в разгар более широкого обсуждения Локком условий идентичности для различных сущностей в Книге II, главе 27. По сути, вопрос прост: что делает меня таким же человеком, как человек, который делал определенные вещи в прошлом и что будет делать определенные вещи в будущем? В каком смысле это было меня , который много лет назад учился в начальной школе Бридлмайл? В конце концов, этот человек был очень маленького роста, очень мало знал о футболе и любил Чикен Макнаггетс. Я, с другой стороны, среднего роста, знаю массу футбольных мелочей, и меня тошнит при мысли о том, что я ем курицу, особенно в виде наггетсов. Тем не менее, это правда, что я идентичен мальчику, посещавшему Бридлмайл.
Во времена Локка тема личной идентичности была важна по религиозным причинам. Христианская доктрина утверждала, что существует загробная жизнь, в которой добродетельные люди будут вознаграждены на небесах, а грешники будут наказаны в аду. Эта схема мотивировала людей вести себя нравственно. Но для того, чтобы это сработало, было важно, чтобы человек, которого награждали или наказывали, был 9-м.0530 тот же человек как тот, кто жил добродетельно или жил греховно. И это должно было быть правдой, даже если награждаемый или наказываемый человек умер, каким-то образом продолжал существовать в загробной жизни и каким-то образом сумел воссоединиться с телом. Поэтому было важно правильно решить вопрос о личности.
Христианская доктрина утверждала, что существует загробная жизнь, в которой добродетельные люди будут вознаграждены на небесах, а грешники будут наказаны в аду. Эта схема мотивировала людей вести себя нравственно. Но для того, чтобы это сработало, было важно, чтобы человек, которого награждали или наказывали, был 9-м.0530 тот же человек как тот, кто жил добродетельно или жил греховно. И это должно было быть правдой, даже если награждаемый или наказываемый человек умер, каким-то образом продолжал существовать в загробной жизни и каким-то образом сумел воссоединиться с телом. Поэтому было важно правильно решить вопрос о личности.
Взгляды Локка на личностную идентичность включают негативный проект и позитивный проект. Негативный проект включает в себя возражение против точки зрения, согласно которой личная идентичность состоит в постоянном существовании определенного вещества или требует его. А позитивный проект предполагает защиту взгляда на то, что личностная идентичность состоит в непрерывности сознания. Мы можем начать с этой позитивной точки зрения. Локк определяет человека как «мыслящее разумное Существо, обладающее разумом и рефлексией и могущее рассматривать себя как самого себя, одну и ту же мыслящую вещь в разное время и в разных местах; что он делает только тем сознанием, которое неотделимо от мышления и, как мне кажется, существенно для него». (2.27.9, 335). Локк предполагает здесь, что частью того, что делает человека одинаковым во времени, является его способность распознавать прошлый опыт как принадлежащий ему. Для меня часть того, что отличает одного маленького мальчика, который посещал начальную школу Бридлмайл, от всех других детей, которые ходили туда, — это мое осознание того, что я разделяю его сознание. Иными словами, мой доступ к его жизненному опыту в Бридлмайл сильно отличается от моего доступа к жизненному опыту других людей: он личный и непосредственный. Я узнаю его переживания там как часть цепи переживаний, которые составляют мою жизнь и соединяются с моим нынешним «я» и нынешними переживаниями единым образом.
Мы можем начать с этой позитивной точки зрения. Локк определяет человека как «мыслящее разумное Существо, обладающее разумом и рефлексией и могущее рассматривать себя как самого себя, одну и ту же мыслящую вещь в разное время и в разных местах; что он делает только тем сознанием, которое неотделимо от мышления и, как мне кажется, существенно для него». (2.27.9, 335). Локк предполагает здесь, что частью того, что делает человека одинаковым во времени, является его способность распознавать прошлый опыт как принадлежащий ему. Для меня часть того, что отличает одного маленького мальчика, который посещал начальную школу Бридлмайл, от всех других детей, которые ходили туда, — это мое осознание того, что я разделяю его сознание. Иными словами, мой доступ к его жизненному опыту в Бридлмайл сильно отличается от моего доступа к жизненному опыту других людей: он личный и непосредственный. Я узнаю его переживания там как часть цепи переживаний, которые составляют мою жизнь и соединяются с моим нынешним «я» и нынешними переживаниями единым образом. Именно это делает его таким же человеком, как и я.
Именно это делает его таким же человеком, как и я.
Локк полагает, что такое объяснение личностной идентичности как непрерывности сознания устраняет необходимость описания личностной идентичности, данного в терминах субстанций. Традиционная точка зрения утверждала, что существует метафизическая сущность, душа, которая гарантирует личную идентичность во времени; где бы ни была та же душа, там был бы и тот же человек. Локк предлагает ряд мысленных экспериментов, чтобы поставить под сомнение это убеждение и показать, что его версия лучше. Например, если бы душа была стерта со всех своих предыдущих переживаний и получила новые (как могло бы быть, если бы реинкарнация была правдой), та же самая душа не оправдывала бы утверждения, что все те, у кого она была, были одним и тем же человеком. . Или мы могли бы представить себе две души, сознательный опыт которых полностью поменялся местами. В этом случае мы хотели бы сказать, что человек ушел с сознательными переживаниями, а не остался с душой.
Представление Локка о личной идентичности кажется преднамеренной попыткой отойти от некоторых метафизических альтернатив и предложить объяснение, которое было бы приемлемо для людей с различным богословским образованием. Конечно, в отношении Локка возник ряд серьезных проблем. Большинство из них сосредоточено на той решающей роли, которую, по-видимому, играет память. И точные детали положительного предложения Локка в 2.27 трудно определить. Тем не менее многие современные философы считают, что в анализе Локка есть важное зерно истины.
эл. Реальные и номинальные сущности
Проведенное Локком различие между реальной сущностью вещества и номинальной сущностью вещества является одним из самых увлекательных компонентов Эссе . Философы-схоласты считали, что главной целью метафизики и науки является изучение сущности вещей: ключевых метафизических компонентов вещей, объясняющих все их интересные особенности. Локк считал этот проект ошибочным. Такое знание, знание реальных сущностей существ, были недоступны для человека. Это побудило Локка предложить альтернативный способ понимания и исследования природы; он рекомендует сосредоточиться на номинальных сущности вещей.
Это побудило Локка предложить альтернативный способ понимания и исследования природы; он рекомендует сосредоточиться на номинальных сущности вещей.
Когда Локк вводит термин «реальная сущность», он использует его для обозначения «реальной конституции любой вещи, которая является основой всех тех свойств, которые сочетаются в [объекте] и постоянно сосуществуют с ним. (3.6.6, 442). Для схоластов эта реальная сущность была бы субстанциальной формой объекта. Для сторонников механической философии это число и расположение материальных частиц, из которых состоит тело. Локк иногда поддерживает это последнее понимание реальной сущности. Но он настаивает на том, что эти реальные сущности нам совершенно неизвестны и непостижимы. Номинальные сущности, напротив, известны и представляют собой лучший способ понять индивидуальные субстанции. Номинальные сущности — это всего лишь совокупность всех наблюдаемых признаков, которыми обладает отдельная вещь. Таким образом, номинальная сущность куска золота будет включать идеи желтизны, определенного веса, пластичности, растворимости в определенных химических веществах и так далее.
Локк предлагает нам полезную аналогию, чтобы проиллюстрировать разницу между реальными и номинальными сущностями. Он предполагает, что наша позиция по отношению к обычным объектам подобна позиции человека, смотрящего на очень сложные часы. Шестерни, колеса, гири и маятник, производящие движения стрелок на циферблате (истинная сущность часов), человеку неизвестны. Они спрятаны за кожухом. Он или она может знать только о наблюдаемых особенностях, таких как форма часов, движение стрелок и бой часов (номинальная сущность часов). Точно так же, когда я смотрю на такой объект, как одуванчик, я могу наблюдать только его номинальную сущность (желтый цвет, горький запах и т. д.). У меня нет четкого представления о том, что создает эти особенности одуванчика или как они возникают.
Взгляды Локка на реальные и номинальные сущности имеют важные последствия для его взглядов на деление объектов на группы и сорта. Почему одни вещи мы считаем зебрами, а другие — кроликами? Точка зрения Локка состоит в том, что мы группируемся в соответствии с номинальной сущностью, а не в соответствии с (неизвестной) реальной сущностью. Но следствием этого является то, что наши группировки могут быть не в состоянии адекватно отразить любые реальные различия, которые могут существовать в природе. Таким образом, Локк не является реалистом в отношении видов или типов. Наоборот, он конвенционалист. Мы проецируем эти разделения на мир, когда выбираем классифицировать объекты как подпадающие под различные номинальные сущности, которые мы создали.
Но следствием этого является то, что наши группировки могут быть не в состоянии адекватно отразить любые реальные различия, которые могут существовать в природе. Таким образом, Локк не является реалистом в отношении видов или типов. Наоборот, он конвенционалист. Мы проецируем эти разделения на мир, когда выбираем классифицировать объекты как подпадающие под различные номинальные сущности, которые мы создали.
ф. Религиозная эпистемология
Эпистемология религии (утверждения о нашем понимании Бога и наших обязанностей по отношению к нему) при жизни Локка вызывала огромные споры. Гражданская война в Англии, разразившаяся во времена юности Локка, была в значительной степени результатом разногласий по поводу правильного понимания христианской религии и требований религиозной веры. На протяжении семнадцатого века ряд фундаменталистских христианских сект постоянно угрожали стабильности английской политической жизни. А положение католиков и евреев в Англии было удручающим.
Итак, ставки были очень высоки, когда в 4. 18 Локк обсуждал природу веры и разума и их соответствующих областей. Он определяет разум как попытку обнаружить достоверность или вероятность посредством использования наших естественных способностей в исследовании мира. Вера, напротив, есть определенность или вероятность, достигаемая через сообщение, которое, как считается, изначально исходило от Бога. Поэтому, когда Смит ест картофельные чипсы и приходит к выводу, что они соленые, она верит в это вполне разумно. Но когда Смит верит, что Иисус Навин заставил солнце остановиться на небе, потому что она прочитала это в Библии (которую она считает божественным откровением), она верит в соответствии с верой.
18 Локк обсуждал природу веры и разума и их соответствующих областей. Он определяет разум как попытку обнаружить достоверность или вероятность посредством использования наших естественных способностей в исследовании мира. Вера, напротив, есть определенность или вероятность, достигаемая через сообщение, которое, как считается, изначально исходило от Бога. Поэтому, когда Смит ест картофельные чипсы и приходит к выводу, что они соленые, она верит в это вполне разумно. Но когда Смит верит, что Иисус Навин заставил солнце остановиться на небе, потому что она прочитала это в Библии (которую она считает божественным откровением), она верит в соответствии с верой.
Хотя поначалу кажется, что Локк выделил совершенно разные роли для веры и разума, следует отметить, что эти определения тонким образом ставят веру в подчинение разуму. Ибо, как объясняет Локк: «Что бы ни открыл БОГ, это, несомненно, правда; в этом нет никаких сомнений. Это надлежащий Объект Веры : Но будет ли это божественным Откровением или нет, Разум должен судить; который никогда не может позволить Разуму отвергнуть большее Свидетельство, чтобы принять то, что менее очевидно, и не позволить ему принимать Вероятность в противовес Знанию и Достоверности». (18.04.10, 695). Во-первых, Локк считает, что если какое-либо суждение, даже то, которое претендует на божественное откровение, противоречит ясному свидетельству разума, то ему не следует верить. Итак, даже если кажется, что Бог говорит нам, что 1+1=3, Локк утверждает, что мы должны продолжать верить, что 1+1=2, и мы должны отрицать, что откровение 1+1=3 было подлинным. Во-вторых, Локк считает, что для того, чтобы определить, явлено ли что-либо божественным откровением, мы должны использовать наш разум. Как мы можем определить, содержит ли Библия прямое откровение Бога, переданное через вдохновленных библейских авторов, или это работа простых людей? Только разум может помочь нам решить этот вопрос. Локк считает, что те, кто игнорирует важность разума в определении того, что является и что не является вопросом веры, виновны в «энтузиазме». И в главе, добавленной к более поздним изданиям Эссе Локк строго предостерегает своих читателей от серьезных опасностей, связанных с этим интеллектуальным пороком.
(18.04.10, 695). Во-первых, Локк считает, что если какое-либо суждение, даже то, которое претендует на божественное откровение, противоречит ясному свидетельству разума, то ему не следует верить. Итак, даже если кажется, что Бог говорит нам, что 1+1=3, Локк утверждает, что мы должны продолжать верить, что 1+1=2, и мы должны отрицать, что откровение 1+1=3 было подлинным. Во-вторых, Локк считает, что для того, чтобы определить, явлено ли что-либо божественным откровением, мы должны использовать наш разум. Как мы можем определить, содержит ли Библия прямое откровение Бога, переданное через вдохновленных библейских авторов, или это работа простых людей? Только разум может помочь нам решить этот вопрос. Локк считает, что те, кто игнорирует важность разума в определении того, что является и что не является вопросом веры, виновны в «энтузиазме». И в главе, добавленной к более поздним изданиям Эссе Локк строго предостерегает своих читателей от серьезных опасностей, связанных с этим интеллектуальным пороком.
Во всем этом Локк предстает как сильный умеренный. Сам он был глубоко религиозен и считал религиозную веру важной. Но он также чувствовал, что существуют серьезные ограничения тому, что можно оправдать апелляциями к вере. Вопросы, обсуждаемые в этом разделе, будут очень важны ниже, когда обсуждаются взгляды Локка на важность религиозной терпимости.
4. Политическая философия
Локк жил в очень богатое событиями время в английской политике. Гражданская война, Междуцарствие, Реставрация, Кризис изгнания и Славная революция произошли при его жизни. Большую часть своей жизни Локк занимал административные должности в правительстве и уделял очень пристальное внимание современным дебатам в области политической теории. Так что, возможно, неудивительно, что он написал ряд работ на политические темы. В этой области Локк наиболее известен своими аргументами в пользу религиозной терпимости и ограниченного правительства. Сегодня эти идеи распространены и широко распространены. Но во времена Локка они были в высшей степени новаторскими, даже радикальными.
Но во времена Локка они были в высшей степени новаторскими, даже радикальными.
а.
Два трактатаДва трактата Локка Два трактата о правительстве были опубликованы в 1689 году. Первоначально считалось, что они предназначались для защиты Славной революции и захвата Вильгельмом престола. Однако теперь мы знаем, что на самом деле они были составлены гораздо раньше. Тем не менее, они излагают точку зрения на правительство, приемлемую для многих сторонников Уильяма.
Первый трактат теперь представляет в первую очередь исторический интерес. Он принимает форму подробной критики работы под названием Patriacha Роберта Филмера. Филмер приводил довольно бесхитростные аргументы в пользу монархии божественного права. По его мнению, власть царей в конечном итоге возникла из владычества, которое Бог дал Адаму и которое передавалось по непрерывной цепи на протяжении веков. Локк оспаривает эту картину по ряду исторических причин. Возможно, что еще более важно, Локк также различает ряд различных типов господства или руководящей власти, которыми Филмер руководил вместе.
Расчистив почву в Первом трактате , Локк предлагает положительный взгляд на природу правительства в гораздо более известном Втором трактате . Часть стратегии Локка в этой работе заключалась в том, чтобы предложить иную версию происхождения правительства. В то время как Филмер предполагал, что люди всегда подчинялись политической власти, Локк утверждает обратное. По его словам, люди изначально находились в естественном состоянии. Естественное состояние было аполитичным в том смысле, что не было правительств и каждый человек сохранял все свои естественные права. Люди обладали этими естественными правами (в том числе правом пытаться сохранить свою жизнь, изъять невостребованные ценности и т. д.) потому, что они были даны Богом всему Своему народу.
Естественное состояние по своей природе нестабильно. Люди будут находиться под постоянной угрозой физической расправы. И они не смогут преследовать какие-либо цели, требующие стабильности и широкого сотрудничества с другими людьми. Локк утверждает, что правительство возникло в этом контексте. Люди, видя преимущества, которые можно было бы получить, решили отказаться от некоторых своих прав в пользу центральной власти, сохранив при этом другие права. Это имело форму контракта. В соглашении об отказе от определенных прав люди получат защиту от физического вреда, безопасность своего имущества и возможность взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми в стабильной среде.
Локк утверждает, что правительство возникло в этом контексте. Люди, видя преимущества, которые можно было бы получить, решили отказаться от некоторых своих прав в пользу центральной власти, сохранив при этом другие права. Это имело форму контракта. В соглашении об отказе от определенных прав люди получат защиту от физического вреда, безопасность своего имущества и возможность взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми в стабильной среде.
Итак, согласно этой точке зрения, правительства были учреждены гражданами этих правительств. Это имеет ряд очень важных последствий. С этой точки зрения правители обязаны реагировать на потребности и желания этих граждан. Кроме того, при создании правительства граждане отказались от некоторых, но не от всех своих первоначальных прав. Так что ни один правитель не мог претендовать на абсолютную власть над всеми элементами жизни гражданина. Это освободило важное место для определенных индивидуальных прав или свобод. Наконец, и это, пожалуй, самое главное, правительство, которое не смогло должным образом защитить права и интересы своих граждан, или правительство, пытающееся превысить свои полномочия, не смогло бы выполнить задачу, ради которой оно было создано. Таким образом, граждане будут иметь право восстать и заменить существующее правительство таким, которое будет надлежащим образом выполнять обязанности по обеспечению мира и гражданского порядка при соблюдении прав личности.
Таким образом, граждане будут иметь право восстать и заменить существующее правительство таким, которое будет надлежащим образом выполнять обязанности по обеспечению мира и гражданского порядка при соблюдении прав личности.
Итак, Локк смог использовать учет естественных прав и правительство, созданное по контракту, для выполнения ряда важных задач. Он мог бы использовать его, чтобы показать, почему люди сохраняют определенные права, даже когда они подчиняются правительству. Он мог бы использовать его, чтобы показать, почему деспотические правительства, которые пытались неправомерно ущемлять права своих граждан, были плохими. И он мог использовать его, чтобы показать, что граждане имеют право на восстание в тех случаях, когда правительства потерпели неудачу в определенных отношениях. Это мощные идеи, которые остаются важными даже сегодня.
Подробнее. см. статью Политическая философия.
б. Собственность
Второй трактат Локка о правительстве содержит авторитетное описание природы частной собственности. Согласно Локку, Бог дал людям мир и его содержимое, чтобы они были общими. Мир должен был обеспечить людей тем, что необходимо для продолжения и наслаждения жизнью. Но Локк также считал, что люди могут присваивать отдельные части мира и справедливо удерживать их для собственного исключительного использования. Иными словами, Локк считал, что мы имеем право приобретать частную собственность.
Согласно Локку, Бог дал людям мир и его содержимое, чтобы они были общими. Мир должен был обеспечить людей тем, что необходимо для продолжения и наслаждения жизнью. Но Локк также считал, что люди могут присваивать отдельные части мира и справедливо удерживать их для собственного исключительного использования. Иными словами, Локк считал, что мы имеем право приобретать частную собственность.
Локк утверждает, что мы приобретаем собственность, смешивая наш труд с некоторыми природными ресурсами. Например, если я обнаруживаю виноград, растущий на лозе, благодаря своему труду по сбору и сбору этого винограда я приобретаю право собственности на него. Если я найду пустое поле и затем использую свой труд, чтобы вспахать поле, затем посадить и вырастить урожай, я буду полноправным владельцем этого урожая. Если я срублю деревья в невостребованном лесу и сделаю из них стол, то этот стол будет моим. Локк накладывает два важных ограничения на то, каким образом собственность может быть приобретена путем смешения труда с природными ресурсами. Во-первых, есть то, что стало известно как оговорка об отходах. Нельзя брать столько имущества, чтобы часть его пропадала даром. Я не должен присваивать галлоны и галлоны винограда, если я могу съесть только несколько, а остальные в конечном итоге гниют. Если бы блага Земли были даны нам Богом, было бы неуместно допустить, чтобы часть этого дара пропала даром. Во-вторых, есть оговорка «Достаточно и как хорошо». Это говорит о том, что при присвоении ресурсов я должен оставить достаточно и столько же хорошего, чтобы другие могли их присвоить. Если бы мир был оставлен нам наедине Богом, было бы неправильно с моей стороны присваивать больше, чем мне положено, и не оставлять достаточных ресурсов для других.
Во-первых, есть то, что стало известно как оговорка об отходах. Нельзя брать столько имущества, чтобы часть его пропадала даром. Я не должен присваивать галлоны и галлоны винограда, если я могу съесть только несколько, а остальные в конечном итоге гниют. Если бы блага Земли были даны нам Богом, было бы неуместно допустить, чтобы часть этого дара пропала даром. Во-вторых, есть оговорка «Достаточно и как хорошо». Это говорит о том, что при присвоении ресурсов я должен оставить достаточно и столько же хорошего, чтобы другие могли их присвоить. Если бы мир был оставлен нам наедине Богом, было бы неправильно с моей стороны присваивать больше, чем мне положено, и не оставлять достаточных ресурсов для других.
После введения валюты и создания правительств природа собственности, очевидно, сильно меняется. Используя металл, из которого можно делать монеты и который не портится, как продукты питания и другие товары, люди могут накопить гораздо больше богатства, чем это было бы возможно в противном случае. Таким образом, оговорка об отходах, похоже, отпадает. И отдельные правительства могут устанавливать правила, регулирующие приобретение и распределение собственности. Локк знал об этом и много думал о природе собственности и о надлежащем распределении собственности внутри государства. Об этом свидетельствуют его труды по экономике, денежно-кредитной политике, благотворительности и системам социального обеспечения. Но взгляды Локка на собственность внутри государства привлекли гораздо меньше внимания, чем его взгляды на первоначальное приобретение собственности в естественном состоянии.
Таким образом, оговорка об отходах, похоже, отпадает. И отдельные правительства могут устанавливать правила, регулирующие приобретение и распределение собственности. Локк знал об этом и много думал о природе собственности и о надлежащем распределении собственности внутри государства. Об этом свидетельствуют его труды по экономике, денежно-кредитной политике, благотворительности и системам социального обеспечения. Но взгляды Локка на собственность внутри государства привлекли гораздо меньше внимания, чем его взгляды на первоначальное приобретение собственности в естественном состоянии.
г. Терпимость
Локк систематически размышлял о вопросах, касающихся религиозной терпимости, с первых лет своего пребывания в Лондоне, и хотя он опубликовал свое Epistola de Tolerantia ( Письмо о терпимости ) только в 1689 году, он закончил писать его за несколько лет до этого. . Вопрос о том, должно ли государство пытаться предписывать одну конкретную религию внутри государства, какие средства государства могут использовать для этого и как правильно относиться к тем, кто сопротивляется обращению в официальную государственную религию, был центральным для европейского политика со времен протестантской Реформации. Пребывание Локка в Англии, Франции и Нидерландах дало ему возможность познакомиться с тремя очень разными подходами к этим вопросам. Этот опыт убедил его в том, что по большей части людям должно быть разрешено исповедовать свою религию без вмешательства со стороны государства. Действительно, часть импульса для публикации Локка Письмо о веротерпимости появилось в связи с отменой Людовиком XIV Нантского эдикта, отнимавшего и без того ограниченные права протестантов во Франции и подвергавшего их гонениям со стороны государства.
Пребывание Локка в Англии, Франции и Нидерландах дало ему возможность познакомиться с тремя очень разными подходами к этим вопросам. Этот опыт убедил его в том, что по большей части людям должно быть разрешено исповедовать свою религию без вмешательства со стороны государства. Действительно, часть импульса для публикации Локка Письмо о веротерпимости появилось в связи с отменой Людовиком XIV Нантского эдикта, отнимавшего и без того ограниченные права протестантов во Франции и подвергавшего их гонениям со стороны государства.
Можно увидеть, что аргументы Локка в пользу терпимости относятся как к эпистемологическим взглядам Эссе , так и к политическим взглядам Двух трактатов . Относительно гносеологических воззрений Локка напомним вышеизложенное, что Локк считал объем человеческого знания крайне ограниченным. Возможно, мы не особенно хороши в определении правильной религии. Нет оснований полагать, что те, кто обладает политической властью, смогут открыть истинную религию лучше, чем кто-либо другой, поэтому им не следует пытаться навязывать свои взгляды другим. Вместо этого каждому человеку должно быть позволено следовать истинным убеждениям, насколько это возможно. Небольшой вред причиняется, если позволять другим иметь собственные религиозные убеждения. Действительно, может быть полезно разрешить множественность убеждений, потому что одна группа может в конечном итоге иметь правильные убеждения и склонить других на свою сторону.
Вместо этого каждому человеку должно быть позволено следовать истинным убеждениям, насколько это возможно. Небольшой вред причиняется, если позволять другим иметь собственные религиозные убеждения. Действительно, может быть полезно разрешить множественность убеждений, потому что одна группа может в конечном итоге иметь правильные убеждения и склонить других на свою сторону.
Что касается политических взглядов Локка, изложенных в «Двух трактатах» , Локк поддерживает терпимость на том основании, что принуждение к религиозному подчинению выходит за рамки надлежащей компетенции правительства. Люди соглашаются с правительствами с целью установления общественного порядка и верховенства закона. Правительства должны воздерживаться от принуждения к религиозному подчинению, потому что это не нужно и не имеет отношения к этим целям. Действительно, попытка навязать конформизм может положительно сказаться на этих целях, поскольку, вероятно, приведет к сопротивлению со стороны представителей запрещенных религий. Локк также предлагает, чтобы правительства терпимо относились к религиозным убеждениям отдельных граждан, потому что навязывание религиозных убеждений фактически невозможно. Принятие определенной религии — это внутренний акт, функция убеждений. Но правительства созданы для того, чтобы контролировать действия людей . Таким образом, правительства во многих отношениях плохо оснащены для обеспечения принятия определенной религии, потому что отдельные люди почти полностью контролируют свои мысли.
Локк также предлагает, чтобы правительства терпимо относились к религиозным убеждениям отдельных граждан, потому что навязывание религиозных убеждений фактически невозможно. Принятие определенной религии — это внутренний акт, функция убеждений. Но правительства созданы для того, чтобы контролировать действия людей . Таким образом, правительства во многих отношениях плохо оснащены для обеспечения принятия определенной религии, потому что отдельные люди почти полностью контролируют свои мысли.
Хотя взгляды Локка на терпимость были очень прогрессивными для того времени, и хотя его взгляды действительно имеют сходство с нашим современным мнением о ценности религиозной терпимости, важно признать, что Локк наложил на терпимость некоторые жесткие ограничения. Он не считал, что мы должны терпеть нетерпимых, тех, кто будет стремиться насильно навязать другим свои религиозные взгляды. Точно так же нельзя мириться с любой религиозной группой, представляющей угрозу политической стабильности или общественной безопасности. Важно отметить, что Локк включил в эту группу католиков. По его мнению, католики были принципиально преданы Папе, иностранному принцу, который не признавал суверенитет английского закона. Это сделало католиков угрозой гражданскому правительству и миру. Наконец, Локк также считал, что атеистов нельзя терпеть. Поскольку они не верили, что будут вознаграждены или наказаны за свои действия в загробной жизни, Локк не думал, что им можно доверять, чтобы они вели себя нравственно или выполняли свои договорные обязательства.
Важно отметить, что Локк включил в эту группу католиков. По его мнению, католики были принципиально преданы Папе, иностранному принцу, который не признавал суверенитет английского закона. Это сделало католиков угрозой гражданскому правительству и миру. Наконец, Локк также считал, что атеистов нельзя терпеть. Поскольку они не верили, что будут вознаграждены или наказаны за свои действия в загробной жизни, Локк не думал, что им можно доверять, чтобы они вели себя нравственно или выполняли свои договорные обязательства.
5. Богословие
Мы уже видели, что в Эссе Локк разработал описание веры в соответствии с верой и веры в соответствии с разумом. Вспомните, что агент верит в соответствии с разумом, когда он открывает что-то с помощью своих естественных способностей, и он верит в соответствии с верой, когда принимает что-то за истину, потому что понимает это как послание от Бога. Вспомните также, что разум должен решать, является ли что-либо посланием от Бога. Цель Локка Разумность христианства — показать, что разумно быть христианином. Локк утверждает, что у нас есть достаточно оснований полагать, что центральные истины христианства были переданы нам Богом через Его посланника, Иисуса из Назарета.
Локк утверждает, что у нас есть достаточно оснований полагать, что центральные истины христианства были переданы нам Богом через Его посланника, Иисуса из Назарета.
Для успеха проекта Локка ему нужно было показать, что Иисус предоставил своим первоначальным последователям достаточно доказательств того, что он был законным посланником от Бога. Учитывая, что многие люди в истории претендовали на получение божественного откровения, должно быть что-то особенное, что отличало Иисуса. Локк предлагает два соображения по этому поводу. Во-первых, Иисус исполнил ряд исторических предсказаний относительно прихода Мессии. Во-вторых, Иисус совершил ряд чудес, свидетельствующих о том, что у него были особые отношения с Богом. Локк также утверждает, что у нас есть достаточно оснований полагать, что эти чудеса действительно произошли, на основании свидетельств тех, кто был свидетелем их из первых рук, и надежной цепочки сообщений от времен Иисуса до наших дней. Этот аргумент приводит Локка к обсуждению типов и ценности свидетельства, которое многие философы сочли интересным само по себе.
Одной из поразительных особенностей Разумность христианства является требование спасения, которое поддерживает Локк. Споры о том, какие именно верования необходимы для спасения и вечной жизни на Небесах, были в основе многих религиозных разногласий во времена Локка. Различные конфессии и секты заявляли, что они, а часто только они, имеют правильные убеждения. Локк, напротив, утверждал, что для того, чтобы быть истинным христианином и достойным спасения, человеку нужно только верить в одну простую истину: что Иисус есть Мессия. Конечно, Локк считал, что в Библии есть много других важных истин. Но он думал, что эти другие истины, особенно те, которые содержатся в Посланиях, а не в Евангелиях, могут быть трудными для толкования и могут привести к спорам и разногласиям. Однако основной принцип христианства, что Иисус есть Мессия, был обязательной верой.
Делая требования христианской веры и спасения настолько минимальными, Локк был частью растущей фракции англиканской церкви. Эти люди, часто известные как сторонники широты, намеренно пытались создать более ироничное христианство, чтобы избежать конфликтов и разногласий, вызванных предыдущими междоусобицами. Таким образом, Локк вряд ли был единственным, кто пытался найти набор основных христианских обязательств, свободных от сектантского богословского багажа. Но Локк был все же несколько радикален; немногие богословы сделали требования к христианской вере настолько минимальными.
Эти люди, часто известные как сторонники широты, намеренно пытались создать более ироничное христианство, чтобы избежать конфликтов и разногласий, вызванных предыдущими междоусобицами. Таким образом, Локк вряд ли был единственным, кто пытался найти набор основных христианских обязательств, свободных от сектантского богословского багажа. Но Локк был все же несколько радикален; немногие богословы сделали требования к христианской вере настолько минимальными.
6. Образование
Многие в свое время считали Локка экспертом по вопросам образования. Он обучал многих студентов в Оксфорде, а также работал частным репетитором. Из переписки Локка видно, что его постоянно просили порекомендовать наставников и дать педагогический совет. Опыт Локка привел к его самой важной работе по этому вопросу: Некоторые мысли об образовании . Работа берет свое начало в серии писем, которые Локк написал Эдварду Кларку, предлагая советы по воспитанию детей Кларка, и была впервые опубликована в 169 г. 3.
3.
Взгляды Локка на образование были для того времени довольно дальновидными. Классические языки, обычно изучаемые с помощью утомительных упражнений, включающих механическое запоминание, и телесные наказания были двумя основными чертами английской образовательной системы семнадцатого века. Локк не видел особой пользы ни в том, ни в другом. Вместо этого он подчеркивал важность обучения практическим знаниям. Он признал, что дети лучше всего учатся, когда они вовлечены в предмет. Локк также предвосхитил некоторые современные педагогические взгляды, предполагая, что детям должна быть разрешена некоторая самостоятельная ориентация в процессе обучения и должна быть возможность преследовать свои интересы.
Локк считал, что очень важно уделять большое внимание обучению молодежи. Он понимал, что привычки и предубеждения, сформированные в юности, очень трудно сломать в более позднем возрасте. Таким образом, большая часть Некоторые мысли об образовании сосредоточены на морали и лучших способах прививать добродетель и трудолюбие. Локк отвергал авторитарные подходы. Вместо этого он отдавал предпочтение методам, которые помогли бы детям понять разницу между правильным и неправильным и развить собственное моральное чувство.
Локк отвергал авторитарные подходы. Вместо этого он отдавал предпочтение методам, которые помогли бы детям понять разницу между правильным и неправильным и развить собственное моральное чувство.
7. Влияние Локка
Эссе было быстро признано как важный философский вклад как его поклонниками, так и его критиками. Вскоре он был включен в учебную программу в Оксфорде и Кембридже, а его перевод на латынь и французский язык также привлек аудиторию на континенте. Два трактата также были признаны важным вкладом в политическую мысль. Хотя работа имела некоторый успех в Англии среди тех, кто благосклонно относился к Славной революции, ее основное влияние было за границей. Во время американской революции (и, в меньшей степени, во время Французской революции) к взглядам Локка часто обращались те, кто стремился установить более представительные формы правления.
В связи с этим последним пунктом Локк стал рассматриваться вместе со своим другом Ньютоном как воплощение ценностей и идеалов Просвещения. Ньютоновская наука обнажила бы работу природы и привела бы к важным технологическим достижениям. Философия Локка обнажила работу человеческого разума и привела к важным реформам в законодательстве и правительстве. Вольтер сыграл важную роль в формировании этого наследия Локка и усердно работал над популяризацией взглядов Локка на разум, терпимость и ограниченное правительство. Локк также стал источником вдохновения для движения деистов. Такие фигуры, как Энтони Коллинз и Джон Толанд, находились под сильным влиянием творчества Локка.
Ньютоновская наука обнажила бы работу природы и привела бы к важным технологическим достижениям. Философия Локка обнажила работу человеческого разума и привела к важным реформам в законодательстве и правительстве. Вольтер сыграл важную роль в формировании этого наследия Локка и усердно работал над популяризацией взглядов Локка на разум, терпимость и ограниченное правительство. Локк также стал источником вдохновения для движения деистов. Такие фигуры, как Энтони Коллинз и Джон Толанд, находились под сильным влиянием творчества Локка.
Локка часто называют основателем британского эмпиризма, и это правда, что Локк заложил основу большей части англоязычной философии в 18 и начале 19 веков. Но те, кто пошел по его стопам, не были беспрекословными последователями. Джордж Беркли, Дэвид Хьюм, Томас Рид и другие выступили с серьезной критикой. В последние десятилетия читатели пытались предложить более снисходительные реконструкции философии Локка. Учитывая все это, он сохранил важное место в каноне англоязычной философии.
8. Ссылки и дополнительная литература
a. Locke’s Works
- Laslett, P. [ed.] 1988. Два трактата о правительстве . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Локк, Дж. 1823. Работы Джона Локка . Лондон: Напечатано для Т. Тегга (10 томов).
- Локк, Дж. Издание Кларендона произведений Джона Локка , Oxford University Press, 2015. Это издание включает следующие тома:
- Ниддич, П. [ред.] 1975. Эссе о человеческом понимании .
- Ниддич, П. и Г.А.Дж. Роджерс [ред.] 1990. Наброски эссе о человеческом понимании .
- Йолтон, Дж.В. и Дж.С. Йолтон. [ред.] 1989. Некоторые мысли об образовании .
- Higgins-Biddle, J.C. [ed.] 1999. Разумность христианства .
- Милтон, Дж. Р. и П. Милтон. [ред.] 2006. Эссе о терпимости .
- де Бир, Э.С. [ред.] 1976-1989 гг. Переписка Джона Локка . (8 томов).
- фон Лейден, В.
 [ред.] 1954. Очерки закона природы . Оксфорд: Кларендон Пресс.
[ред.] 1954. Очерки закона природы . Оксфорд: Кларендон Пресс.
б. Рекомендуемая литература
Ниже приведены рекомендации для дальнейшего чтения о Локке. Каждая работа имеет краткое изложение с указанием содержания
- Anstey, P. 2011. John Locke & Natural Philosophy . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
- Тщательное исследование научного и медицинского мышления Локка.
- Айерс, М. 1993. Локк: эпистемология и онтология . Нью-Йорк: Рутледж.
- Классика изучения Локка. Исследует философские темы в Эссе и обсуждает проект Локка в целом. Один том по эпистемологии и один по метафизике.
- Chappell, V. 1994. The Cambridge Companion to Locke . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Серия эссе, посвященных всем аспектам мысли Локка.
- ЛоЛордо, А. 2012. Моральный человек Локка . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

- Исследование и обсуждение тем на стыке моральной и политической мысли Локка. Особое внимание уделяется свободе воли, личности и рациональности.
- Лоу, Э.Дж. 2005. Локк . Нью-Йорк: Рутледж.
- Вводный обзор философской и политической мысли Локка.
- Маки, Дж. Л. 1976. Задачи от Локка . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
- Использует работу Локка, чтобы поднять и обсудить ряд философских вопросов и головоломок.
- Newman, L. 2007. Кембриджский компаньон к эссе Локка о человеческом понимании . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Серия эссе, посвященных конкретным вопросам Локка Эссе .
- Пайл, А.Дж. 2013. Локк . Лондон: Политика.
- Превосходное и краткое введение в мысли Локка и исторический контекст. Очень хорошее место для старта для новичков.
- Риклесс, С. 2014. Локк . Молден, Массачусетс: Блэквелл.
- Вводный обзор философской и политической мысли Локка.

- Стюарт, М. 2013. Метафизика Локка . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
- Углубленное рассмотрение метафизических вопросов и проблем в Эссе .
- Уолдрон, Дж. 2002. Бог, Локк и равенство: христианская основа политической мысли Локка . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Исследование некоторых ключевых вопросов политической мысли Локка.
- Вулхаус, Р. 2009. Локк: Биография . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Лучшая и самая последняя биография жизни Локка.
Информация об авторе
Патрик Дж. Коннолли
Электронная почта: [email protected]
Lehigh University
U.S.A.
Представление реальности в философии средствами массовой информации. Репрезентация как субститут и идеология
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ССЫЛКА
ВВЕДЕНИЕ
Репрезентация — это просто акт подражания или акт подражания, когда люди идентифицируют себя с помощью своих средств подражания видеть себя в других и воспринимать состояние взаимного равенства. Представление реальности может относиться к подобию, подобию и символизации мира, когда мы принимаем его как трансформацию мифа. Идея репрезентации на ее простом уровне включает в себя наше понимание действия репрезентации и того, как мы определяем это действие. В этом эссе подробно описывается репрезентация реальности в средствах массовой информации, как это было описано ключевыми теоретиками и их теориями в классическую эпоху, и далее объясняется репрезентация как заменитель, а также как идеология.
Представление реальности может относиться к подобию, подобию и символизации мира, когда мы принимаем его как трансформацию мифа. Идея репрезентации на ее простом уровне включает в себя наше понимание действия репрезентации и того, как мы определяем это действие. В этом эссе подробно описывается репрезентация реальности в средствах массовой информации, как это было описано ключевыми теоретиками и их теориями в классическую эпоху, и далее объясняется репрезентация как заменитель, а также как идеология.
Классический век относится к античному периоду до рождения Иисуса Христа (Auerbach, E, 1974). Среди ключевых философов того периода были такие люди, как Платон, древнегреческий философ; Аристотель, который также является греческим философом и учеником Платона; святой Фома Аквинский, богослов из Италии; Галилео Галилей, итальянский врач, астроном и философ, и, наконец, что не менее важно, Фрэнсис Бэкон, английский философ и лидер научной революции. Я критически проведу глубокий анализ/обсужу репрезентацию, как обрисовано в общих чертах этими философами, и я также выделю репрезентацию как заменитель и идеологию.
Прежде всего давайте рассмотрим Платона, который в диалоге берет «представление» с несколькими значениями и коннотациями и изменяет термин в соответствии с контекстом, в котором он его использует. Платона, возможно, можно назвать виновником идеи о том, что репрезентациям не хватает правды или «реального» качества. Платон рассматривал репрезентацию как подражание или « мимесис». ’ (Аннас, 1982)
Для Платона более двух тысяч лет назад образ был представлением чего-то и не был, не мог быть оригиналом. Это всегда было подражанием и всегда не имело ценности по сравнению с оригиналом, поскольку это не было оригиналом, это должно было быть симулякром, ложной претензией на существование. (Аннас, 19 лет82)
Платоновский симулякр ставит под вопрос всю связь между реальными объектами и их копиями, а также отдает приоритет двум сущностям с точки зрения ценности. Платон рассматривает «представление» как уподобление себя другому в речи и телесном поведении и как обращение к низшей части души человека; он также обращается к эпистемологии и метафизике концепции. (Весна 1985 г.)
(Весна 1985 г.)
Противореча этому, Аристотель, который, как известно, является учеником Платона, не ссылается на подражание идее и внешнему виду, как у Платона. Аристотель рассматривает репрезентацию как знак и утверждает, что каждая область знаний имитируется в том смысле, что как человеческие существа мы все учимся через подражание (Annas, 19).82)
Согласно Анджело (1985), Аристотель первым занялся «репрезентацией» как теорией искусства. Он останавливается на понятии репрезентации как эстетической теории искусства и рассматривает подражание с точки зрения формы, в которой оно воплощено. Аристотель утверждает, что все человеческие действия миметичны и что люди учатся через подражание, например. в теории социального обучения Альберта Бандуры говорится, что мы учимся, подражая с раннего возраста. В частности, для него «изобразительность» является отличительной чертой искусства.
Для Платона художник был не чем иным, как подражателем. Этот подражатель, претендуя на то, чтобы представлять реальное, сделал не что иное, как репрезентацию мнения о реальном. Ученик Платона Аристотель, может быть, более дипломатично, чем Платон, описывал изображение нарисованной фигуры не как подобие персонажа, а скорее как знак характера. Аристотель рассматривает репрезентацию реальности как относящуюся к кому-то или чему-то, но не пытается изображать из себя этого кого-то или что-то (Саммерс, 19).96:6).
Ученик Платона Аристотель, может быть, более дипломатично, чем Платон, описывал изображение нарисованной фигуры не как подобие персонажа, а скорее как знак характера. Аристотель рассматривает репрезентацию реальности как относящуюся к кому-то или чему-то, но не пытается изображать из себя этого кого-то или что-то (Саммерс, 19).96:6).
Однако он тщательно проводит различие между различными видами знания, т.е. он утверждает, что искусство и философия имеют дело с разными видами истины; философия имеет дело с конкретной и абсолютной истиной, тогда как искусство имеет дело с эстетической и универсальной истиной. Аристотель рассматривает репрезентацию как активный эстетический процесс. (Crane, R, S & Keats, W, R et al, 1996)
Платон и Аристотель придавали термину «представление» разные значения. Платон рассматривает репрезентацию в этическом и политическом контексте, тогда как Аристотель использует репрезентацию как эстетический феномен и как деятельность художника, как я объяснил в предыдущем абзаце; они оба согласны с тем, что поэзия миметична, но имеют разные представления о поэзии и репрезентации. (Саммерс, 1996)
(Саммерс, 1996)
Платон и Аристотель утверждают, что художник (Демиург) и поэт подражают природе, таким образом, произведение искусства есть отражение природы. Однако у них разные взгляды на функции подражания в искусстве и литературе. Платон верит в существование идеального мира, где существует реальная форма каждого предмета, встречающегося в природе. Произведение искусства, отражающее природу и вдвойне далекое от той реальности, которую оно представляет. Аристотель, с другой стороны, не имеет дела с идеальным миром, вместо этого он анализирует природу. Он утверждает, что произведение искусства подражает природе не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть. В этом смысле художник не нарушает истину, а отражает действительность.
Платона больше всего заботит публичное чтение драматической и эпической поэзии, а у Платона есть соперничество между философией и поэзией. Поэт всячески влияет на характер юноши и оказывает тлетворное влияние на воспитание юного ума. Кроме того, поэты не обладают истинным знанием вещей. Платон предполагает, что эмоциональный призыв представляет собой угрозу разуму, что миметическое искусство далеко от реальности, что поэт несерьезен, ничего не знает о поэзии и не может дать удовлетворительных сведений о своем искусстве.
Кроме того, поэты не обладают истинным знанием вещей. Платон предполагает, что эмоциональный призыв представляет собой угрозу разуму, что миметическое искусство далеко от реальности, что поэт несерьезен, ничего не знает о поэзии и не может дать удовлетворительных сведений о своем искусстве.
Очевидно, что он сопротивляется концепции подражания в случае поэтического сочинения. Трагедия в частности и поэзия вообще имеют дело скорее с наслаждением, чем с наставлением, а так как в пьесе нельзя подражать мудрому и тихому человеку, так как такой человек не соответствует содержанию трагедии, то «изображение» этически отвлекает. Поэтому функция различных дискуссий о изобразительном искусстве в республике этическая; везде, где он упоминает об искусстве, он обсуждает его в связи с воспитанием и этикой (Annas, 1982).
Хотя Аристотель соглашается с Платоном в том, что поэзия способна вызывать эмоции, он не уделяет много внимания этическим и эпистемологическим аспектам «репрезентации». Однако он останавливается на удовольствии, которое люди получают от обучения, и утверждает, что трагедия разряжает чувства и зрители покидают спектакль в состоянии покоя, свободного от страстей.
Однако он останавливается на удовольствии, которое люди получают от обучения, и утверждает, что трагедия разряжает чувства и зрители покидают спектакль в состоянии покоя, свободного от страстей.
Платон беспокоится о нравственном воздействии поэзии, тогда как Аристотель ударяет в психологию и снова и снова возвращается к содроганию ужаса и жалости, которые трагедия вызывает у зрителя, который поэтому повторяет или подражает тому, что уже произошло на сцене. А тот, в свою очередь, зритель повторяет или имитирует то, что уже произошло (Филипп, 19 лет).96)
Платон утверждает, что существует двойственность между искусством (представлением и повествовательным искусством) и этикой. Такой способ репрезентации (олицетворения), по Платону, ведет к утрате себя или трансформации идентичности и становится делом нравственного разрушения. Аристотель также принимает ту же деятельность олицетворения, но по-другому. (Gerathy, 1996:275)
Через несколько лет средневековый католический богослов Фома Аквинский признал вертикальную природу, которую теперь приняло символическое представление; нижний стих, который указывает на точки, представляющие высшего Бога.

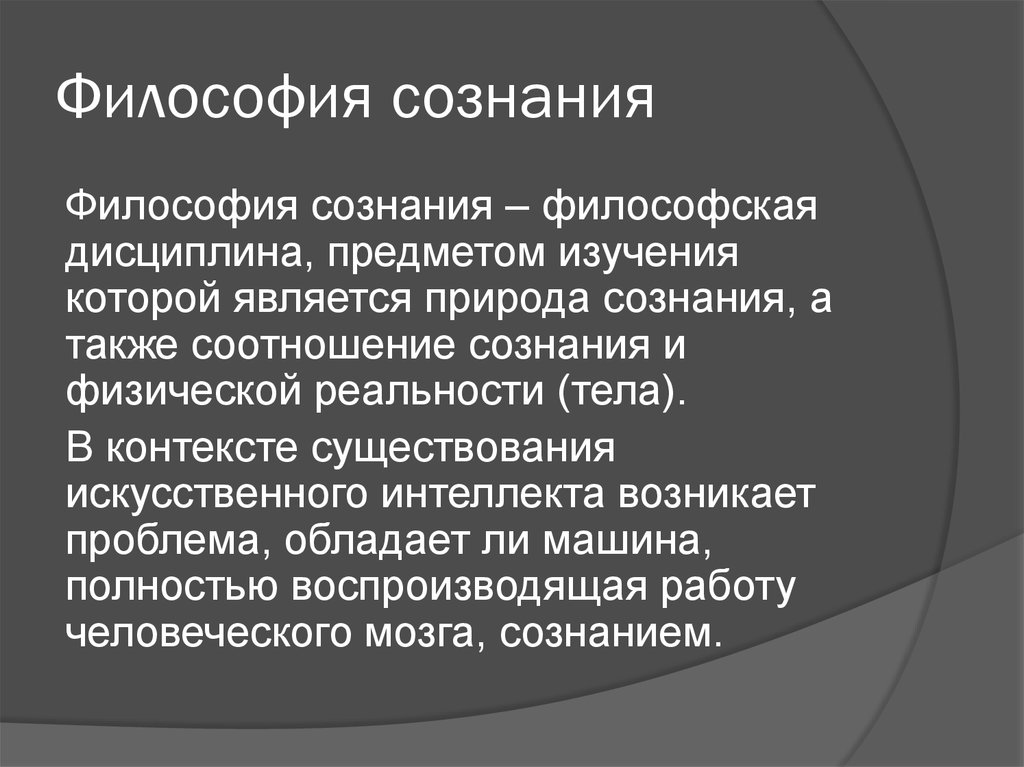
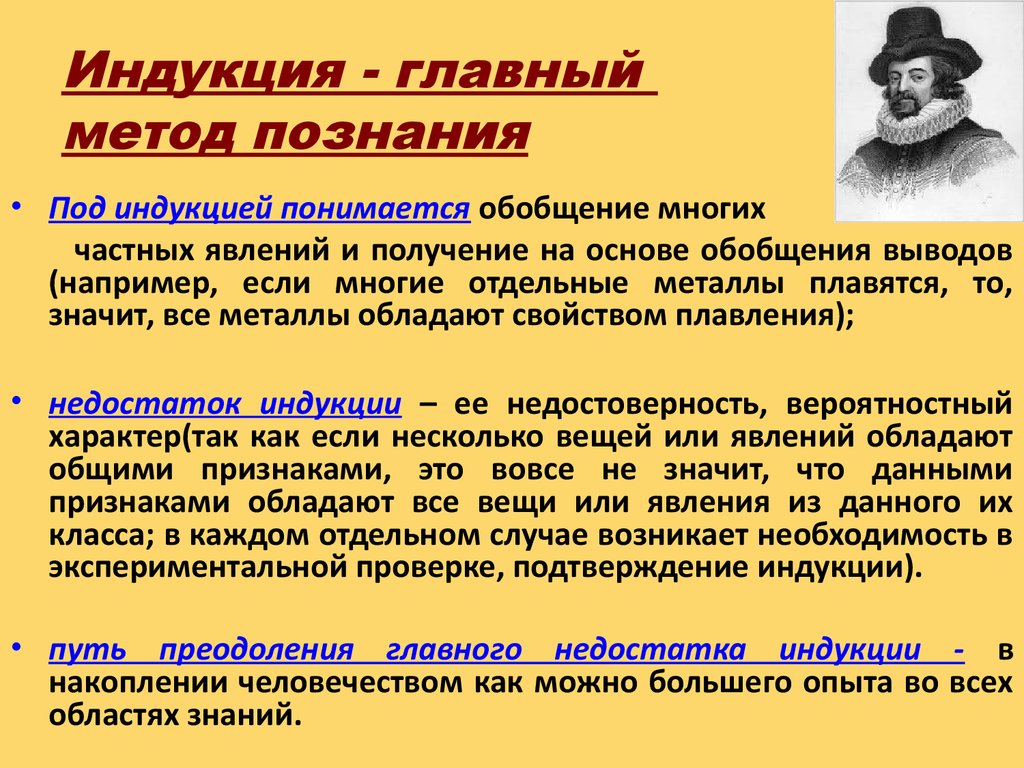
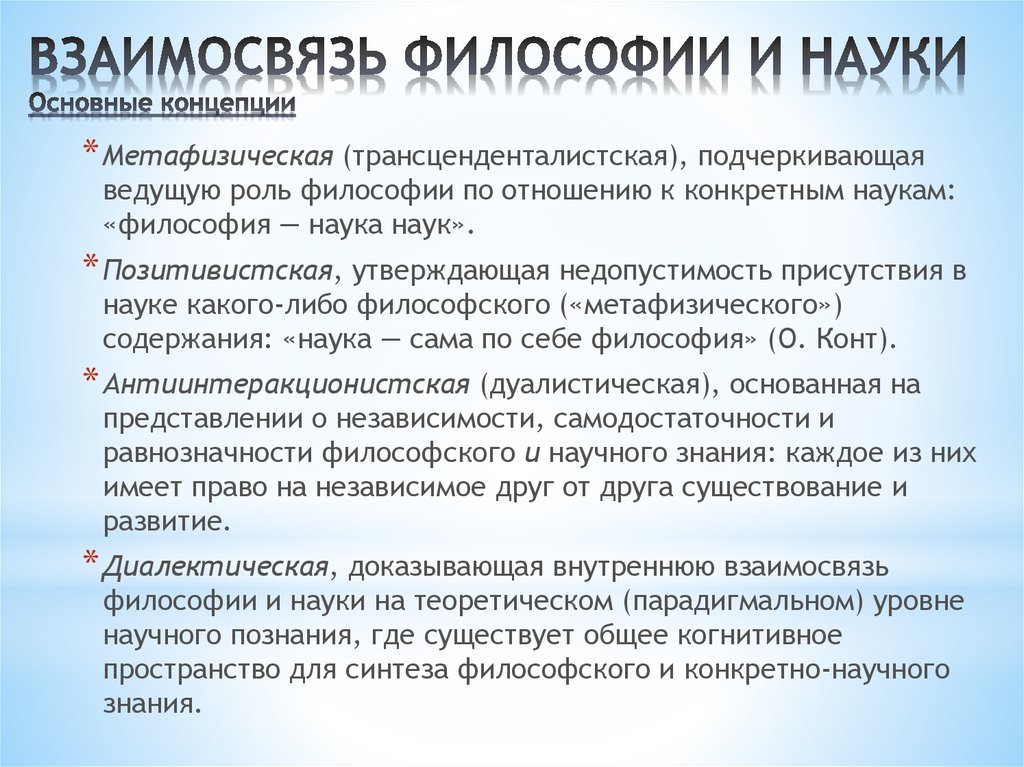
 Оно зависит от интерпретационных принципов, предрасполагающих нас к тому, что нам предстоит увидеть, и управляется канонами, принятыми в культуре. Любая модель — аналогии и «как будто» конструкции, математические модели, вычислительные устройства или механизмы вывода, вообще аппроксимативные репрезентации разной степени истинности — представляет собой не только внешний мир, но и самого познающего субъекта. Репрезентация вовсе не стремится к адекватности и не «регрессирует» в направлении к «подлинному объекту»; она, скорее, «регрессирует» от него в направлении к канонам и образцам, обладающим большой степенью конвенциональности, соответствующей эволюции различных форм деятельности, практики; поэтому репрезентация не может быть сведена к простому сходству и отображению. Так, фундаментальные каноны «визуального понимания» в европейской культуре выведены из геометрической оптики И. Ньютона. Они стали образцами нашего визуального понимания, или «здравого смысла», поэтому могут оказывать влияние на наше восприятие окружающей среды, что, в свою очередь, связано с обучением, образованием в целом как формированием способа видения окружающего мира.
Оно зависит от интерпретационных принципов, предрасполагающих нас к тому, что нам предстоит увидеть, и управляется канонами, принятыми в культуре. Любая модель — аналогии и «как будто» конструкции, математические модели, вычислительные устройства или механизмы вывода, вообще аппроксимативные репрезентации разной степени истинности — представляет собой не только внешний мир, но и самого познающего субъекта. Репрезентация вовсе не стремится к адекватности и не «регрессирует» в направлении к «подлинному объекту»; она, скорее, «регрессирует» от него в направлении к канонам и образцам, обладающим большой степенью конвенциональности, соответствующей эволюции различных форм деятельности, практики; поэтому репрезентация не может быть сведена к простому сходству и отображению. Так, фундаментальные каноны «визуального понимания» в европейской культуре выведены из геометрической оптики И. Ньютона. Они стали образцами нашего визуального понимания, или «здравого смысла», поэтому могут оказывать влияние на наше восприятие окружающей среды, что, в свою очередь, связано с обучением, образованием в целом как формированием способа видения окружающего мира.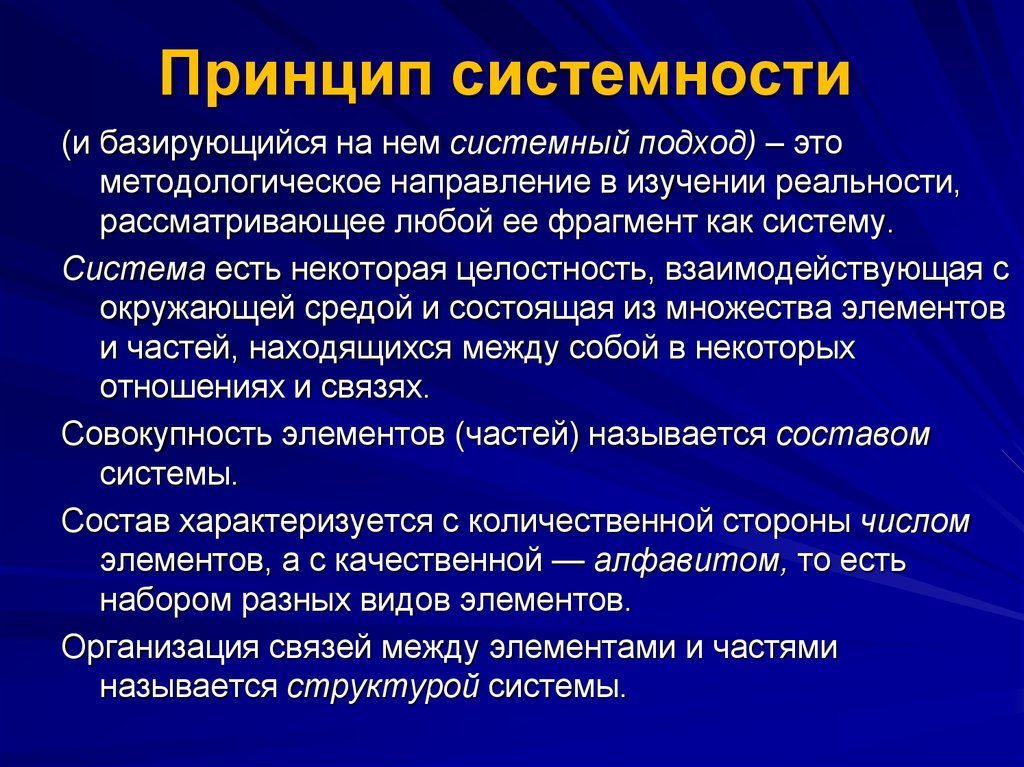

 L’essor des images et l’éclipse du littéraire…; Gauvard 2015. ↩
L’essor des images et l’éclipse du littéraire…; Gauvard 2015. ↩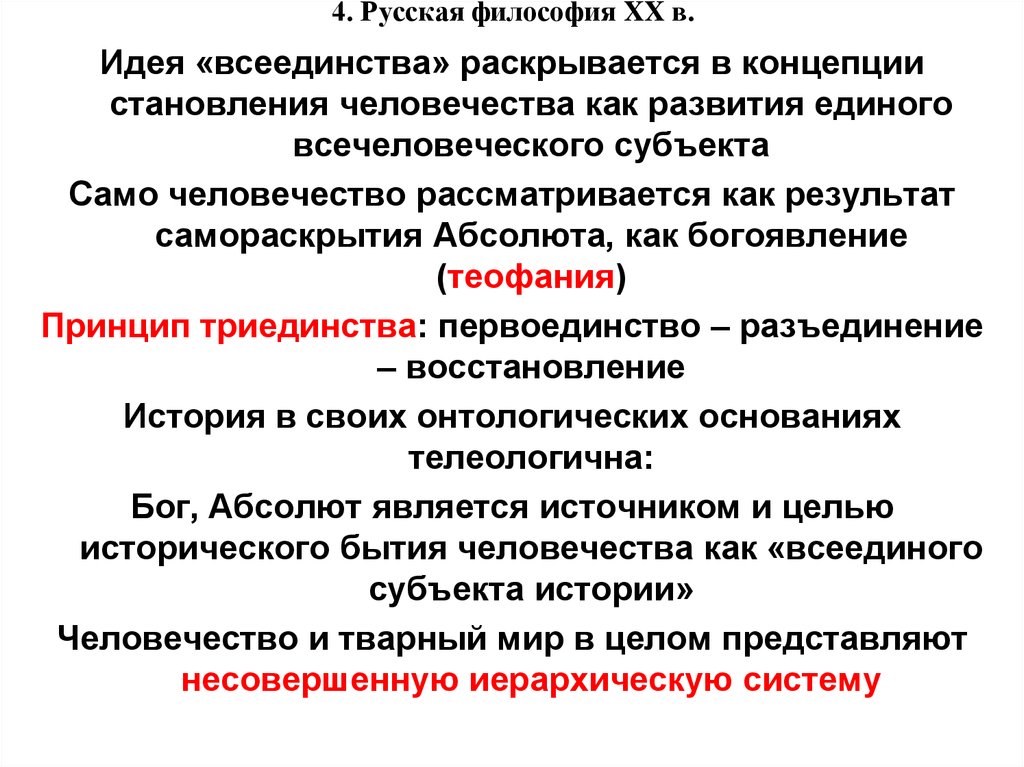 P. 323-328. ↩
P. 323-328. ↩ ↩
↩