Скептическое отношение к познавательной связи явления и вещи как начало скептической философии науки28
Секст Эмпирик считал, что основное “начало скепсиса лежит главным образом в том, что всякому положению можно противопоставить другое, равное ему; вследствие этого, как кажется, мы приходим к необходимости отказаться от всякого рода догм”29. Скептическое мышление в античной философии возникает и формируется как альтернатива догматическому философскому мышлению. Центральным в противопоставлении этих двух методов философствования является понятие догмы, соответственно положительное и отрицательное отношение к нему.
Античный скептик не признавал ничего неочевидного. Сомнения скептика касаются не явления, а того, что говорится о явлении.
Скептическое философствование столь же универсально, как и догматическое. Это дает возможность ставить вопрос о возможности скептической философии науки. Античный скептик считал, что он занимается “изучением природы не для того, чтобы высказываться с твердой уверенностью относительно какой-либо догмы, определяемой изучением природы, но ради того, чтобы иметь возможность противопоставить всякому положению равносильное”

Эмпирической
основой скептического отношения человека
к миру, основой скептического мышления
и в особенности скептического
философствования являются многообразные
факты плюрализма в истории культуры:
от плюрализма социального бытия до
плюрализма социально закрепленных
способов мышления, то есть описания,
объяснения и предсказания феноменов
нашего опыта. Культура бытия человека
организована таким образом, что бытовавшие
в истории культуры способы бытия и
мышления не сходят на нет, а продолжают
функционировать в маргинальных условиях.
В какой мере принципом генезиса и
функционирования культуры является
воображение, в такой мере культуре
свойственны непрерывные процессы
взаимовытеснения и взаимозамещения
способов бытия и мышления. Так,
мифологический, метафизический и
сциентистский способы мышления не
столько сменяют друг друга в якобы
поступательном ходе истории, сколько
сосуществуют и взаимодействуют в
конкретном опыте бытия человека в мире.
Наличное многообразие способов мышления,
подкрепленное функционированием воли
соответствующих социальных групп,
является фундаментальным фактом научного
знания.
Характерной особенностью скептического мышления является противопоставление явления мыслимому предмету. Явление понимается как ощущаемое, которое противополагается мыслимому. Скептик не отрицает мировоззрения. Его мировоззрение строится на принципе соответствия явлению. Скептик изучает природу не для того, чтобы иметь твердое знание о вещи самой по себе, а для того, чтобы иметь возможность противопоставить всякому положению равносильное. Явление есть то, что мы испытываем вследствие представления. Предметом сомнения оказывается для скептика не явление, а вещь сама по себе. Скептик живет в соответствии с жизненными наблюдениями. В процессе познания неявное должно быть удостоверено явным.
Различение
явного и неявного применительно к вещи
актуально для скептического мышления.
Принимается, что вещи бывают двух типов
— явные и неявные. Явные вещи являются
объектами чувственных восприятий.
Неявные вещи невоспринимаемы. Поэтому
чувственность соединена с мышлением в
процессе познания вещей. Скептический
метод в анализе познания, науки состоит
в сведении анализируемой ситуации к
апории, к противоречию. Если догматически
мыслящий философ, ученый полагает, что
явление необходимо утверждать (оно
самое достоверное, а противоположное
им утверждение самоотрицаемо), то скептик
видит апорийность такой позиции
догматика.
Скептический
метод в анализе познания, науки состоит
в сведении анализируемой ситуации к
апории, к противоречию. Если догматически
мыслящий философ, ученый полагает, что
явление необходимо утверждать (оно
самое достоверное, а противоположное
им утверждение самоотрицаемо), то скептик
видит апорийность такой позиции
догматика.
Скептическая философия науки формируется как так называемый скептический анализ принципов и форм научного мышления, познания. В процессе скептического анализа приводятся к апориям понятия движения, пространства, времени, числа, единицы, точки, линии, плоскости, объемного тела и другие. Вначале констатируется различие точек зрения на предмет. Скажем, относительно природы движения приводится три точки зрения — движение существует, не существует, а также оно существует не больше, чем не существует: что касается явлений, то какое-то движение существует, а с точки зрения философского рассуждения оно не существует
31. Если же движение существует, то как оно воспринимается? Сопоставление двух различных точек зрения создает апорийную ситуацию. Согласно одной позиции,
движение воспринимается чувственными
восприятиями. Согласно другой — через
посредство чувственного восприятия
мыслью.
Согласно одной позиции,
движение воспринимается чувственными
восприятиями. Согласно другой — через
посредство чувственного восприятия
мыслью.Аналогично приводится к апории вопрос о существовании времени. Различные точки зрения на сущность времени приводятся к апории. Если, например, считать временем само движение мира, то возможна такая апория: всякое движение происходит во времени, поэтому и движение мира произойдет во времени. Но время не происходит во времени… Поэтому нельзя сказать, что время есть само движение мира.
Апорийными
оказываются утверждения науки относительно
таких исходных понятий, как точка, линия,
поверхность, тело. Точка, например,
мыслится либо как нечто телесное или
как бестелесное. Но согласно посылкам
геометрии, точка не имеет протяжения,
следовательно, она бестелесная сущность.
При этом геометры постулируют, что точка
способна порождать линию, линия —
поверхность, которая ограничивает тело.
Следовательно, точка становится телесной,
что противоречиво, апорийно: “начала
геометрии оказываются лишенными всякой
реальной основы”32.
Для прояснения возможностей и специфики скептического способа философствования целесообразно прояснить установки скептицизма Д. Юма. Философ подчеркивал, что ни он, ни кто-либо другой никогда не придерживался искренне и постоянно мнения о том, что “все недостоверно и наш рассудок ни к чему не может применять никаких мерил истинности и ложности”
33. Природа предписала нам высказывать суждения, дышать, чувствовать. Мы не можем воздержаться от попыток ясно видеть окружающие предметы и ясно мыслить. Требования полного скептицизма невыполнимы. Не нужно обосновывать возможность суждения в условиях, когда природа сама наделила нас способностью суждения. Направленность скептицизма Юма состоит в том, чтобы обосновать истинность гипотезы, согласно которой “все наши суждения относительно причин и действий основаны исключительно на привычке и вера является актом скорее чувствующей, чем мыслящей части нашей природы”34. Юм показывал, что те же самые принципы, которые заставляют нас приходить к суждению о каком-либо предмете, при своем дальнейшем применении к каждому новому рефлексивному суждению должны привести к минимизации первоначальной очевидности, к уничтожению всякой веры и всякого мнения.
Отсюда Юм делает вывод относительно природы веры. Он ставит вопрос так: является ли вера простым актом мышления или особым способом представления предмета. Если бы вера была простым актом рассуждения, то она с необходимостью должна была бы уничтожить как саму себя, так и парализовать саму нашу природную способность суждения. Но опыт показывает, что существуют как вера, так и наша способность суждения. Отсюда Юм делает вывод, что наши “рассуждение и вера — это некоторое ощущение или особый способ представления, который нельзя устранить при помощи одних лишь идей или размышлений”35.
Исследование
соотношения догматического философствования
и философствования скептического
предполагает рассмотрение соотношения
разума и веры, догматического разума и
разума скептического, способности
суждения и философского мышления. Вера
может быть понята как живое представление,
основанное на естественном психологическом
отношении к миру. Разум допустимо
осмыслить как понятийное мышление.
 , 1966, 294). Думается, что ответом
на этот вопрос может быть констатация
приоритета практических интересов.
, 1966, 294). Думается, что ответом
на этот вопрос может быть констатация
приоритета практических интересов.Скептические аргументы являются определенным вариантом реализации нашей способности суждения. Если скептические аргументы сильны, то “это доказывает, что разум может обладать некоторой силой и авторитетностью; если же они слабы, они никогда не будут в состоянии лишить силы все заключения нашего познания”
37. Интересна и поучительна оценка Юмом этого аргумента в защиту способности разума судить. Юм считает, что этот аргумент сторонников нескептического философствования ошибочен. Если скептически настроенный рассудок не уничтожает сам себя своими скептическими аргументами, то скептические рассуждения “попеременно были бы сильными и слабыми в зависимости от попеременных настроений нашего ума”. Здесь отчетливо обнаруживается характерный психологизм аналитически-скептической программы Юма. Если анализ скептических аргументов о соотношения способности суждения и способности веры осуществлять в логико-эпистемологическом аспекте, состояние настроений нашего ума не будет иметь для результатов анализа существенного значения.
Вопрос о соотношении скептицизма и догматизма в философии может быть редуцирован к вопросу о соотношении скептического разума и разума догматического. Юм полагает, что “разум скептический и разум догматический однородны, хотя и противоположны по действиям и целям”
что это и в чем подвох?
Автор публикации
Стародубцева Вера
Глава АССА в России
Не секрет, что во многих профессиях объективность и непредвзятость являются одними из ключевых ингредиентов для достижения успеха. Например, медицина, аналитика, журналистика, – эти специальности требуют экспертов, способных отгородиться от собственных чувств и трезво взглянуть на ситуацию. В сфере финансов это качество играет еще более важную роль, ведь от непредвзятости и нейтральности аудитора зависит результат финансовой ревизии. Без развитого профессионального скептицизма продвижение по карьерной лестнице может значительно осложниться.
В сфере финансов это качество играет еще более важную роль, ведь от непредвзятости и нейтральности аудитора зависит результат финансовой ревизии. Без развитого профессионального скептицизма продвижение по карьерной лестнице может значительно осложниться.
Что же такое профессиональный скептицизм?
Понятие профессионального скептицизма получило особое внимание политиков и регуляторов после глобального финансового кризиса. Профессиональный скептицизм имеет отношение к сфере когнитивистики1, поэтому для его менеджмента необходимо учитывать психологические особенности человека.В рамках международных аудиторских стандартов это понятие определяется как подход, при котором аудитор критически оценивает весомость полученных доказательств. Осуществление этого подхода подразумевает под собой критический склад ума, а также способность выявлять условия, которые могут свидетельствовать о возможных несовпадениях в результате ошибки или мошенничества.
Профессиональный скептицизм можно определить, как совершенно необходимое качество аудитора, которое помогает избегать неверных выводов.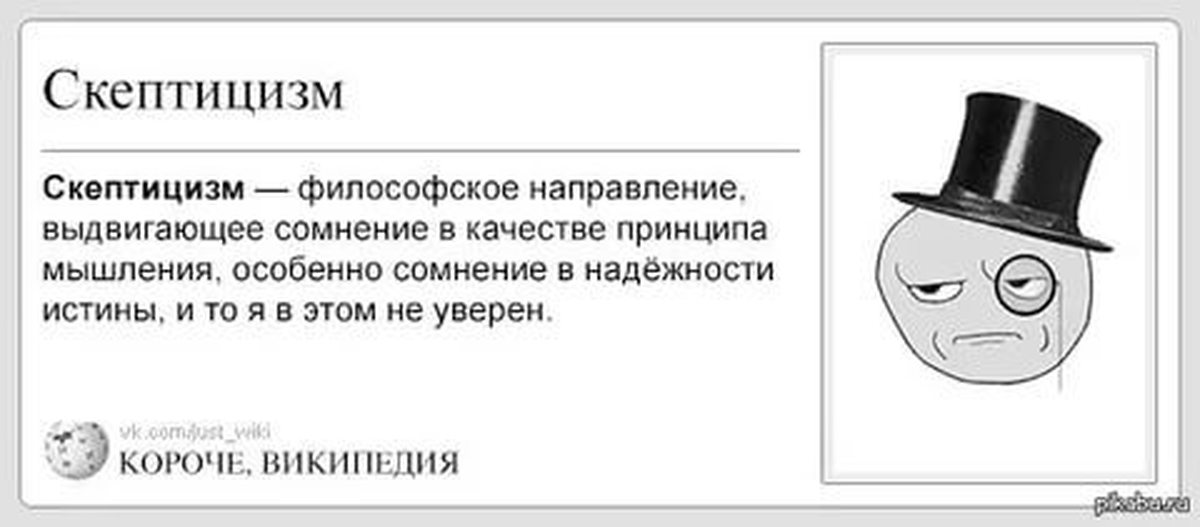 Иными словами, профессионалы отдают себе отчет в том, что в силу различных объективных и субъективных обстоятельств ситуация может представать в ложном свете и содержать различные ошибки.
Иными словами, профессионалы отдают себе отчет в том, что в силу различных объективных и субъективных обстоятельств ситуация может представать в ложном свете и содержать различные ошибки.
Многие считают, что профессиональный скептицизм – это особый склад ума, состояние души. Отчасти это справедливое утверждение, однако, критическому мышлению зачастую препятствуют так называемые когнитивные искажения, своего рода, систематические ошибки в мышлении человека или шаблонные отклонения. Некоторые из них являются следствием эволюционной адаптации, другие возникают из-за отсутствия соответствующих навыков мышления.
Существует три основные причины появления когнитивных искажений в сфере финансов и аудита:
- Слишком большой объем информации для анализа;
- Неоднозначность полученной информации;
- Необходимость решительных действий в условиях ограниченного времени.
 Фактически, аудитор всегда находится в состоянии недостатка ресурсов. Отчасти это и объясняет, почему аудит дает разумную, но не абсолютную, гарантию:
Фактически, аудитор всегда находится в состоянии недостатка ресурсов. Отчасти это и объясняет, почему аудит дает разумную, но не абсолютную, гарантию:- Информационная асимметрия. Клиент всегда знает о своем бизнесе больше, чем аудитор.
- Временные ограничения. У аудитора всегда гораздо меньше времени для формирования представления о ситуации.
- Эффект знания задним числом: привычка переценивать предсказуемость событий после того, как они уже произошли. Академические исследования выявили, что этот эффект может воздействовать на представителей органов, контролирующих аудиторскую деятельность. В России функцию контроля осуществляют уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством РФ, и внешние аккредитованные профессиональные аудиторские объединения. У представителей этих органов из-за знания о вероятных недочетах и упущениях может создаться впечатление, что подобные ошибки можно было предвидеть и не допускать.

- Отклонение в сторону результата: склонность судить о решениях по их результатам, вместо того чтобы оценивать качество решений по обстоятельствам того момента времени, когда они были приняты. Например, при оценке умений младших аудиторов проверяющие – то есть старшие аудиторы – могут делать выводы об успешности проделанной работы, основываясь на том, удалось ли младшему персоналу выполнить задание. Таким образом, из-за этого искажения те, кто не выполнил или выполнил не до конца, подвергаются критике. Это может повлиять на уверенность младших аудиторов в своих действиях и воспрепятствовать стремлению прояснить возникшую ситуацию. В случае если подобная тенденция будет наблюдаться в дальнейшем, это может привести компанию к неэффективной, излишне скрупулезной работе.
- Склонность к подтверждению своей точки зрения: феномен, при котором люди переоценивают аргументы, подтверждающие их точку зрения, и недооценивают аргументы, которые эту точку зрения опровергают.
 В случае, когда аудитор уверен в отсутствии противоречий и ошибок, он может недооценить доказательства, говорящие об обратном.
В случае, когда аудитор уверен в отсутствии противоречий и ошибок, он может недооценить доказательства, говорящие об обратном. - Эффект первенства: первичная информация видится более весомой, чем вся последующая.
- Эвристика доступности: склонность переоценивать значимость доступной информации. Проявление этого искажения заключается в иллюзии, что доступной информации достаточно для принятия взвешенного решения и дополнительные материалы не нужны.
- Феномен группового мышления: стремление людей достичь единого решения без достаточной критической оценки. Ситуация, когда в коллективе желание сохранить гармонию преобладает над рациональностью.
- Эффект сверхуверенности: переоценка собственных возможностей. Негативно влияет на все этапы аудита. Также проявляется в том, что старший аудитор считает свою точку зрения более правильной, нежели точку зрения младшего аудитора.

- Эффект новизны (так называемая аберрация близости): последняя и свежая информация воспринимается более существенной, чем предыдущая.
- Эффект субаддитивности: частные случаи представляются более вероятными, чем общие. Анализируя риск материальных ошибок, аудитору могут представляться более вероятными специфичные риски.
- Селективное восприятие: ожидания влияют на восприятие информации. Например, в случае, если аудитор считает, что в документах имеют место быть проявления обмана, он будет более внимателен и вдумчив.
- Стереотипизация: ожидание от члена группы определённых характеристик без знания какой-либо дополнительной информации о его индивидуальности.
- Эффект слепого пятна: тенденция думать, что когнитивным искажениям подвержены только другие люди, неприятие собственных искажений.
 Поддержание надлежащего уровня профессионального скептицизма требует большей бдительности в отношении возможных искажений в некоторых областях и меньшей бдительности в других.
Поддержание надлежащего уровня профессионального скептицизма требует большей бдительности в отношении возможных искажений в некоторых областях и меньшей бдительности в других.Разумеется, полностью избавиться от когнитивных предубеждений вряд ли представляется возможным, так как этот механизм развивался на протяжении нескольких сотен лет. АССА стремится к тому, чтобы все заинтересованные стороны относились реалистично к этой особенности профессии. Аудиторы могут либо адаптировать стандарты для создания более детализированной и глубокой системы оценки рисков, либо смириться, как с обязательным условием, и продолжать уделять больше внимания самым сложным аспектам. Кроме этого, есть некоторые практические шаги, которые участники могут предпринять для уменьшения воздействия когнитивных искажений на всех этапах процесса, такие как: планирование, сбор данных за пределами аудиторской фирмы, коллективный просмотр документов, контроль качества и курирование аудита.
______________
1 — междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта.
Поделиться ссылкой на статью в соцсетях:
Биоаналоги теперь выглядят более надежно после первоначального скептицизма
Закон о снижении инфляции увеличил оплату Medicare за биоаналоги со стандартной средней продажной цены плюс 6% до 8%.
Не так давно биосимиляры были очень сомнительным предложением.
«Я отслеживаю биоаналоги уже не менее десяти лет, когда они впервые появились на рынке в 2015 году», — сказала Тасмина Хайдери, PharmD, MBA, заместитель директора по цифровым решениям в AmerisourceBergen, на специализированной аптеке Asembia 2023 года. Саммит в Лас-Вегасе.
«Было так много неизвестного — будут ли врачи, выписывающие рецепты, комфортно их прописывать, будут ли пациенты чувствовать себя комфортно, принимая их, когда их плательщики вообще покроют их расходы, и вообще, каков будет спрос».
Хайдери и ее коллега, Кейт Локхарт, фармацевт, доктор философии, исполнительный директор Консорциума коллективного разума биологических препаратов и биоаналогов, провели обзор рынка биоаналогов и обсудили последствия Закона о снижении инфляции.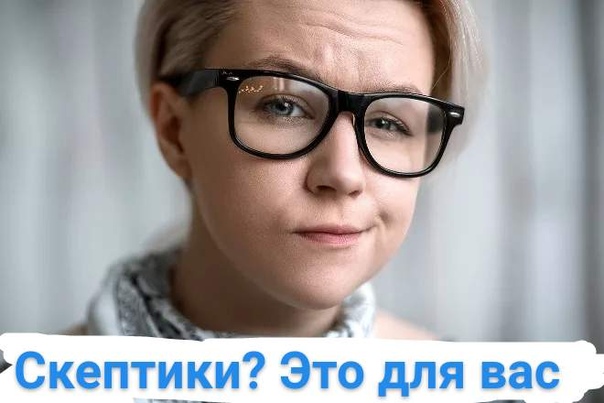 Хайдери поделился некоторыми выводами из опроса AmerisourceBergen 51 плательщика о биоаналогах.
Хайдери поделился некоторыми выводами из опроса AmerisourceBergen 51 плательщика о биоаналогах.
FDA одобрило 40 биоаналогов, 29 из них находятся на рынке. Хайдери отметил, что существует несколько биоаналогов для многих «эталонных» продуктов известных брендов. «Мы видим, что между самими биоаналогами на самом деле больше конкуренции. Это не просто один к одному с эталонным продуктом».
В этом году появились биоаналоги Хумиры (адалимумаб), и первый из них, Amjevita компании Amgen, появился на рынке в январе. Хайдери сказал, что в этом году могут быть запущены семь биоаналогов Humira. Cyltezo от Берингер Ингельхайм — единственный препарат, имеющий так называемый статус взаимозаменяемости, что означает, что его можно заменить на Хумиру на уровне аптеки.
Хайдери сказал, что исследование AmerisourceBergen показало, что взаимозаменяемость была самым важным фактором в решениях плательщика о покрытии биоаналогов. «Когда дело доходит до принятия, сообщалось, что взаимозаменяемость меняет правила игры, даже в большей степени, чем выход на рынок первыми или наличие определенных функций устройства, таких как отсутствие латекса», — сказала она.
Локхарт сказал, что важность, которую плательщики придают взаимозаменяемости, вызывает беспокойство, потому что это нормативная категория, которая влияет на легкость, с которой фармацевты могут отпускать биоаналоги вместо эталонного продукта, и не предназначена для указания того, что взаимозаменяемый биоаналог лучше, чем тот, который не взаимозаменяемы.
Чтобы обеспечить взаимозаменяемость, в большинстве случаев производители должны проводить исследования по переключению, в ходе которых пациенты несколько раз переключаются между биоаналогом и эталонным продуктом, чтобы определить, безопасно ли это изменение.
«Для нас в Соединенных Штатах это своего рода загадка, что у нас есть этот дополнительный слой, который в основном вызывает путаницу и увеличивает расходы для производителей. Но сейчас это действительно важная вещь на рынке США», — отметил Локхарт.
После Хумиры Стелера (устекинумаб) является следующей крупной рыбой на рынке биоаналогов. Хайдери заявила, что ожидается, что она потеряет патентную защиту в конце этого года, и что производители биосимиляров находятся на различных стадиях клинических испытаний. Энбрел (этанерцепт) компании Amgen — еще один биологический препарат, модулирующий иммунную систему, продажи которого ежегодно оцениваются в миллиарды долларов. Ремикейд (инфликсимаб) присутствует на рынке достаточно долго, чтобы иметь достоверную информацию о сравнении его и его биоаналогов. Она сказала, что продажи Remicade упали с 8,3 миллиарда долларов в 2021 году до 6 миллиардов долларов в 2022 году. Между тем, продажи Inflectra, биоаналога Remicade от Celltrion/Pfizer, удвоились с 1,5 до 3 миллиардов долларов, а продажи двух других биоаналогов Remicade, Avsola и Renflexis, также выросли. .
Энбрел (этанерцепт) компании Amgen — еще один биологический препарат, модулирующий иммунную систему, продажи которого ежегодно оцениваются в миллиарды долларов. Ремикейд (инфликсимаб) присутствует на рынке достаточно долго, чтобы иметь достоверную информацию о сравнении его и его биоаналогов. Она сказала, что продажи Remicade упали с 8,3 миллиарда долларов в 2021 году до 6 миллиардов долларов в 2022 году. Между тем, продажи Inflectra, биоаналога Remicade от Celltrion/Pfizer, удвоились с 1,5 до 3 миллиардов долларов, а продажи двух других биоаналогов Remicade, Avsola и Renflexis, также выросли. .
Начиная с 1 октября в течение пяти лет Центры услуг Medicare и Medicaid будут платить среднюю цену продажи плюс 8%, а не ASP плюс 6%, за биоаналоги, средняя цена продажи которых не превышает цену эталонного биологического продукта.
Чтобы стимулировать клиницистов к назначению биоаналогов, Закон о снижении инфляции увеличил оплату Medicare за биоаналоги со стандартной средней продажной цены плюс 6% до 8%. Но Локхарт сказал, что еще одна особенность закона, Центры услуг Medicare и Medicaid, согласовывающие цены на лекарства Medicare и отдающие предпочтение биологическим препаратам, у которых нет конкуренции с биоаналогами, может отпугнуть разработчиков биоаналогов.
Но Локхарт сказал, что еще одна особенность закона, Центры услуг Medicare и Medicaid, согласовывающие цены на лекарства Medicare и отдающие предпочтение биологическим препаратам, у которых нет конкуренции с биоаналогами, может отпугнуть разработчиков биоаналогов.
«Этот закон действительно имеет потенциально прямое влияние на биоаналоги, — сказал Локхарт. «Это может быть положительным моментом, когда они диктуют некоторые уровни возмещения для Medicare. Но… эта часть переговоров имеет некоторую сложность. Итак, мы, очевидно, не знаем [общего воздействия]. Но я думаю, что есть много предположений, и все очень внимательно следят за этим пространством из-за его влияния конкретно на биоаналоги».
Первоначально эта статья была опубликована в Managed Healthcare Executive.
Радикальный скептицизм и эпистемическая интуиция | Отзывы | Notre Dame Philosophical Reviews
Зенон рассудил, что движение невозможно. Но это не так. Поскольку мы знаем, что движение возможно, мы видим, что с рассуждениями Зенона должно быть что-то не так, даже если мы еще не определили, что именно. Рид утверждал, что то же самое относится и к скептическим аргументам, которые он нашел у Юма. Он сказал:
Рид утверждал, что то же самое относится и к скептическим аргументам, которые он нашел у Юма. Он сказал:
Зенон пытался продемонстрировать невозможность движения; [. . .] и этот автор [Юм], что нельзя отдавать должное ни нашим чувствам, ни нашей памяти, ни даже доказательствам. Такая философия справедливо смешна даже для тех, кто не может обнаружить ее ошибочность. Исследование человеческого разума , Гл. 1, §5
Назвав такую философию «справедливо смехотворной», Рид, очевидно, полагал, что у многих из нас есть веские основания отвергать ее: «Путешественник, обладающий здравым смыслом, может сбиться с пути и, сам того не подозревая, попасть на ложный путь; [. . .] но когда он заканчивается в угольной яме, не требуется большого здравого смысла, чтобы понять, что он ошибся, или, возможно, выяснить, что его сбило с пути» (IHM 1.8). Любое рассуждение, ведущее в «кофейную яму» скептицизма, может быть известно как вводящее в заблуждение в силу того, что оно противоречит частным случаям перцептивного, воспоминающего и демонстративного знания. Аналогичное отношение мы можем найти и у Мура, отвергавшего принципы скептика на основании большей уверенности в том, что вот рука, вот дерево и так далее. Несмотря на привычную критику, такое отношение убедительно; Отвержение утверждений, которые мы находим несовместимыми с тем, что мы знаем или во что обоснованно верим, кажется, лежит в самой основе рациональности.
Аналогичное отношение мы можем найти и у Мура, отвергавшего принципы скептика на основании большей уверенности в том, что вот рука, вот дерево и так далее. Несмотря на привычную критику, такое отношение убедительно; Отвержение утверждений, которые мы находим несовместимыми с тем, что мы знаем или во что обоснованно верим, кажется, лежит в самой основе рациональности.
В книге Майкла Бергманна « Радикальный скептицизм и эпистемическая интуиция » развивается «ответ в стиле Рейда на радикальный скептицизм» в этом духе (1; ср. 4–5, 112–16, 122–23). Подобно Рейду и Муру, Бергманн отвергает скептицизм в силу его противоречия с конкретными вещами, которые мы считаем известными или обоснованно верим. Но, в отличие от своих предшественников, реакция Бергмана на скептицизм «явно и сознательно опирается на эпистемическую интуицию» или «представления об эпистемической ценности или добродетели», такие как обоснование убеждения, рациональность или статус знания (4; ср. 123). Наши конкретные убеждения не только противоречат скептическим принципам, но эти убеждения подкрепляются нашими интуитивными представлениями об их эпистемологической добродетели — тем, что нам кажется, что они обоснованы или составляют знание. Для Бергманна такие кажущиеся явления служат «доказательством» этих убеждений (123). И мы можем апеллировать к этим свидетельствам, чтобы противостоять аргументам скептика, даже не определив, в чем именно они ошибочны. Бергманн называет этот ответ на скептицизм «интуиционистским партикуляристским антискептицизмом». Он «интуиционистский», поскольку использует интуитивные представления об эпистемологическом статусе наших убеждений. И он является «партикуляристским» в той мере, в какой, по крайней мере в начале исследования, эти интуиции касаются только частных случаев перцептивных, воспоминаний, интроспективных и априорных убеждений, а не общих эпистемологических принципов.
Для Бергманна такие кажущиеся явления служат «доказательством» этих убеждений (123). И мы можем апеллировать к этим свидетельствам, чтобы противостоять аргументам скептика, даже не определив, в чем именно они ошибочны. Бергманн называет этот ответ на скептицизм «интуиционистским партикуляристским антискептицизмом». Он «интуиционистский», поскольку использует интуитивные представления об эпистемологическом статусе наших убеждений. И он является «партикуляристским» в той мере, в какой, по крайней мере в начале исследования, эти интуиции касаются только частных случаев перцептивных, воспоминаний, интроспективных и априорных убеждений, а не общих эпистемологических принципов.
Внимание Бергманна к эпистемологическим интуициям — новшество. Он обещает раскрыть и защитить недооцененную черту исторического антискептицизма здравого смысла, как у Рида и Мура (1n1). Если он увенчается успехом, он может также пролить свет на более поздние попытки, такие как догматизм, выдвинутый Джимом Прайором, или дизъюнктивизм Джона Макдауэлла. Внимание Бергмана к эпистемологическим интуициям также приводит к интересным дискуссиям об эпистемической замкнутости (гл. 9 и 222–226) и об отношениях между скептической диалектикой и другими темами эпистемологии, включая интернализм и экстернализм (159).–170) и несогласие сверстников (гл. 12). В конечном счете, однако, я нахожу, что обращение Бергмана к эпистемологическим интуициям усугубляет, а не устраняет основные проблемы, связанные с ответами здравого смысла на скептицизм. И, возможно, неожиданным образом, я нахожу предложение Бергмана само по себе поразительно скептическим. Я кратко опишу книгу, а затем приведу аргументы в пользу этих утверждений.
Внимание Бергмана к эпистемологическим интуициям также приводит к интересным дискуссиям об эпистемической замкнутости (гл. 9 и 222–226) и об отношениях между скептической диалектикой и другими темами эпистемологии, включая интернализм и экстернализм (159).–170) и несогласие сверстников (гл. 12). В конечном счете, однако, я нахожу, что обращение Бергмана к эпистемологическим интуициям усугубляет, а не устраняет основные проблемы, связанные с ответами здравого смысла на скептицизм. И, возможно, неожиданным образом, я нахожу предложение Бергмана само по себе поразительно скептическим. Я кратко опишу книгу, а затем приведу аргументы в пользу этих утверждений.
Одной из сильных сторон книги является то, что она раскрывает общую применимость формы скептической аргументации, обычно выдвигаемой против перцептивного знания. Соответственно, часть I книги мотивирует параллельные скептические аргументы, нацеленные на множество различных классов утверждений. Основной шаг состоит в том, чтобы отметить, что «у нас есть проблема «пробел между доказательствами и правдой» для каждого из наших [. . .] основные способности» (107), включая восприятие (гл. 2), память (гл. 4), самоанализ, априорную интуицию и рассуждение (гл. 5). В каждом случае этот «пробел между доказательствами и правдой», по-видимому, подразумевает скептицизм в отношении соответствующего класса утверждений, учитывая, что, как утверждает Бергманн в гл. 3, разрыв не может быть преодолен никакими формами аргументации. Большая часть работы в гл. 2, 4 и 5, таким образом, посвящены утверждению, что все наши основные способности действительно подвержены «разрыву между доказательствами и правдой». В частности, Бергманн утверждает, что каждая основная способность производит в лучшем случае «видимость» и, соответственно, свидетельства, наличие которых не означает истинности того, что кажется таковым (22–26, 75–77, 85–9).0, 94–103, 104–106).
. .] основные способности» (107), включая восприятие (гл. 2), память (гл. 4), самоанализ, априорную интуицию и рассуждение (гл. 5). В каждом случае этот «пробел между доказательствами и правдой», по-видимому, подразумевает скептицизм в отношении соответствующего класса утверждений, учитывая, что, как утверждает Бергманн в гл. 3, разрыв не может быть преодолен никакими формами аргументации. Большая часть работы в гл. 2, 4 и 5, таким образом, посвящены утверждению, что все наши основные способности действительно подвержены «разрыву между доказательствами и правдой». В частности, Бергманн утверждает, что каждая основная способность производит в лучшем случае «видимость» и, соответственно, свидетельства, наличие которых не означает истинности того, что кажется таковым (22–26, 75–77, 85–9).0, 94–103, 104–106).
Часть II вводит интуиционистский партикуляристский антискептицизм (гл. 6), разъясняет и защищает его от основных опасений (гл. 7) и использует его для подрыва скептических аргументов из части I (гл.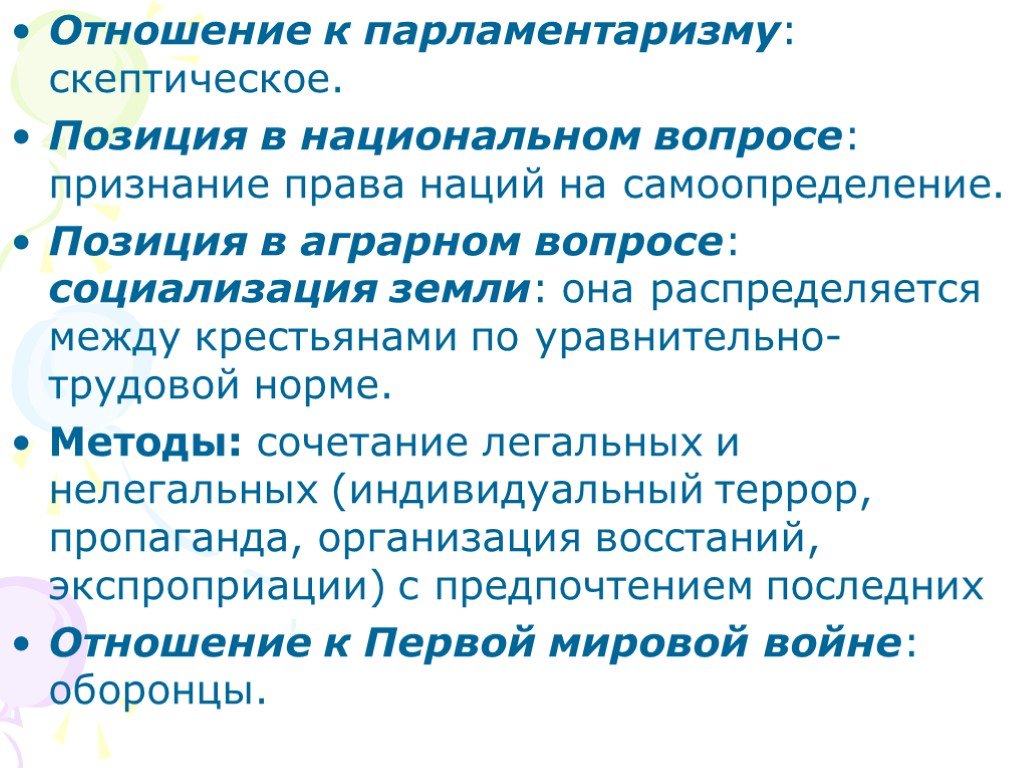 8). Затем Бергманн рассматривает и отвечает на две основные проблемы интуиционистского партикуляризма, а именно, что он ведет к порочной форме эпистемической замкнутости (гл. 9) и что он позволяет нелепым и безответственным убеждениям быть рациональными (гл. 10). Часть III продолжает защиту интуиционистского партикуляризма, противопоставляя опасениям относительно нормативного статуса эпистемических интуиций. Первый из них, отражающий скептицизм в части I, обнажает «пробел между доказательствами и истиной» для самих эпистемических интуиций (гл. 11). Другие касаются выводов из литературы о разногласиях между сверстниками (гл. 12) и экспериментальной философии (гл. 13), которые, по-видимому, подрывают доказательства наших эпистемических интуиций. Я ограничу свои комментарии реакцией Бергмана на скептицизм и лежащую в его основе методологию.
8). Затем Бергманн рассматривает и отвечает на две основные проблемы интуиционистского партикуляризма, а именно, что он ведет к порочной форме эпистемической замкнутости (гл. 9) и что он позволяет нелепым и безответственным убеждениям быть рациональными (гл. 10). Часть III продолжает защиту интуиционистского партикуляризма, противопоставляя опасениям относительно нормативного статуса эпистемических интуиций. Первый из них, отражающий скептицизм в части I, обнажает «пробел между доказательствами и истиной» для самих эпистемических интуиций (гл. 11). Другие касаются выводов из литературы о разногласиях между сверстниками (гл. 12) и экспериментальной философии (гл. 13), которые, по-видимому, подрывают доказательства наших эпистемических интуиций. Я ограничу свои комментарии реакцией Бергмана на скептицизм и лежащую в его основе методологию.
Хороший способ затронуть эту тему — отметить, что ответы здравого смысла на скептицизм подвергались критике за то, что они не диагноз скептицизма. Заявление Мура о большей уверенности в том, что «вот рука», чем, например, в принципах скептика, само по себе не говорит нам, какие принципов скептика следует отвергнуть и почему. Таким образом, кажется, что это оставляет нас в неведении относительно истинного источника скептицизма и того, как ему можно противостоять. Иногда кажется, что Бергманн осознает это беспокойство (хотя см. 200n18, 259). Например, в интересном обсуждении недавней работы Сюзанны Ринар (65–72) он отмечает, что признание скептицизма самоподрывом по-прежнему оставляет скептические аргументы нетронутыми и, по-видимому, столь же убедительными (70). Может ли интуиционист-партикулярист определить, где скептик ошибается?
Заявление Мура о большей уверенности в том, что «вот рука», чем, например, в принципах скептика, само по себе не говорит нам, какие принципов скептика следует отвергнуть и почему. Таким образом, кажется, что это оставляет нас в неведении относительно истинного источника скептицизма и того, как ему можно противостоять. Иногда кажется, что Бергманн осознает это беспокойство (хотя см. 200n18, 259). Например, в интересном обсуждении недавней работы Сюзанны Ринар (65–72) он отмечает, что признание скептицизма самоподрывом по-прежнему оставляет скептические аргументы нетронутыми и, по-видимому, столь же убедительными (70). Может ли интуиционист-партикулярист определить, где скептик ошибается?
Ключевая предпосылка скептических аргументов, которым Бергманн сопротивляется в гл. 8 является утверждением, что убеждение может быть подтверждено свидетельством, которое не подразумевает его истинность, только если оно дополнено аргументом, который устраняет разрыв между свидетельством и истиной (см. , 78, 91 и 151). Бергман отвергает эту предпосылку и принимает ее отрицание, а именно, что свидетельство p может в некоторых случаях оправдать веру в то, что p , даже если обладание этим свидетельством не подразумевает p (152–53). Он считает, что такой шаг оправдан, потому что «партикуляристские неинференциальные антискептики [. . .] имеют очень сильную эпистемическую интуицию, что, по крайней мере, некоторые из их перцептивных, памяти и априорных убеждений [. . .] рациональные — интуиции, намного более сильные, чем любые эпистемические интуиции, которыми они располагают в поддержку ключевых эпистемологических предпосылок скептических аргументов» (234–35; ср. 201–202, 222).
, 78, 91 и 151). Бергман отвергает эту предпосылку и принимает ее отрицание, а именно, что свидетельство p может в некоторых случаях оправдать веру в то, что p , даже если обладание этим свидетельством не подразумевает p (152–53). Он считает, что такой шаг оправдан, потому что «партикуляристские неинференциальные антискептики [. . .] имеют очень сильную эпистемическую интуицию, что, по крайней мере, некоторые из их перцептивных, памяти и априорных убеждений [. . .] рациональные — интуиции, намного более сильные, чем любые эпистемические интуиции, которыми они располагают в поддержку ключевых эпистемологических предпосылок скептических аргументов» (234–35; ср. 201–202, 222).
Почему наша сильная эпистемическая интуиция должна давать нам основания для сопротивления противоречивым утверждениям? Один из возможных ответов заключается в том, что рациональность требует последовательности в наших убеждениях и интуитивных представлениях и, таким образом, оправдывает отказ от наиболее слабых из любых конфликтующих убеждений или интуитивных представлений. Но этот ответ сталкивается по крайней мере с тремя проблемами. Во-первых, неясно, почему такой ответ мотивирует обращение к эпистемологическим интуициям, а не, например, к перцептивным убеждениям. Во-вторых, с точки зрения самого Бергмана, эпистемические интуиции как своего рода «кажущиеся» не связаны требованиями непротиворечивости; «нет ничего иррационального в явно противоречивых представлениях» (131). В-третьих, чьи-то убеждения и интуиция могут быть последовательными, но не истинными, правдоподобными или хорошо обоснованными. Кто-то с крайне неправдоподобной эпистемологической интуицией, которую она должна , а не — нет оснований сопротивляться скептическим аргументам.
Но этот ответ сталкивается по крайней мере с тремя проблемами. Во-первых, неясно, почему такой ответ мотивирует обращение к эпистемологическим интуициям, а не, например, к перцептивным убеждениям. Во-вторых, с точки зрения самого Бергмана, эпистемические интуиции как своего рода «кажущиеся» не связаны требованиями непротиворечивости; «нет ничего иррационального в явно противоречивых представлениях» (131). В-третьих, чьи-то убеждения и интуиция могут быть последовательными, но не истинными, правдоподобными или хорошо обоснованными. Кто-то с крайне неправдоподобной эпистемологической интуицией, которую она должна , а не — нет оснований сопротивляться скептическим аргументам.
Бергманн, кажется, знает об этой третьей проблеме. В конце концов, он считает некоторые последовательные наборы эпистемических интуиций «смехотворными» (192–96) или вызывающими «вопросы или сомнения» (186–87; ср. 183). Соответственно, он иногда описывает свой антискептицизм как зависящий от «рациональных» или «рационально проводимых» эпистемических интуиций. Он говорит, например, что «если убеждение рационально поддерживается с очень высокой степенью уверенности, скептическое возражение должно быть чрезвычайно убедительным, если оно должно сделать рациональным отказ от этого убеждения» (258, курсив мой; см. 253). Но Бергман неоднозначно относится к тому, насколько важен здесь модификатор «рациональный». Его часто опускают, и он также предлагает промежуточную позицию, а именно, что достаточно, если относительная сила эпистемической интуиции человека кажутся ей рациональными (186, 195, 201, 129, 208, 259). Амбивалентность Бергмана может, возможно, отражать тот факт, что, с его точки зрения, интуиция или вера в то, что чьи-то твердо поддерживаемые эпистемические интуиции хороши, и сделают эти интуиции рациональными, и сделают рациональными веру в них. Но такая интуиция могла быть у кого-то с крайне неправдоподобной эпистемической интуицией. Итак, мы, кажется, застряли с нашей третьей проблемой.
Он говорит, например, что «если убеждение рационально поддерживается с очень высокой степенью уверенности, скептическое возражение должно быть чрезвычайно убедительным, если оно должно сделать рациональным отказ от этого убеждения» (258, курсив мой; см. 253). Но Бергман неоднозначно относится к тому, насколько важен здесь модификатор «рациональный». Его часто опускают, и он также предлагает промежуточную позицию, а именно, что достаточно, если относительная сила эпистемической интуиции человека кажутся ей рациональными (186, 195, 201, 129, 208, 259). Амбивалентность Бергмана может, возможно, отражать тот факт, что, с его точки зрения, интуиция или вера в то, что чьи-то твердо поддерживаемые эпистемические интуиции хороши, и сделают эти интуиции рациональными, и сделают рациональными веру в них. Но такая интуиция могла быть у кого-то с крайне неправдоподобной эпистемической интуицией. Итак, мы, кажется, застряли с нашей третьей проблемой.
Возможно, Бергманн считает, что эта проблема должна быть решена позже с помощью более надежной теории рациональности или обоснования. В самом деле, Бергманн считает достоинством своего «интуиционистского подхода» то, что он «экуменический в том смысле, что его могут принять как интерналисты, так и экстерналисты, каждый из которых (конечно же) продолжит его развивать [. . .] по-своему». Это дальнейшее развитие могло бы, по-видимому, включать условия того, что делает эпистемическую интуицию хорошей. Бергманн подчеркивает свой «экуменизм», чтобы «расширить привлекательность этого подхода» (164), рекламируя его доступность для тех, кто придерживается самых разных эпистемологических убеждений.
В самом деле, Бергманн считает достоинством своего «интуиционистского подхода» то, что он «экуменический в том смысле, что его могут принять как интерналисты, так и экстерналисты, каждый из которых (конечно же) продолжит его развивать [. . .] по-своему». Это дальнейшее развитие могло бы, по-видимому, включать условия того, что делает эпистемическую интуицию хорошей. Бергманн подчеркивает свой «экуменизм», чтобы «расширить привлекательность этого подхода» (164), рекламируя его доступность для тех, кто придерживается самых разных эпистемологических убеждений.
С другой стороны, Бергманн поясняет, что его антискептическая стратегия доступна только тем, у кого развита здравая интуиция. Скептик, как он ее обычно изображает, имеет более сильные интуитивные представления об эпистемической добродетели ее общих скептических принципов, чем ее конкретных убеждений восприятия или воспоминаний (244–45; хотя 235n7). Соответственно, Бергманн не заинтересован в том, что он называет « прозелитизмом », или стремлением «убедить радикальных скептиков (рациональной силой!) передумать» (145–46). Вместо этого он занимается « автодидактический »дело «приведения в порядок собственного антискептического дома» (146–47). Это «рассмотрение того, что должен думать партикуляристский неинференциальный антискептик в свете своих собственных эпистемических интуиций о том, чего требует рациональность в ответ на вопросы, которые ставят» скептики (176n9, 199n16; ср. 146, 245n25). По его словам, такой шаг может быть «респектабельным» и «относиться к нему серьезно, поскольку он [. . .] признает привлекательность скептических возражений, основанных на заманчивых эпистемических интуициях, в поддержку эпистемических принципов, которые скептик использует в качестве посылок» (147–48). Предположение, по-видимому, состоит в том, что интуиционистский партикулярист должен чувствовать некоторые опираются на скептические принципы — должны «пытаться оценить любую силу, которую они имеют» (213) — но могут в конечном итоге отвергнуть их на основании более прочных эпистемических интуитивных представлений о конкретных убеждениях.
Вместо этого он занимается « автодидактический »дело «приведения в порядок собственного антискептического дома» (146–47). Это «рассмотрение того, что должен думать партикуляристский неинференциальный антискептик в свете своих собственных эпистемических интуиций о том, чего требует рациональность в ответ на вопросы, которые ставят» скептики (176n9, 199n16; ср. 146, 245n25). По его словам, такой шаг может быть «респектабельным» и «относиться к нему серьезно, поскольку он [. . .] признает привлекательность скептических возражений, основанных на заманчивых эпистемических интуициях, в поддержку эпистемических принципов, которые скептик использует в качестве посылок» (147–48). Предположение, по-видимому, состоит в том, что интуиционистский партикулярист должен чувствовать некоторые опираются на скептические принципы — должны «пытаться оценить любую силу, которую они имеют» (213) — но могут в конечном итоге отвергнуть их на основании более прочных эпистемических интуитивных представлений о конкретных убеждениях.
Бергманн, однако, не отвергает всех принципов, действующих в скептических рассуждениях. Некоторые должны быть приняты, думает он, если серьезно относиться к скептицизму. К ним относится «интуиция Нового Злого Демона» — интуиция, согласно которой восприятие предоставило бы вам те же доказательства, что и сейчас, когда вы воспринимаете вещи такими, какие они есть на самом деле, если бы все казалось вам тем же самым, будучи жертвой обмана демона ( 23). Эта интуиция, наряду с аналогами для других наших основных способностей, играет решающую роль в скептических аргументах Бергмана (как посылка 4). Дизъюнктивисты пытаются избежать скептицизма, отрицая эту интуицию. По их мнению, отрицание того, что одни и те же свидетельства доступны как в подлинных случаях восприятия, так и в неразличимых ложных восприятиях, позволяет нам придерживаться здравого смысла, согласно которому подлинные случаи могут предоставить убедительные доказательства того, что мы, кажется, воспринимаем. Такого свидетельства достаточно, чтобы на его основе сформировать знание. Но, пытаясь таким образом обезоружить скептицизм, Бергманн утверждает: « недооценивать привлекательность скептицизма» (24).
Но, пытаясь таким образом обезоружить скептицизм, Бергманн утверждает: « недооценивать привлекательность скептицизма» (24).
Может ли Бергманн объяснить, почему это так? Интуиция, которую отрицают дизъюнктивисты, действительно может быть общепринятой. Но так же обстоит дело и со скептическим принципом, который Бергманн отрицает на основании своих эпистемических интуиций; это тоже было широко распространено (28) и «имеет некоторые [. . .] обращение» (152). В целом я нахожу логику Бергмана относительно того, какие скептические принципы следует чувствовать или принимать и в какой степени, совершенно непрозрачной. Его «логика» может, в конце концов, зависеть от его собственного специфического набора эпистемологических интуиций. Но если это так, то это показывает, в какой степени его исследование действительно «самодидактично». Он не только не стремится изменить мнение скептика. Он даже не стремится убедить антискептиков здравого смысла с различными эпистемологическими интуициями. Бергман признает это, по крайней мере, в отношении тех, кто обладает «нелепой» антискептической интуицией (19).6). Но так ли «смехотворны» интуиции дизъюнктивистов? Как насчет антискептика, который чувствует , что оправдание требует осознания истины, или что возражения соучастников вины имеют силу, или что несогласие сверстников ослабляет доказательства? Бергманн утверждает, что интуиционистский партикулярист будет отрицать все три эти интуиции под страхом скептицизма (166, 195, 250–51). Но это говорит о том, что любой, кто твердо придерживается этих интуитивных представлений, останется непоколебимым. Это угрожает свести интуитивистский партикуляризм Бергмана к простому самоотчету о его собственных интуициях и их относительной силе.
Бергман признает это, по крайней мере, в отношении тех, кто обладает «нелепой» антискептической интуицией (19).6). Но так ли «смехотворны» интуиции дизъюнктивистов? Как насчет антискептика, который чувствует , что оправдание требует осознания истины, или что возражения соучастников вины имеют силу, или что несогласие сверстников ослабляет доказательства? Бергманн утверждает, что интуиционистский партикулярист будет отрицать все три эти интуиции под страхом скептицизма (166, 195, 250–51). Но это говорит о том, что любой, кто твердо придерживается этих интуитивных представлений, останется непоколебимым. Это угрожает свести интуитивистский партикуляризм Бергмана к простому самоотчету о его собственных интуициях и их относительной силе.
В этом отношении антискептический проект Бергмана выглядит значительно более «скромным», чем у других современных антискептиков, не стремящихся убедить скептика, таких как Прайор или Тимоти Уильямсон. Но в одном отношении он более «амбициозный»: Бергман время от времени выражает «надежду», что его самодидактическое исследование может привлечь других — даже скептиков — к его образу мышления (147, 249). Но он оставляет загадкой, что могло привести к этому. В частности, его интуитивистская методология предполагает, что он может никогда не быть рациональным, чтобы радикально изменить свою интуицию. Казалось бы, это требует отказа от более сильных интуитивных представлений в пользу более слабых — или же какого-то нерационального процесса обретения новых интуитивных представлений. Это кажется мне довольно пессимистическим взглядом на философскую диалектику. Это кажется равносильным отрицанию того, что у нас есть какой-либо рациональный метод или критерий для решения вопросов веры и знания, который не зависит от того, во что мы уже верим (или чувствуем). Мне трудно отделить эту точку зрения от самого скептицизма. В конце концов, кто, как не скептик, будет отрицать существование непроизвольного метода или критерия для решения таких вопросов?
Но он оставляет загадкой, что могло привести к этому. В частности, его интуитивистская методология предполагает, что он может никогда не быть рациональным, чтобы радикально изменить свою интуицию. Казалось бы, это требует отказа от более сильных интуитивных представлений в пользу более слабых — или же какого-то нерационального процесса обретения новых интуитивных представлений. Это кажется мне довольно пессимистическим взглядом на философскую диалектику. Это кажется равносильным отрицанию того, что у нас есть какой-либо рациональный метод или критерий для решения вопросов веры и знания, который не зависит от того, во что мы уже верим (или чувствуем). Мне трудно отделить эту точку зрения от самого скептицизма. В конце концов, кто, как не скептик, будет отрицать существование непроизвольного метода или критерия для решения таких вопросов?
Обращение Бергмана к эпистемологическим интуициям, по-видимому, усиливает ответ здравого смысла на скептицизм. В конце концов, я думаю, что это не поможет.


 В случае, когда аудитор уверен в отсутствии противоречий и ошибок, он может недооценить доказательства, говорящие об обратном.
В случае, когда аудитор уверен в отсутствии противоречий и ошибок, он может недооценить доказательства, говорящие об обратном.